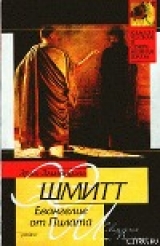
Текст книги "Евангелие от Пилата"
Автор книги: Эрик-Эмманюэль Шмитт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Иегуда успокаивал меня:
– На третий день ты вернешься. Я буду рядом. И сожму тебя в своих объятиях.
Иегуда никогда не сомневался. Я слушал его часами, я слушал его успокоительные речи, пробивавшие толщу моей неуверенности.
– На третий день ты вернешься. Я буду рядом. И сожму тебя в своих объятиях.
Близилась Пасха. Праздник Опресноков казался мне удобным для свершения задуманного, поскольку весь народ Израиля явится для молитвы в Храм. И мы снова отправились в Иерусалим.
По пути мне пришлось избегать больных и увечных, которые рвались ко мне. Я отказывался творить чудеса, ибо чудеса нужны лишь неверующим, давая им пищу для болтовни, но не для размышления.
В Вифании ко мне с плачем бросились Марфа и Мириам, сестры Лазаря:
– Иешуа, Лазарь умер. Он умер три дня назад.
На протяжении моей жизни умерли уже многие из близких мне, и я привык к внезапному трауру, но здесь, остановившись у источника Вифании, я, сам не знаю почему, расплакался вместе с двумя женщинами. Я ощущал в смерти моего дорогого Лазаря предвестие своей собственной судьбы. Я ощущал, что силы небытия берут верх над силами жизни. Я чувствовал, что зло всегда будет побеждать. Лазарь предшествовал мне в смерти, указывая, что жизнь моя близится к завершению.
Каким грузом легла эта искренняя печаль на нас, Мириам, Марфу и меня, пока мы рыдали, обнявшись! Я руками и телом касался их живых тел и с ужасом повторял себе, что они тоже обратятся в прах.
Когда слезы иссякли, сердце мое так и не получило умиротворения. Я захотел увидеть Лазаря.
Ради меня откатили в сторону камень, закрывавший вход в могилу, и я вошел в склеп, выбитый в скале. Тяжелый погребальный запах смирны наполнял воздух. Я приподнял пелены и увидел иссохшее, зеленовато-восковое лицо своего друга Лазаря. Я улегся рядом с ним на плиту. Я всегда считал Лазаря своим старшим братом, которого у меня не было в жизни. Теперь он стал моим старшим братом в смерти.
Я начал молиться. Я опустился в колодезь любви. Я хотел знать, нет ли его там. Я увидел ослепительный свет, но ничего не узнал. «Все хорошо, – привычно повторял Отец мой. – Все хорошо, не волнуйся».
Когда я вынырнул из колодезя, Лазарь сидел рядом со мной. Он с невероятным удивлением смотрел на меня.
– Лазарь, ты жив! Понимаешь? Ты жив!
Слова, похоже, не доходили до него. Он был поражен и пытался произнести что-то, но язык не слушался его.
– Лазарь, ты воскрес!
Черты его лица ничего не выражали; глаза то и дело закатывались, словно его клонило в сон.
Я подхватил его под руки и вывел из тьмы на свет.
Невозможно описать волнение учеников и сестер, когда они увидели нас выходящими из склепа. Родные бросились обнимать и целовать Лазаря. А он был растерян, безволен и, похоже, ничего не понимал. Он совершенно онемел. Даже не знаю, осталась ли в нем хоть крупица ума. Он превратился в собственную тень. Неужели таков шок от воскрешения? Мне говорили, что он находился в таком состоянии в последние дни своей болезни.
Издевательский голос, голос сатаны, терзал мою душу:
– А ты уверен, что он был мертв?
Я пытался заглушить сатану. Но его голос звучал все громче:
– Согласен, он восстал из мертвых, но ради чего? В чем смысл? Какой знак он тебе подал?
Я уединился и в полном отчаянии начал молиться. Ладонь Иегуды легла на мое плечо, и я вздрогнул. Он весь светился верой.
– На третий день ты вернешься. Я буду там. И сожму тебя в своих объятиях.
Боже, почему я не наделен верой Иегуды? Неужели я всегда буду сомневаться? Ни один из твоих ответов, Боже, не дал мне успокоения. Знаки твои не в силах развеять мой страх.
Мы присоединились к праздничному пиру, который уже шумел вокруг живого, но пребывающего в оцепенении Лазаря. Я пытался думать о счастье Марфы и Мириам, видя нежные ласки, которыми они осыпали молчаливого старшего брата, с безучастным видом сидевшего рядом с нами. Меня мучили угрызения совести: я был в ответе за его возвращение, за его состояние полумертвеца. Отец мой сотворил чудо, чтобы успокоить меня, и только меня, чтобы объяснить, что я тоже восстану из мертвых, но в отличие от Лазаря буду владеть речью. Ради меня он пожертвовал покоем Лазаря. Слезы стыда заливали мне лицо.
И из колодезя до меня донесся голос, и голос сказал, что любовь, великая любовь, порой не имеет ничего общего со справедливостью. Любовь часто бывает жестокой; и Он, Отец мой, тоже будет плакать, когда увидит меня распятым на кресте.
И вот мы пришли на Масличную гору.
В последние часы путешествия я думал о том, как защитить учеников. Арестовать должны были меня, и только меня, за богохульство и безбожие; мою вину не должны были разделить друзья; надо было спасти учеников. Только я должен был испить эту горькую чашу до дна.
Как ученикам избежать кары?
У меня было два выхода: сдаться или организовать на себя донос.
Я не имел права сдаваться. Ибо тогда я признавал власть синедриона. Сдаться означало покориться ему, то есть отвергнуть, перечеркнуть проделанный мною путь.
Тогда я позвал двенадцать своих учеников. Руки и губы мои дрожали, ибо только я один знал, что мы собрались в последний раз. Как всякий еврей, глава дома, я взял хлеб, благословил его молитвой, преломил и предложил собравшимся. Я был чрезвычайно взволнован, когда благословлял вино и наливал его им.
– Всегда помните обо мне, о нас, о наших странствиях. Помните обо мне, преломляя хлеб. Даже когда меня не будет с вами, тело мое будет вашим хлебом, а кровь моя – вашим вином. Мы остаемся живыми, пока купаемся в любви близких.
Они вздрогнули. Ибо не ожидали таких речей.
Я оглядел этих суровых людей во цвете лет, и вдруг мне захотелось окружить их безмерной заботой и нежностью. Любовь струилась из моего сердца.
– Дети мои, я расстанусь с вами ненадолго. Вскоре мир меня больше не увидит. Но вы, вы всегда будете меня видеть, ибо я останусь жить в вас, а вы будете жить мною. Возлюбите друг друга, как я возлюбил вас. Нет большей любви, чем пожертвовать жизнью ради друзей.
На глазах их появились слезы. Но я не хотел, чтобы они размягчились от нежности.
– Дети мои, вначале вы будете плакать, но ваша печаль обратится в радость. Рожая, женщина мучится, ибо пришел ее час, а родив ребенка, забывает о муках, радуясь, что родился в мир человек.
Потом – и это было самым трудным – я должен был открыть им свой план.
– Истинно говорю вам, один из вас вскоре предаст меня.
Дрожь непонимания пробежала по их телам. Они с криками начали протестовать.
Молчал только Иегуда. Только Иегуда понял. Он стал бледнее восковой свечи. Его черные глаза пронзали меня.
– Им буду я, Иешуа?
Он осознал глубину жертвы, которую я требовал от него. Он должен был продать меня. Я выдержал его взгляд, дав ему понять, что могу требовать только от него, от любимого ученика, чтобы он пожертвовал собой. Только так я мог принести в жертву себя.
Он понял меня и молчаливо согласился.
Мы опустили глаза, и пиршество продолжилось. Ни он, ни я не имели сил говорить. Ученики, казалось, забыли о случившемся.
Наконец Иегуда встал и сказал мне на ухо:
– Я ухожу. Мне надо кое с кем повидаться.
Я посмотрел ему в глаза и сказал со всей признательностью, которую сумел выразить:
– Благодарю тебя.
Расстроенный, он обнял меня изо всех сил, словно нас собирались растащить в разные стороны. Я чувствовал на шее его слезы – он беззвучно плакал.
Потом он взял себя в руки и шепнул мне на ухо:
– На третий день ты вернешься. Но меня там не будет. И я не сожму тебя в своих объятиях.
На этот раз я удержал его. Я шепнул:
– Иегуда, Иегуда! Как ты поступишь?
– Я продам тебя синедриону. Приведу стражей на Масличную гору. Укажу на тебя. А потом повешусь.
– Нет, Иегуда, я не желаю.
– Ты же идешь на крест! А я имею право повеситься!
– Иегуда, я прощаю тебя.
– Но я не прощаю себе!
И он ушел.
Остальные ученики, наивное и нежное стадо, будут последними, кто заподозрит зло или уловит хитрость. Они ничего не поняли в этой сцене.
Но мать моя, сидевшая в темном уголке, догадалась обо всем. Ее глаза расширились от беспокойства, она в упор смотрела на меня, вопрошала, требовала опровергнуть свершившееся. Я не отвечал ей, и она поняла, что меня ждет, и из горла ее вырвался крик раненого зверя.
Я подошел к ней и сел рядом. Она захотела меня утешить, дала понять, что примет все, что уже все приняла. Она улыбнулась мне. Я улыбнулся ей. И мы долго сидели рядом, объединенные общей улыбкой.
Я смотрел на ее лицо, которое первым увидели мои глаза; завтра они закроются в ее присутствии. Я смотрел на ее губы, которые напевали мне колыбельные песни; я никогда не целовал ничьих других губ. Я смотрел на свою старенькую мать, которую безмерно любил, и шептал ей: «Прости меня».
Свершилось. Я вглядываюсь в ночь. Черное жестокое небо. Ветер доносит до меня запах смерти, запах клетки со львами.
Через несколько часов все будет кончено. Через несколько часов станет известно, был я посланцем Отца моего или простым безумцем. Еще одним.
Великое доказательство, единственное доказательство будет предъявлено только после моей смерти. Если я ошибся, то даже не узнаю о заблуждении, я буду плавать в небытии, равнодушный и лишенный сознания. Если я прав, то постараюсь не творить из этого триумфа, а понесу остальным радостную весть. Ибо, будучи правым или неправым, я никогда не жил ради себя. И умру не ради себя.
Даже если сегодня вечером меня убедят в моей неправоте, я не отступлюсь.
Ибо, проиграв, я ничего не потеряю. Но, выиграв, я выиграю все. И отдам выигрыш людям.
Боже, сделай так, чтобы в последнее мгновение я оказался на высоте своей судьбы. Чтобы боль не заставила меня усомниться!
Нет, я выдержу, буду тверд. Ни единый крик боли не сорвется с моих уст. Как я нерешителен в своей вере! Как природа противится милосердию! Иешуа, возьми себя в руки. То, чего я опасаюсь, ничто по сравнению с тем, на что я надеюсь.
Меж деревьев появилась стража. Иегуда несет фонарь и ведет солдат. Он приближается ко мне. И указывает на меня.
Я боюсь.
Я сомневаюсь.
Я жажду спасения.
Отец мой, почему ты покинул меня?
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ПИЛАТА
Пилат своему дорогому Титу
Я ненавижу Иерусалим. Воздух, которым здесь дышат, не воздух, а сводящая с ума отрава. Все становится чрезмерным в этом лабиринте улиц, которые проложены не для того, чтобы вести в нужном направлении, а для того, чтобы человек потерялся в них. На дорогах здесь не двигаешься, а постоянно с кем-то сталкиваешься. Повсюду смешение языков стекающихся со всего Востока народов, которые говорят только ради того, чтобы не слышать друг друга. Здесь слишком пронзительно кричат на улицах и слишком много шепчутся по домам. Здесь не соблюдают римский порядок, потому что его ненавидят. Город задыхается от лицемерия и подавленных страстей. Даже солнце, выглядывающее из-за крепостных стен, кажется предателем. Здесь невозможно поверить, что одно и то же солнце сияет над Римом и ползет над Иерусалимом. Солнце Рима дарит свет. Солнце Иерусалима сгущает тени: оно создает темные уголки, в которых плетутся заговоры, коридоры, по которым разбегаются воры, возводит храмы, куда римлянин не имеет права ступить ногой. Солнце-светило против солнца – создателя тьмы, я променял первое на второе, когда согласился стать прокуратором Иудеи.
Я ненавижу Иерусалим. Но есть кое-что, что я ненавижу больше Иерусалима. Это – Иерусалим во время Пасхи.
Я не писал тебе целых три дня, поскольку не мог ни на мгновение ослабить бдительность. Праздник Опресноков приводит мои нервы в полное расстройство, а моих людей держит в постоянной тревоге: я удваиваю количество солдат-стражников, постоянно рассылаю патрули, отправляю своих соглядатаев на разведку, выжимаю доносчиков, как апельсин, усиливаю собственную бдительность. Если Израиль вздумает угрожать Риму, то он может это сделать как раз в эти три дня пасхальных празднеств. Город переполняется людьми, разбухает, еврейское население увеличивается в пять раз, поскольку все стремятся в Храм, чтобы вознести молитвы своему единственному богу. По ночам те, кто не нашел пристанища на постоялых дворах или в домах, собираются под стенами города или заполоняют окрестные холмы, где спят вповалку под открытым небом. Днем их религия требует жертвоприношений и превращает Иерусалим в громадную ярмарку скота, рядом с которой возникают скотобойни. Тысячи животных ревут сначала в ожидании, а потом в агонии. По улицам растекаются и густеют кровавые реки. Люди собирают шкуры, шерсть, перья – все это сушится прямо на улице и издает невыносимое зловоние. На тех же улицах горят костры, дым поднимается в небо, пачкая сажей стены. Всепроникающая вонь горящего жира наводит на мысль, что сам город поджаривается на углях, принося себя в жертву своему равнодушному и ненасытному богу. Все эти три дня я не спускаюсь с террасы и с отвращением разглядываю Иерусалим, заполненный толпами людей. Я слышу доносящиеся с забитых народом улиц крики проводников, сзывающих паломников, чтобы показать им могилы пророков. Отовсюду доносится жалобное блеяние ягнят, призывный свист блудниц из подворотен. Иногда толпу разрезает серебристая молния – один из голых воров, натершись маслом, выскальзывает из рук преследователей, оставляя позади себя пустые кошельки и гроздья проклятий.
Ежегодно в эти три дня я боюсь всего на свете. И все же ежегодно я справляюсь со всеми трудностями Все всегда проходило нормально. Никогда не возникало особо опасных происшествий. На этот раз для поддержания порядка нам пришлось прибегнуть к пятнадцати арестам и распять трех человек, что намного меньше, чем в прошлые годы.
А значит, я смогу со спокойной душой отбыть в Кесарию, где я себя так хорошо чувствую, ведь это – со временный римский город, разделенный на квадраты в котором приятно пахнет кожей и казармой. Там, в твоей крепости, мне иногда удается забыть о волнениях, которые всегда держат меня за глотку, когда я прибываю в Палестину. Сейчас, когда я заканчиваю это письмо, разгорается утренняя заря. Наступает воскресенье, и скоро я велю приготовить багаж. Как обычно, я провел ночь за письмом тебе.
Иудея лишает меня сна уже давно, но эти жаркие ночи позволяют нам, дорогой мой брат, поддерживать машу переписку.
Протягиваю тебе руку из Палестины в Рим. Прости меня за всегдашнюю суровость стиля и береги здоровье.
Пилат своему дорогому Титу
– Тело исчезло!
В момент, когда я сворачивал свиток с адресованным тебе письмом, центурион Бурр принес мне эту ошеломляющую весть.
– Тело исчезло!
Я сразу понял, что он говорил об этом колдуне из Назарета. И сразу увидел, какие неприятности меня ожидают, если немедленно не отыскать труп.
Позволь мне в нескольких словах изложить дело колдуна из Назарета.
Вот уже несколько лет во всей Иудее говорят о некоем Иешуа, раввине-отступнике. Сначала он ничем не отличался от других: невыразительная внешность, говор галилейского бродяги, мешающий общению с себе подобными. Но главное, он происходил из Назарета, какого-то захолустья, а этого вполне достаточно, чтобы он не приобрел особой популярности. Но его всегда чуть таинственные речи человека не от мира сего, его двусмысленные фразы, его восточные притчи, то призывающие к миру, то воинственные, его благожелательное отношение к женщинам, короче говоря, его странности позволили ему постепенно покорить души людей. Как только он начал шествие по Палестине, я послал к нему своих соглядатаев. Они отписали мне, что человек выглядит безобидным, занимается только религиозными вопросами, а его врагами, по его же словам, были скорее иудейские священнослужители, чем римские захватчики. И все же люди мои были удивлены.
Не веря никому, я, чтобы выведать, куда все это ведет, внедрил своих людей в группу его учеников, которая постоянно росла, словно питаясь его словами…
Здесь любая религиозная секта скрытно занимается политикой. С тех пор как Рим установил свой порядок, ввел войска и поставил свое правление, оставив местному населению свободу исповедания своих культов, религиозный экстаз стал проявлением своеобразного национализма, священным убежищем, где зреет сопротивление Цезарю. Я подозреваю, что многие называют себя иудеями ради одной цели: они заявляют – я против Рима. Фарисеи и даже саддукеи, которых я контролирую, поклоняются своему единому богу только ради того, чтобы сильнее возненавидеть наших богов и все то, что мы несем на покоренные земли. Что касается зелотов, ярых врагов Цезаря и врагов любого, кто сотрудничает с Цезарем, то они – опасные фанатики, ненавидящие нас, разбойники, которые не уважают ни один закон, даже свой собственный, которые считают греховным все то, что осуждают сами. Они могли бы, не будь я настороже, поколебать нашу власть и даже уничтожить собственную страну, выплеснув наружу свою варварскую энергию. Поэтому я хотел достоверно знать, к кому примкнет этот Иешуа: к зелотам, фарисеям, саддукеям, или он действительно является наивным верующим, как мне доносили шпионы. Я хотел выведать, какая группа собирается воспользоваться его популярностью и превратить его в средство борьбы против меня. К моему величайшему удивлению, ничего похожего не произошло. Колдун, как я его называю, только настроил против себя всех и вся. Зелоты возненавидели его, когда он оправдал присутствие моих войск и римский налог, заявив: «Отдайте Кесарю кесарево». Фарисеи уличили его в нарушении Закона, когда колдун презрел Субботу. Что касается саддукеев, консерваторов и старших храмовых служителей, то они не могли стерпеть наглости этого раввина, который предпочитает говорить о здравом смысле, а не долдонить одни и те же слова из абсурдных священных текстов. К тому же они опасались за свою власть, а потому добились в эти самые дни казни колдуна.
«Экая важность? – скажешь ты. – Твои враги сами избавляются от потенциального противника! Ты должен только радоваться…»
Конечно.
«К тому же он мертв, – добавил бы ты. – Тебе больше нечего бояться!»
Конечно.
Но есть опасение, что в этом деле была допущена некая поспешность. Я не осуществил правосудия, римского правосудия, а исполнил их правосудие, правосудие моих противников, правосудие саддукеев, одобренное фарисеями. Я избавил этих евреев от еврея, который им противостоял. В этом ли состояла моя роль?
Во время следствия Клавдия Прокула, моя супруга, не переставала упрекать и осуждать меня.
Обратив ко мне свое удлиненное серьезное лице не выражавшее ни ненависти, ни страсти, она долго смотрела на меня.
– Ты не можешь так поступить.
– Клавдия, этого колдуна мне передали священнослужители синедриона. Как прокуратору мне не в чем его упрекнуть, но, будучи прокуратором, я обязан идти навстречу просьбам служителей, если хочу поддерживать мир с Храмом. Как, ты думаешь, управляет властитель? Он должен заставить всех поверить, что управляет именно он, но его решения диктуются целесообразностью.
– Ты не можешь так поступить со мной.
Я опустил глаза. Я не мог вынести взгляда этой женщины, которую обожаю и которой обязан своей карьерой. Клавдия – и тебе это прекрасно известно – не только решила выйти замуж за безвестного провинциала, каким я был, преодолев сопротивление всех своих близких, но и добилась от них, чтобы меня назначили нa важный пост, сделав прокуратором Иудеи. Я никогда бы не получил такого назначения без ее протекции, eе обаяния и ее поддержки. Клавдия Прокула любит меня и уважает, но, как любая знатная римлянка, она привыкла высказывать свое мнение и вступать в дискуссии с мужчинами. Я бы не потерпел такого ни от одной другой женщины, и иногда мне трудно сдержать твою мужскую ярость. Я предпочитаю не затыкать ей рот, а выслушивать ее доводы. Дабы мой престиж не пострадал в глазах окружающих, я добился, чтобы наши споры не происходили в присутствии посторонних. Но она пользуется нашим уединением, чтобы внести напряженность в наши разговоры.
– Ты не можешь так поступить со мной. Без Иешуа меня бы уже не было в этом мире.
Она говорила о болезни, которая на несколько месяцев приковала ее к постели. Она медленно теряла свою кровь. Я собрал всех врачей Палестины, римлян, греков, египтян и даже евреев, но ни один не смог остановить кровотечение, которое обычно у женщин длится четыре дня в месяц, но которое почему-то никак не прекращалось у Клавдии Прокулы.
Лицо ее стало безжизненным, утратило все краски, бледность ее губ ужасала меня. При малейшем движении сердце ее начинало яростно биться. Я уже видел день, когда Клавдия перестанет дышать.
Одна служанка рассказала ей о колдуне из Назарета, и Клавдия попросила моего разрешения призвать его. Я согласился, не питая никаких надежд, и даже не присутствовал при их встрече.
Человек провел с ней всю вторую половину дня. В тот же вечер кровь перестала истекать из тела Клавдии.
Я не мог в это поверить! Я никак не решался проявить бурную радость по поводу ее выздоровления.
– Что он сделал?
– Мы только говорили, и ничего больше.
– Он тебя не касался, не выслушивал, не прощупывал? Не помазал никакой мазью, никакими эликсирами? Но как он остановил кровь?
– Мы только говорили. И мы сказали друг другу столько разных вещей…
Она еще не набралась сил, чтобы отвечать мне, но она улыбалась.
Она выглядела посвежевшей, ожившей, словно роса этого утра пошла ей на пользу. Она повернулась ко мне и сказала:
– Благодаря ему я примирилась с тем, что мы не можем иметь детей.
Ты знаешь, мой дорогой Тит, как эти римские аристократки преподносят тебе сибиллову фразу, глядя в упор на тебя, а ты должен притворяться, если не хочешь прослыть невеждой, что все понял. И я принял умный вид, добавив чуть-чуть восхищения, ибо, похоже, именно такого выражения чувств ожидала моя супруга. Больше мы об этом не заговаривали.
– Иешуа спас меня. Теперь ты – спаси его.
Она напоминала о кодексе чести, который не имел ничего общего с моими служебными обязанностями прокуратора.
– Я велю публично бичевать его. Обычно хорошее кровопускание удовлетворяет толпу. Так ему удастся избежать худшего.
Клавдия молча кивнула. Мы достигли согласия, и оба считали, что таким образом колдун будет спасен.
Но публичная порка не дала желаемого результата, и с этого момента все завертелось с невероятной скоростью. Солдаты вывели человека на террасу Антониевой башни и обрушили плети на его спину. Но приговоренный, как ни странно, не кричал, не протестовал, даже не хрипел при ударах. Он, казалось, отсутствовал на этом представлении. Он был безмятежен, его поведение не походило ни на поведение преступника, ни на поведение невинного человека: он следовал судьбе, которая ему не нравилась, но которую он принимал, отрешившись от окружающего мира. Даже его тело не было телом мученика; кожа лопалась, текла кровь, но с его уст не сорвалось ни единой жалобы. Иешуа бросал вызов судьям и палачам, он превращал правосудие в пародию на правосудие, а мучения – в карикатуру. Толпа была разочарована. Ее возбуждение росло. Теперь она настроилась против него. Она считала, что главное действующее лицо ничего собой не представляет, она упрекала его в равнодушии. Толпа жаждала зрелища, она хотела красивого конца, она требовала смерти.
Я присоединился к Клавдии, укрывшейся в тени башни. Я хотел предупредить ее, что наша уловка не удалась. Но она уже все поняла. И с рыданиями укрылась в моих объятиях.
– Сделай что-нибудь. Умоляю тебя, сделай что-нибудь.
Если бы Иешуа смог пролить хоть четверть слез, пролитых Клавдией, он сумел бы склонить толпу, я в этом не сомневаюсь, к милосердию. Ради своей жены более чем для самого колдуна, который, я знал, ни в чем не виновен, я должен был найти какой-то выход.
– Обычай! Пасхальный обычай!
Клавдия сразу поняла меня. Она перестала дрожать и наградила меня одним из тех восхищенных взглядов, которые позволят мне считать себя молодым и красивым даже тогда, когда мне исполнится восемьдесят лет.
Я приказал стражникам привести из темницы знаменитого разбойника, который здесь всех ограбил и изнасиловал множество дев. Громила отлично владел кинжалом, но его последние преступления помогли нам арестовать его. Его арест был для меня облегчением, ибо я подозревал этого предводителя в том, что он возглавлял армию зелотов, собирающихся вскоре восстать против моей власти. Он проводил в темнице последний день, поскольку во второй половине дня его должны были распять вместе с двумя другими негодяями.
Я обратился к толпе и напомнил ей об обычае, по которому римский прокуратор освобождал одного из пленников в связи с пасхальными торжествами. Я предложил толпе выбрать между Вараввой и Иешуа. Я ни на секунду не сомневался в ее решении. Иешуа пользовался огромной популярностью и был безобиден, а опасного Варавву очень боялись.
Люди молчали. Они были удивлены. Они смотрели на окровавленного, едва державшегося на ногах Иешуа, стоявшего с опущенной головой, и на нагло выпятившего грудь Варавву, чьи крепкие ноги держали темное мускулистое тело. Варавва с вызовом смотрел на толпу.
В толпе начали перешептываться. Между группами сновали какие-то люди: я думаю, это были ученики колдуна, которые пытались склонить остальных к счастливому для него решению. Я поднял глаза к крепости и заметил в окне Клавдию, не спускавшую внимательного взгляда с меня. Мы улыбнулись друг другу.
И народ вынес свой приговор. Он вначале прошелестел, потом набрал силу, превратился в рев – толпа с ревом скандировала: «Варавва!»
Я ничего не понимал. Толпа требовала освободить вора, насильника, убийцу. Иисус ничего не совершил, только бросал вызов религии, и потому приговаривался к смерти, а Варавва, этот сучий отпрыск, жестокий громила, кровожадный, эгоистичный, Варавва, от чьих преступлений пострадала не одна семья в этой толпе, Варавва, по их мнению, заслуживал милосердия!
Я был возмущен, разочарован, раздражен, но должен был подчиниться.
Я дал обязательство перед толпой. Руки мои были связаны. Мне хотелось умыть руки перед этими людьми.
И я выполнил этот ритуальный жест, означавший: «это меня больше не касается». Стоя на возвышении над вопящим народом, я велел лить мне на руки теплую воду и, как по волшебству, обрел спокойствие, потирая ладони. Вдруг я заметил, что вода, ударяясь о днище медного таза, засверкала всеми цветами радуги.
В голове мелькнула мысль: я не представляю правосудие на земле Иудеи, а представляю Рим. И в то же время я подумал: если Рим не осуществляет правосудие на своих землях, то почему я избрал Рим своим повелителем?
Я обернулся и бросил последний взгляд на двух пленников, а потом вернулся в крепость. И там внезапно меня озарило, что изменило судьбы этих двух людей, бросив одного на крест, а второго избавив от смерти. Я осознал свое заблуждение. Я увидел то, что увидела толпа и чего я не мог в то мгновение увидеть: Варавва был красив, а Иешуа – уродлив.
Клавдия ждала меня в спальне. Я поглядел на высокую римлянку в светлых одеждах, на ее изящные руки, унизанные тяжелыми браслетами, на аристократку, чья кожа имела розово-белый цвет вьюнка и у ног которой лежали все семь холмов Рима: она в отчаянии кусала пальцы, жалея галилейского грязнулю! Она с презрением смотрела из окна на толпу, черты ее лица были напряжены, губы пунцовели от гнева. Она не могла свыкнуться с несправедливостью.
– Мы проиграли, Клавдия.
Она медленно кивнула. Я ждал ее протестов, но она, похоже, смирилась с неизбежностью.
– Ты не мог ничего сделать, Пилат. Он нам не помог.
– Кто?
– Иешуа. Он своим поведением призывал к себе смерть. Он хотел умереть.
Быть может, она была права… Ни перед священниками, ни передо мной, ни перед толпой он не сделал ни единого жеста, который помог бы ему добиться милосердия. Его замкнутость, его отказ от патетики, его ясные ответы постоянно и неуклонно подталкивали его к смерти.
– Нам остается только ждать, – обронила в заключение Клавдия.
Я с непониманием поглядел на нее:
– Чего ждать, Клавдия? Через несколько часов он умрет.
– Нам остается понять, что он хотел сказать нам своей смертью.
Я люблю Клавдию, но я уже терял терпение, которое может себе позволить умный мужчина, сталкиваясь с умной женщиной. Клавдия относилась к существам, для которых все является знаком судьбы – падение листа, полет птицы, направление ветра, форма облака, глаза кошки или молчание ребенка. Как и оракулы, женщины стремятся наделить разумом все, пытаются прочесть мир предметов и вещей, как пергамент. Они не смотрят, они разгадывают. Для них все имеет смысл. Если послание не ясно, значит, оно сокрыто. Нет никаких лакун, нет ничего незначащего. Мир раз и навсегда покрыт густым покровом. Мне хотелось возразить ей, что смерть есть всего-навсего смерть, что своей смертью нельзя подать какой-либо знак. Смерть принимают, и Клавдии никогда не уловить иного смысла в смерти своего колдуна, кроме прекращения жизни. Но в самый последний момент я сдержался. Быть может, чтобы избежать лишних страданий, Клавдия творила мир, где все, даже самое худшее, о чем-то ей говорило.
И я, как всегда, сделал понимающее лицо, словно взвешивал слова Клавдии на вес золота, и вернулся к своим центурионам, чтобы отдать распоряжения о казни.
Через несколько часов Иешуа умер, а Варавву освободили.
– Тело исчезло!
Теперь ты лучше понимаешь мое удивление, когда центурион Бурр сообщил мне странную новость. Колдун продолжал свои фокусы! Клавдия могла торжествовать.
В сопровождении когорты я немедленно отправился на кладбище, расположенное неподалеку от дворца, чтобы быстрее докопаться до истины, которая еще могла витать в воздухе.
Десяток евреев, мужчин и женщин, стояли вокруг гроба. Наше появление заставило их скрыться в цветущих кустах. Перед разверстой пещерой остались лишь два стража.
По их одеждам я определил, что они принадлежали к охране Кайафы, первосвященника Храма, того самого, кто проявлял наибольшее рвение в желании осудить и лишить Иешуа жизни.
– Что они здесь делают?
Центурион объяснил мне, что Кайафа еще с вечера поставил их сторожить гроб, опасаясь, что тело похитят и превратят в объект культа.
– И что же вы видели?
Стражи стояли с закрытыми глазами и ничего не отвечали. Две головы идолов с грубыми чертами, словно их наскоро вылепил из глины неумелый гончар, пользовавшийся только пальцами, не обронили ни слова. Их губы дрожали, но они молчали, опустив плечи и замкнувшись в своем безмолвии.
– Я наказал их кнутом, Пилат, но они уверяют, что ночью ничего не видели.
– Невозможно!
Я приблизился к могиле, склепу, обычному в этих местах. Ты таких никогда не видел. В Палестине не роют могил в земле, здесь долбят скалу, образуя нечто вроде грота. Потом пещеру заваливают огромным круглым камнем, служащим дверью.








