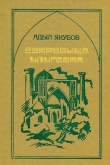Текст книги "Звезда в тумане (Улугбек. Историческая повесть)"
Автор книги: Еремей Парнов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Еремей Парнов
ЗВЕЗДА В ТУМАНЕ
Улугбек
Историческая повесть
О тех, кто первым ступил на неизведанные земли,
О мужественных людях – революционерах,
Кто в мир пришел, чтоб сделать его лучше.
О тех, кто проторил пути в науке и искусстве,
Кто с детства был настойчивым в стремленьях
И беззаветно к цели шел своей.


Предисловие
…Все говорило о том, что обнаружена гробница царственного мученика. На скелете отчетливо сохранились следы насильственной смерти. И лежал он в своем саркофаге одетым, хотя согласно мусульманскому обычаю покойника опускают в гроб в одном лишь саване. Только принявших мучительную смерть «шахидов» обязательно хоронят в той же одежде, которую они носили при жизни.
В каменном саркофаге лежал внук Тимура Мухаммед-Тарагай, прозванный Улугбеком, Великим князем.
О нем эта повесть.
Пятнадцатилетний Мухаммед-Тарагай стал правителем Самарканда, а после смерти своего отца Шахруха сделался главой династии тимуридов.
Сорок лет правил Улугбек Самаркандом; редко воевал, не облагал народ непосильными налогами. Он заботился о процветании ремесел и торговли, любил поэзию.
Но в мировую историю этот просвещенный и гуманный правитель вошел как великий астроном и математик. Он почти на два века опередил европейскую науку. Его звездный атлас «Зидж Гурагони» не знал себе равных. «Все, что наблюдение и опыт узнали о движении планет, сдано на хранение в этой книге», – писал сам Улугбек.
Построенная Улугбеком обсерватория поражала воображение современников. После смерти Улугбека ее разрушили церковники.
Но даже то, что уцелело, восхищает далеких потомков ученого. И здесь нет преувеличения. Поистине удивительна точность, с которой Улугбек определил на своем приборе координаты всех известных в то время звезд, длину года, угол наклона экватора к плоскости эклиптики. Все эти измерения были проделаны невооруженным глазом, без какого-то ни было оптического прибора! Ведь зрительной трубе предстояло появиться полтора века спустя.
Он далеко опередил свое время и пал от руки религиозного фанатика. «Религии рассеиваются, как туман, – говорил Улугбек. – Но туман мешает видеть звезды».
I
Пока медресе и мечети во прах не падут,
Дела мудрецов-калантаров на лад не пойдут,
Покамест неверием вера, а верой неверье не станут,
Поверь мне, средь божьих рабов мусульман не найдут.
ОМАР ХАЙЯМ
 полдень, когда правоверным надлежит совершить вторую молитву салят аз-зухр, у Восточных ворот Герата остановился караван. Смолкли верблюжьи колокольцы. Подогнув колени, опустились животные в серую шелковистую пыль. И хотя были раскрыты окованные медью ворота, караван не мог войти в город. Стражи на высокой глинобитной стене уже расстелили молитвенные саджады[1]1
полдень, когда правоверным надлежит совершить вторую молитву салят аз-зухр, у Восточных ворот Герата остановился караван. Смолкли верблюжьи колокольцы. Подогнув колени, опустились животные в серую шелковистую пыль. И хотя были раскрыты окованные медью ворота, караван не мог войти в город. Стражи на высокой глинобитной стене уже расстелили молитвенные саджады[1]1
Саджад – коврик для молитв.
[Закрыть], повернулись лицом к Мекке. И потому заспешили, засуетились прибывшие из далеких краев купцы. Караван-баши[2]2
Караван-баши – начальник каравана.
[Закрыть] распорядился отвести ишаков и верблюдов к зарослям ферул и саксаула, осыпающегося ломкими и прозрачными, как стрекозиные крылья, семенами. Оттуда мерзкий рев не омрачит тишины святого часа. И вот уже все – стражи, купцы и караванщики со словами «Аллах акбар»[3]3
«Аллах акбар» – «великий аллах».
[Закрыть] коснулись лбами своих молитвенных ковриков.
Но только смолкли последние слова молитвы, как над склоненными чалмами и округлившимися на согнутых спинах цветными халатами поднялся человек в остроконечном колпаке. Взял он свой посох с бронзовым копейным наконечником, кокосовую чашку для подаяний, скатал коврик и заспешил к серым холмам, где в пятнистой тени лениво и сонно жевали колючку верблюды. Шел он прямо по чужим коврикам, оставляя на нежном их ворсе пыльные следы босых ступней. И люди почтительно сторонились, не спешили стереть серые отпечатки пальцев, скрюченных от многолетней ходьбы босиком. Ибо священны следы дервиша и трижды священны, если дервиш этот, этот странствующий калантар[4]4
Калантар – странствующий монах.
[Закрыть] принадлежит к грозному ордену накшбендиев.
Калантар отвязал своего ишачка, чьи бока были вытерты и покрыты болячками, а шерсть свалялась вокруг застрявших в ней колючек, поправил суму и зашагал к воротам. Он вошел в город, когда караван-баши только подымал разлегшихся в тени саксаулов верблюдов, а караванщики отвязывали «узы пустыни» – веревки, соединяющие ноздрю одного верблюда с седлом другого. Лишь в необъятных песках Кызыл или Кара могут идти связанными сотни, а то и тысячи навьюченных животных. В узких и кривых улочках городов это немыслимо. Да и стражам труднее осматривать караван, чтобы взыскать с каждого купца въездную пошлину сообразно ценности его товара.
Но калантар миновал высокую арку с поднятым решетчатым заслоном, ничего не заплатив. Молча показал он начальнику стражи пластину с тамгой[5]5
Тамга – знак.
[Закрыть], перед которой склоняются иные государи, и, оседлав ишачка, затрусил вдоль глухих глиняных стен, побеленных и подкрашенных синькой, мимо резных чинаровых дверей. Ехал он в гору, все выше да выше, по переулочкам таким узким, что стены хранили глубокие царапины всех проезжавших когда-либо арб.
Начиналось самое жаркое время дня, когда имеющие досуг и деньги спешат укрыться в знаменитых гератских садах, чтобы в тени китайских ив и персиковых деревьев вдохнуть влажную пыль фонтанов и не спеша поднести ко рту ломтик дыни, истекающей липким зеленоватым соком.
Над плоскими крышами поднималось синеватое марево. Душный запах шипящего на углях курдючного сала, казалось, сочился сквозь трещины в глине и поры горячих от солнца камней.
Калантар проехал базарный купол, в сумраке которого приютились лавки ювелиров, сундучников, менял и продавцов сладостей. Не задержался он и у выложенного прямоугольными плитками водоема, где под чинарами стояли покрытые текинскими и хоросанскими коврами настилы знаменитой в городе чайханы. Разноцветные чалмы и тюбетейки склонились над пузатыми чайниками и пиалами. В огромном кумгане[6]6
Кумган – сосуд для пищи и воды.
[Закрыть] уже кипела огненная красная шурпа, а шашлычники раздували угли и мелко-мелко рубили сладкий и слезно пахучий лук.
После трудного долгого пути по степи, где ветры катают шары верблюжьей колючки, по пустыне, где солнце покрывает камни черным лаком, было бы так хорошо посидеть над зеленой непрозрачной водой, в которой еле колышутся городской сор и желтые узкие листики ивы. Неторопливо наклонить чайник и слушать, как поет бьющая в дно пиалы, окруженная паром, чуть окрашенная струя живительного кок-чая. Три, а может, четыре осторожных глотка – и вот уже усталость покидает ноги, распаренное тело просыхает, набухшие дурной кровью вены съеживаются и уходят под кожу, которая становится упругой и сухой. Еще два глотка – и зной оттекает от головы, легко дышит грудь, а в желудке оживает здоровый и радостный голод. И тогда рука быстро выплескивает остывший чай в водоем, где волнистая дрожь искажает прямые стены ближнего медресе, а синева изразцовых плиток его портала кажется более глубокой и чистой И опять гудит и паром стреляет струя в пиале. Вторая эта пиала изгонит из тела все яды распада, наладит ток крови и смирит желчь разочарований и неудач.
А после этого как удержаться и не съесть нежной и скользкой лапши, плавающей в наперченной подливке среди золотых кругов жира и маслянистых волокон разваренного лука? Потом палочек пять шашлыка. И новый, распираемый паром чайник…
Но суровым презрением отвечают калантары на все соблазны мира. С тех пор как «прозревшие» надели плащи из белой шерсти суфа и стали суфи – людьми в плащах, сердца их закрылись для вожделений и утех плоти. Что им до мирской суеты и до самого мира, если все лишь круги на воде, минутная рябь в водоеме под капризным дыханием ветра? Мир только зеркало, в котором отражается божественная сущность, как отражаются в этой зеленой воде порталы мечетей и медресе. Путь человека в миру подобен случайно мелькнувшему отражению несуществующего образа. Померещилось что-то – и нет ничего. Так родится в слепоте человек и уходит непрозревшим навсегда из этого суетного мира, который всего лишь зеркало, часто кривое и темное. «Уйди от этой видимости, прозрей для истины, и ты увидишь реальность», – учил великий мистик Газали, которого аллах одарил истинным зрением. Свершилось это в пятом столетии Хиджры[7]7
Хиджра – буквально значит переселение, бегство. Мусульманский календарь ведет свой отсчет со дня бегства пророка Магомета из Мекки в Медину.
[Закрыть]. С той поры существуют суфи – люди в плащах из белой шерсти. Аскеты и кающиеся, устремившиеся из Багдада и Басры во все города мусульманского мира.
И пошли, и пошли калантары по дорогам Востока, по пыльным и знойным дорогам… Но среди всех орденов суфийских наиболее возлюбил аллах орден накшбендиев. Молчаливых и постигающих, всезнающих, всеведущих. Суровый орден, которому аллах через посланцев своих – святых шейхов – дал право и мощь устранять всех стоящих на пути божественной воли.

Идите же, калантары-накшбендии, живите подаянием правоверных, довольствуйтесь малым, ибо мир лишь круги на зеркальной воде. Идите же, славословьте аллаха, и вы обретете дорогу к нему. Но помните, накшбендии, что, и славословя, станете держать открытыми глаза и уши. Все постигайте. Но нем пусть останется ваш язык. Только наставнику, только доверенному брату сообщите вы все, что узнаете на путях своих. И помните также всегда, как вы помните имя аллаха, что вы только трупы в руках обмывальщика, только бусины четок на шелковой нитке, связующей вас в наше братство. Наставник, шейх ордена, старец суфийский, великий ишан – единая в мире иллюзий реальность. Веленье его, мановение пальца… вы все понимаете, братья накшбендии, с богом, идите!
Ишак закричал горестно и безнадежно, когда ноздри его почуяли сладостные запахи чайханы. Овес, горячий горох, а то и влажный клевер, да еще, конечно, воду почуял ишак в синем и жирном дыме мангалов. Он даже сделал попытку свернуть к чайхане, но суровый седок так пришпорил его заскорузлыми, каменными пятками, что в пустом ишачьем животе отдалось глухим барабанным ворчанием.
Калантар направил ишака прямо ко дворцу правителя Абд-ал-Лятифа. Путь этот хорошо был знаком калантару. Долгие годы жил в том дворце богобоязненный мирза Шахрух – сын железного старца Тимура, завоевателя мира, которого муллы льстиво называли «мечом пророка», а дехкане[8]8
Дехкане – крестьяне.
[Закрыть] – «повелителем». Когда же Тимур умер, то все: и дехкане, и муллы, – стали звать его просто Тимурлянг – Тимур Хромой. Потому как и вправду Тимур был хромым.
II
«Можете ли вы спасти меня всеми этими деньгами и купить мне на них один день, который я проживу?»
И не могли они этого.
«Тысяча и одна ночь»
 аждого из сыновей и взрослых внуков Тимур сделал правителем города, области, даже целой страны. Своей плотью и кровью скреплял он пределы обширной и многоязыкой державы. Богомольному и не слишком любимому сыну Шахруху он отдал Герат. Спокойно и мирно этим городом правил Шахрух. Точнее, жена его – Гаухар-Шад. Сам же правитель проводил свое время в молитвах и долгих беседах с муллами, улемами и мударрисами[9]9
аждого из сыновей и взрослых внуков Тимур сделал правителем города, области, даже целой страны. Своей плотью и кровью скреплял он пределы обширной и многоязыкой державы. Богомольному и не слишком любимому сыну Шахруху он отдал Герат. Спокойно и мирно этим городом правил Шахрух. Точнее, жена его – Гаухар-Шад. Сам же правитель проводил свое время в молитвах и долгих беседах с муллами, улемами и мударрисами[9]9
Улемы и мударисы – богословы, толкователи закона, преподаватели.
[Закрыть]. И подобно тому, как другие правители умножают гаремы, Шахрух умножал свою знаменитую библиотеку, в которой собрал творения мудрецов древности и лучших умов Востока и Запада.
Сыновья его – Байсункар, Ибрагим и Мухаммед-Тарагай вырастали при дворе самого Тимура. Повелитель воспитывал всех своих внуков, как воспитывал раньше сыновей и надеялся вырастить правнуков.
В году Хиджры 782 Тимур устроил пышный праздник в честь своих многочисленных побед над врагами.
Словно торопясь, подгоняемый смутным предчувствием, престарелый властитель в тот день женил своих внуков. Самый умный из них, Мухаммед-Тарагай, получил в жены ханскую дочь – молодую красавицу Ога-бегум. С детских лет обнаружил он такое достоинство, простоту и величие, что прозвали его Улугбеком – Великим князем. После свадьбы он стал Улугбеком-Гурагоном, ханским зятем. Но поскольку в день свадьбы Улугбеку было всего лишь десять лет, он остался под кровом Тимура. В тот же год определил Тимур внукам и их наделы: Улугбеку – Ташкент, Сайрам, Яны, Ашнара и Моголистан, Ибрагиму – Фергану с Хотаном и Кашгаром, Байсункару – бескрайние степи за рекой Аму.
А год спустя, застигнутый в последнем походе тяжелой болезнью, Тимур умер.
Трудно и долго умирал человек, шутя отнимавший жизнь у тысяч и тысяч людей, безоружных, но непокорных, а потому и опасных. С холодной кровью убивал Тимур, не ведая ни жалости, ни раскаяния, и даже удовольствия не испытывал от убийства. Он просто делал свое привычное дело, уверенный, что лучше отнять жизнь у десяти невиновных, чем пощадить одного, но опасного, могущего стать врагом.
Подхлестываемый нарастающими спазмами боли и подгоняемый страхом перед остановленной в мозгу мыслью, он велел позвать всех своих жен и амиров[10]10
Амир – в данном контексте военачальник.
[Закрыть]. И, не давая замершему клубку мысли размотаться, задыхаясь от боли, продиктовал он завещание:
«Мое убежище находится у трона бога, подающего и отнимающего жизнь, когда он хочет, милости и милосердию которого я вас вручаю. Необходимо, чтобы вы не испускали ни криков, ни стонов о моей смерти, так как они ничему не послужат в этом случае. Кто когда-либо прогнал смерть криками?
Теперь я требую, чтобы мой внук Пир-Мухаммед Джехангир был моим наследником и преемником, он должен удерживать трон Самарканда под своей суверенной и независимой властью, чтобы он заботился о гражданских и военных делах, а вы должны повиноваться ему и служить, жертвовать вашими жизнями для поддержания его власти».
Стоя на коленях перед одеялами, на которых умирал великий завоеватель, амиры поклялись, что свято выполнят его последнюю волю.
Поход продолжался. От армии скрыли смерть повелителя. Но весть полетела, как искра вдоль пороховой дорожки. На другой день уже каждый нукер[11]11
Нукер – воин.
[Закрыть] знал о том, что не стало того, кто казался бессмертным.
Мирзы[12]12
Мирза – точнее амир-заде, что означает «из дома амира», равносильно европейскому «принц», «царевич».
[Закрыть] же – сыновья и внуки повелителя и верные амиры отказались признать Пир-Мухаммеда своим государем.
Мировая держава вновь распалась на отдельные, чужие друг другу страны и города.
Порвались веревки, связующие верблюдов в один караван, и горячий ветер пустыни и затмившая солнце песчаная мгла разогнали их в разные стороны. Кровью и плотью своей связал Тимур подвластные города и страны. Но плоть поднялась против плоти, а кровь восстала на кровь.
Не стало больше ни братьев, ни отцов, ни сыновей. Каждый поднялся против всех и все против каждого.
После четырех лет феодальной смуты и войн Шахрух одолел наконец своего племянника и главного соперника Халиль-Султана. Из всей обширной империи ему удалось сохранить лишь Хорасан и Мавераннахр – междуречье рек Аму и Сыр, ядро распавшейся державы, любимую жемчужину в короне некоронованного хромца.
Хорасан с центром в Герате Шахрух оставил за собой, а междуречье вместе с Самаркандом отдал сыну – Улугбеку-Гурагону. К семнадцати годам Улугбек стал полноправным правителем всего междуречья и прилегающих областей (с северо-запада до Саганака, с северо-востока до Ашпары), а в 792 году присоединил к себе и Фергану.
Сорок лет управлял Улугбек Самаркандом. Мир, казалось, воцарился среди неукротимых тимуридов. Но в 824 году сын Байсункара, Султан Мухаммед, восстал против своего деда Шахруха. Дряхлый властитель Герата быстро усмирил свои западные фарсидские земли, но внезапно заболел и умер, не назначив наследника.
Царица Гаухар-Шад, в действительности правившая страной, тайно послала гонца в Герат, к своему любимцу Ала-ад-Дауля – брату восставшего Султана Мухаммеда. Войска же передала под командование сына Улугбека Абд-ал-Лятифа, который находился при ней. Приняв командование, Лятиф тоже снарядил гонца к отцу в Самарканд. Но не успели еще гонцы доскакать до обеих столиц, как, оповещенный через тайных своих агентов, выступил из Балха и двинулся на Герат внук Шахруха. Узнав об этом, Улугбек велел своим войскам занять Балх и утвердился там как единственный из оставшихся в живых сын Шахруха и его прямой наследник.
Но тогда же в войсках, которые возглавил Лятиф, началась смута.
Лятиф навел порядок и, заключив царицу под стражу, направился на восток. Но близ Нишапура он попал в засаду и оказался в плену у Ала-ад-Дауля, который немедля освободил свою покровительницу. Лятиф просидел в гератской крепости до тех пор, пока не был подписан мирный договор, по которому бассейн Мургаба окончательно разделил Герат и Самарканд.
Лятиф возвратился к отцу и получил от него правление над всей областью Балха.
Но это был непрочный мир. Весной 826 года Хиджры произошла решающая битва при Тарнабе между войсками Ала-ад-Дауля и Улугбека, в которой Ала-ад-Дауля был полностью разбит. Улугбек занял Герат.
Казалось, ядро Тимуровой державы теперь восстановлено. Улугбек вновь спокойно правит Мавераннахром, к которому тяготеют и Балх и Фергана, а дорогой сын его Лятиф воцарился наконец в Хорасане, столица которого Герат столько раз становилась источником смут.
Но, пришпорив босыми пятками облезшего ишака, трусит ко дворцу самого правителя гератского худой, оборванный калантар. Тело его почернело под солнцем пустыни, вековая пыль Азии въелась в его кожу, и время избороздило ее глубокими морщинами. Но сумрачно поблескивают из-под остроконечного колпака глаза калантара, черные угли его зрачков, слоновая кость желтых его белков.
III
Эй, муфтий, погляди… Мы умней и дельнее, чем ты.
Как с утра мы ни пьяны, мы все же трезвее, чем ты.
Кровь лозы виноградной мы пьем, ты же – кровь своих ближних,
Сам суди – кто из нас кровожадней и злее, чем ты.
ОМАР ХАЙЯМ
 невно покусывая ногти, лежал на ковре мирза Абд-ал-Лятиф. Из опрокинутого узкогорлого, индийской чеканки кувшина медленно вытекала липкая густая струя гулаба[13]13
невно покусывая ногти, лежал на ковре мирза Абд-ал-Лятиф. Из опрокинутого узкогорлого, индийской чеканки кувшина медленно вытекала липкая густая струя гулаба[13]13
Гулаб – напиток.
[Закрыть]. Чудесные деревья в цвету, павлины и газели становились под ней темными и тяжелыми. Мирза недовольно скривился. Резче обозначились на хмуром лице его монгольские скулы, унаследованные еще от далеких Тимуровых бабок.
Лятиф хлопнул в ладоши, и в комнату неслышно проскользнул его верный катиб – секретарь, писец и наперсник – Саманбай.
– Шахматы! – бросил мирза, брезгливо прикрыв лужу шитой золотом подушкой.
Катиб достал из кораллового ларца костяные фигуры фарсидской работы и расставил их на доске: вначале аккуратно и бережно красные фигурки принца, затем торопливо – свои, черные. Мирза долго глядел на доску, не делая первого хода. Потом вдруг сгреб несколько фигурок и с силой швырнул их прямо в кыблу – восточную стену комнаты, на которой узким кованой меди месяцем было отмечено направление на священную Мекку.
Саманбай попятился к стене и, шаря позади себя, чтобы не поворачиваться спиной к мирзе, стал собирать шахматы.
С тоской пресыщенности и беспокойства глянул мирза на серебряные подносы, уставленные шербетом, рахат-лукумом, белой бухарской халвой и индийскими орешками в меду. Гератские дыни и черно-густое, как птичья кровь, застывшая на перьях, самаркандское вино, сладкие пирожки и воздушные лепешки – все было равно противно ему.
Он томился и страдал в гератском своем дворце, который так и не стал для него домом. Погладив куцую бородку, что росла у него, как у многих других представителей древних джагатайских родов, отдельными редкими волосками, он лениво ткнул загнутым вверх носком туфли своего катиба, вновь расставлявшего шахматы.
– Когда прибудут мои слоны? – капризно, растягивая слова, спросил принц.
– Гонцы сообщили мне, о солнцеликий мирза, что двенадцать слонов вместе с искуснейшими погонщиками уже давно покинули Серендип и благополучно прибыли в Байсорскую гавань. Теперь вместе с большим караваном кабулистанских купцов они следуют в твой, о надежда правоверных, возлюбленный аллахом Герат.
– Когда здесь будут?
– Если милость аллаха, который…
– Будешь говорить так длинно, велю подрезать тебе язык.
– К святому празднику рамадана[14]14
Рамадан – священный для мусульман месяц.
[Закрыть], пресветлый мирза, если…
– Подрежу!
Распахнулись изукрашенные куфической, славословящей аллаха надписью двери, за которыми днем и ночью стояли двое стражников с секирами.
– От пира[15]15
Пир – старец, глава суфийского ордена.
[Закрыть] Ходжи Ахрара ташкентского к амиру[16]16
Амир – правитель города.
[Закрыть] Герата – расул[17]17
Расул – посол.
[Закрыть], – доложил начальник охраны.
Бесшумной тенью скользнул за ковры Саманбай.
Мирза еще сильнее нахмурился, что-то сосредоточенно обдумывая, погрыз ногти. Потом велел звать ташкентского посла.
Босоногий калантар прошел по ширазскому ковру к мирзе. Двери за ним закрылись.
– Благослови тебя аллах, мирза, – просто сказал посол.
– Я вот распоряжусь, чтобы тебе дали сотню палок, почтенный калантар, – усмехнулся принц, – тогда ты будешь знать, в каком виде достойно предстать перед очами владыки.
– Обидев калантара, ты совершишь великий ходд[18]18
Ходд – преступление, наказуемое кораном.
[Закрыть], мирза, – холодно ответил калантар. – В глазах аллаха и далк[19]19
Далк – одеяние дервишей.
[Закрыть] дервиша и золотой халат амира не более чем пыль на дороге.
– Стража! – хлопнул в ладоши принц.
– Бойся обидеть калантара, мирза, – тихо сказал посол, доставая из-под пыльных лохмотьев золотую пластину с тамгой. – Я мюрид[20]20
Мюрид – послушник.
[Закрыть] суфийского пира Ходжи Ахрара – ишана всемогущего братства накшбендиев.
Но за спиной калантара уже стояли два дюжих джагатая. Под белыми их бешметами поблескивали надетые прямо на халаты румийские кольчуги. Слепящие солнечные пятна переливались на луноподобных секирных лезвиях и острых шлемах, обмотанных зеленым шелком чалм.
– Башня Ихтияр-ад-дин, мирза, – еле слышно прошептал калантар, сбросив нетерпеливо и резко руки джагатаев со своих плеч.
Движением руки мирза прогнал стражей.
Он вспомнил башню и ту серую, прокаленную солнцем крепость, вспомнил, куда привезли его истерзанного и запыленного после недолгой и яростной битвы, столь неудачной и позорной, что и думать о ней нельзя без гнева и горечи. И вновь показалось мирзе, что саднят от пота царапины на ладонях, что черная пена коркой запеклась на губах, что песок скрипит на зубах, а душная пыль скребет опаленное горло и грязной слезою стекает из глаз.
Он и помыслить тогда не мог, что из-за поросших пыльным бурьяном нишпурских холмов выскочит вдруг конница Ала-ад-Дауля – презренного брата предателя Султана Мухаммеда, вероломно поднявшего мятеж против их благочестивого деда Шахруха.
Как вылетали тогда лохматые кони из-за холмов! Как закатное солнце туманилось за рыжей тучей, поднятой их копытами! Как с копьями наперевес летели джигиты, пригнувшись к лукам седел, размахивая бебутами, описывая ими в воздухе свистящие круги! Огромный малиновый солнечный шар так и стоит перед глазами. И черная конница в рыжих клубах и сухой беспощадный блеск оружия и сбруи.
Враги ворвались в самую середину его походных колонн, которые так и не успели развернуться для боя. Застигнутые врасплох колонны мирзы дрогнули и побежали, а конница врага давила их копытами, сминала крутыми горячими боками ржущих коней, полосовала на скаку ослепительными дугами бебутов и сабель.
Лишь сотня его джагатаев устояла перед внезапным и стремительным этим броском. Они кидались под вражеских коней и рассекали им тугие, напряженные бешенством сухожилия. И яростно умирали, падая в серую, прибитую копытами пыль, орошая ее темными пятнами крови.
Почетным пленником доставил его гордый победитель в Герат. Он, принц, понимал, что тот не посмеет, даже если захочет, пролить кровь брата-тимурида. Он мог не бояться за свою жизнь, когда его вели по винтовой лестнице в крепостную башню. Но тем сильнее, тем горше было его унижение. Побежденный, растоптанный, был он привезен в гератскую крепость Ихтияр-ад-дин. Как рвалось и тосковало тогда его сердце от невозможности отомстить!
Что же еще может припомнить он, мирза Абд-ал-Лятиф? Что еще хочет напомнить ему этот оборванец, этот грязный и дерзкий дервиш, которому мало даже сотни палок?
– Вспомни, мирза, крепостную башню, – все так же тихо сказал калантар. – Отчаяние свое вспомни и воду в кувшине, что показалась тебе столь горькой.
Верно, было и так… Косой луч заходящего солнца прорезал круглую комнату башни. В нем танцевали тонкие шерстинки, разноцветные крохотные ворсинки ковров, устилавших глинобитный пол. В забранное узорной мавританской решеткой оконце лился и лился знойный солнечный столб. А за окном открывались синие вечереющие дали, смутные холмы и серебристые ленты дорог, густые тени и красная, как вино, полоса над развалинами древнего городища.
И так пылен и сух был солнечный луч, так чист и далек простор, так влажны и прохладны недоступные синие тени вдали, что принц почувствовал опаляющую жажду. Он налил в пиалу воды из кувшина, облизывая пересохшие губы, следил, как пенится она, подобно весеннему кумысу. Но жажда осталась неутоленной. Горше полыни показалась ему вода, потому что была она водой безнадежности и плена.
– Верно, было такое, – сурово ответил мирза. – Но откуда тебе это ведомо, дервиш?
– Припомни теперь, мирза, – улыбнулся ему калан-тар, дерзко посмев не расслышать вопроса, – припомни, как стала вдруг упоительно сладкой твоя вода.
– Ты ли это, серый мутакаллим?![21]21
Мутакаллим – богослов.
[Закрыть]
– Теперь ты узнал меня, мирза, – ответил калантар и без приглашения сел на ковер.
…Серый мутакаллим пришел к нему на третьи сутки после того, как он, отравленный желчною горечью тоски и отчаяния, отказался от пищи и питья. Лежа на тюфячке вдали от окна, молча отстранял он лекарей, протягивающих ему чаши с целебными напитками.
Тогда и увидел он у своего ложа мутакаллима. Синяя ночь тихо светилась за узорной решеткой. Она плыла и сгорала в лунном огне, струилась и таяла, но не могла ни сгореть, ни растаять. И от света ее круглая башня позеленела. Светлый узор на ковре превратился в зеленый, темный окрасился в тот черный цвет, который обретают во тьме все красные вещи. Стена же стала белой. И тень человека четко-четко чернела на этой стене. А одежда его и под луной осталась серой. Но серой, как свет, который идет от луны, стремительно летящей сквозь дымчатое облачко.
– Слушай, бедный мирза, – тихо позвал его серый мутакаллим. – Есть над пропастью адской особенный мост. Мы его называем сиратом. После смерти все души ступают на этот сират, что тонким волосом туго натянут над страшным ущельем. Ты уверен, что сможешь пройти по мосту и не свалишься в смрадную адскую бездну? Уверен? О мой мирза! Много благочестивых и праведных дел надлежит тебе сделать, чтоб мост тот вдруг перила обрел, когда придет твой черед. Живи же пока, во имя аллаха. – Он склонился над принцем и прошептал: – Бисмиллах[22]22
«Бисмиллах» – «во имя аллаха» (первые слова корана).
[Закрыть].
Потом достал субха[23]23
Субха – четки.
[Закрыть] в сто зерен из тигрового глаза[24]24
Тигровый глаз – полудрагоценный золотисто-коричневый камень.
[Закрыть], которые желтым огнем загорелись в ночи.
– Эти четки, мирза, знак великого тайного братства. Мы поможем тебе возвратить славу и трон, бисмиллах. А покамест не смей отказываться от еды. Ибо нет для правоверного большего греха, чем добровольное лишение себя жизни.
Он взял пиалу и наполнил ее той же самой водой из того же кувшина, хранившего горечь полыни и желчи.
– Выпей, принц. Пусть отныне вода напоит тебя сладостью мира, надежды и веры. И да будет покоен твой сон.
И вправду вода показалась мирзе ароматной и сладкой, словно гулаб, упоительной и прохладной, как кокосовое молоко. Он осушил пиалу и заснул крепким, здоровым сном. А назавтра был подписан мир, и Улугбек освободил сына.
…– Прости, что не признал тебя сразу, мауляна[25]25
Мауляна – высшее ученое звание.
[Закрыть],– почтительно обратился к калантару Лятиф.
– Я не мауляна, мирза. Ничтожный дервиш и недостойный мюрид суфийского старца, который возложил на меня счастливую ношу и сделал расулом печальной вести.
– Счастливая ноша? Печальная весть? О чем же?
– Братство наше поручило мне тебя, мирза. Денно и нощно я буду молиться за тебя, разрушать коварные планы твоих врагов, в меру ничтожных сил своих помогать тебе, о светлый мирза, надежда ислама. Это счастливая ноша. Но есть и печальная весть.
– Что за весть? В Самарканде?..
– Прежде позволь, мирза, задать вопрос. Если я верно знаю, а мне надлежит верно знать все, что касается тебя… Так вот, если верно я знаю, ты командовал левым крылом в тарнабском сражении, затмившем победоносные битвы Тимура – властителя мира. На правом крыле стояли тумены младшего брата мирзы Абд-ал-Азиза. Так, мирза?
– Так.
– И разве не тебе и не твоим туменам обязан мирза Улугбек своей победой? Разве не твоя львиная отвага, военный гений, быстрый ум и ратная доблесть опрокинули врага и решили исход битвы?! О, кто не видел этого своими глазами, может, конечно, говорить и другое. Но отсохнет язык и лопнут глаза у лжеца. Как Искандер Двурогий носился ты на своем благородном Бураке по полю битвы, ты был в самых опасных местах. И там, где был ты, там была победа. Твои тумены приняли главный удар неприятеля и нанесли ему сокрушительное поражение. Ты бы победил и без туменов младшего брата мирзы Абд-ал-Азиза и слонов Улугбека-Гурагона. Разве не так?
Слушал мирза сладкие речи калантара. И дым сражения вставал перед глазами… Взвивались бешеные кони, ревели боевые слоны, и тучи стрел неслись вдоль красной полоски зари. Славная битва при Тарнабе! Сам Тимур не постыдился бы приписать ее к своим неисчислимым победам. И прав калантар, именно его, Абд-ал-Лятифа, тумены приняли на себя первый удар. А что там было дальше, может ли он знать… Ему было не до того. Он бился на ратном поле.
– Скромный и благородный мирза! Ты молчишь, но я отвечу за тебя, – калантар возвел руки к небу. – И пусть накажет меня аллах, если я солгу хоть слово! Это ты, ты один победил при Тарнабе. О эта битва! И через тысячу лет люди будут помнить о ней, а поэты прославят ее в сладких своих касыдах[26]26
Касыда – особая форма стиха.
[Закрыть]. И тем чернее, презреннее выглядят те, кто похищает у героя его заслуженную, кровью добытую славу, чтобы приписать ее себе. Мерзкие трусливые шакалы, презренные сыновья греха, воры, готовые украсть… Но что говорю я, поддавшись гневу? Да отсохнет мой язык! Я осмелился… Ради аллаха прости меня, мирза.
– О чем это ты, почтенный калантар? Кто хочет украсть у меня славу?
– Нет, нет, забудь, мирза, все, что сказал я, недостойный. Я не смею даже называть их имена. Разве червь, ползающий в пыли, может знать о путях льва?
– Что ты знаешь? Что?
– Не смею…
– Моего прадеда, Тимура, никогда не вынуждали спрашивать дважды, дервиш!
– Правнук превзойдет победоносного властелина мира. Но могу ли я называть имена, о которых даже помыслить нельзя дурно?
– Если ты скажешь правду, то можешь называть любые имена.
– Даже имя младшего брата, о великий амир Герата?
– Так это Абд-ал-Азиз хочет отнять у меня победу?!
– И имя мирзы Улугбека я могу называть? – прошептал калантар, придвинувшись почти вплотную к мирзе.
– Говори все, что знаешь! Но берегись моего гнева, если в словах твоих есть ложь. Я никому не позволю… Говори, калантар, не бойся.
– Хорошо, мирза. Ты так хотел. Я прибыл из Самарканда. Караван, с которым я пришел, только входит в Герат. Не утолив жажды и голода, не совершив омовения и не почистив платье, поспешил я в этот дворец с печальной вестью. С печальной потому, что тайные интриги способны вызвать в благородном сердце не только гнев – совершенно справедливый, надо сказать, гнев, – но и печаль. Так вот, мирза. В тот день, когда я покинул Самарканд, правитель его, Улугбек-Гурагон, обнародовал грамоту о победе при Тарнабе…