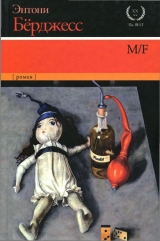
Текст книги "M/F"
Автор книги: Энтони Берджесс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Если найден Он сейчас, то будет Он найден и после. Если же нет, то окончим мы дни свои в городе мертвых. Шандлер уже не лежал, а сидел, вцепившись в сиденье диванчика и приподняв обе ноги над полом, залитым трюмной водой. Он как будто пытался прочесть что-то на мокром полу – бестолковый, сопливый, страдающий крепким запором придурок, читающий комиксы в туалете. Я сказал:
– Заливает.
– Что? Куда?
– Надо быстрее откачивать воду.
Свет в каюте померк, превратившись в оранжевый шепот. Шандлер издал приглушенный оргазмический крик и сказал:
– Иона.
– Вода в батареи попала. Кто Иона? Я?!
– Таких напастей у нас раньше не было.
– А не пошел бы ты в жопу, стихоплет – яйца всмятку. Помоги лучше поставить помпу.
– Это несправедливо. Альфреду Казину нравились мои стихи.
– Все равно встал и пошел в жопу, пиит недоделанный.
И вот тут-то оно и случилось. Яхта не удержалась на гребне волны, накренилась, вздыбилась и пошла в глубину, вниз, вниз, вниз. Прежде чем еле теплящийся свет отрубился уже окончательно, все, что было в каюте, устремилось взбешенным галопом к левому борту: банки с тушенкой, булькающий открытый бренди, конопатки, мочки, узлы, гаечные ключи, кастрюли, тарелки, дымовая труба, ножи, сыр, сундук мертвеца и бочонок рома, мешочек с нитками и иголками, секстанты, плоскогубцы, линейки, бушприты, швартовы, бакштовы и ватервейсы, а может, и нет – я все-таки не моряк. Но я помню грохот, такой человеческий и смачный, заглушивший рев моря и ветра. Резкий рывок, бросок – что-то вроде. И абсолютную, кружащуюся, пьяную, мертвую темноту. Конечно же, у меня в голове продолжала гореть крошечная свеча, давая достаточно света, чтобы я мог разглядеть воображаемое ухмыляющееся лицо, мое собственное лицо, говорившее: Ты же этого хочешь, да? Гибели формы и крушения порядка? А потом меня что-то ударило, очень острое, вроде угла стола, и этот внутренний свет померк, и я провалился в хлюпающие обломки, во чрево Ионы, в черный и влажный зонт китового уса.
Я очнулся в болезненно-холодном свечении – рассвет и выздоравливающее море. Лихорадочный жар выгорел полностью. Я лежал на спине, на одном из диванчиков, хлюпавшем, как туалетная губка, в ритме движения яхты. Я был один. Шандлер, должно быть, на палубе или за бортом; Эспинуолл, мрачный и торжествующий, – как всегда, за штурвалом. Штормовка по-прежнему была на мне, и я вроде бы не промок. Ощупал голову, где болело, и нашел в волосах нехорошую глубокую рану. На запрос онемевших негнущихся пальцев отозвался жесткий, негнущийся, в корке запекшейся крови колтун. В каюте по-прежнему – полный раздрай, но воду уже откачали, так что на полу ничего не плескалось. У меня в животе, во чреве Ионы, заурчало требовательно и грубо: выпить бы и закусить. Голова, как я обнаружил, очнувшись, болела не так чтобы сильно. Я встал и заметил среди обломков мистическую футболку Шандлера, мокрую и непригодную для носки, пока ее пару часов не просушат на солнце. Я впился глазами в один отрывок, который раньше не видел. Потом вышел на палубу, готовый к суровой встрече.
Грот был поднят. Эспинуолл, стоявший у штурвала, обернулся ко мне. По-прежнему в штормовке, с красным шрамом, засыхавшим на правой щеке, он был весь как сплошной немой укор. Но что, Бога ради, я сделал не так?! Шандлер был в теплом свитере, несомненно сухом – надо думать, хранившемся в одном из высоких водонепроницаемых рундуков. Очки он где-то посеял и теперь моргал, и моргал, и моргал в крепнущем свете. Я сказал:
– Я же не виноват, что разбил себе череп.
– Земля? – спросил Шандлер у Эспинуолла, щурясь на восходящее солнце, нашу цель.
Да, земля. Пауза в полдоли на этой нелепой добавочной нотной линейке, замыкающейся в круг. Через час, или два, или три я, быть может, сойду на берег и отправлюсь своей дорогой, сухой, согревшийся, без гроша в кармане, но впереди будет целый Карибский день, словно древо с плодами, которые только и ждут, чтобы их сорвали. Чувствовал я себя на удивление неплохо – после всего, что случилось. Я уже понял, что мне здесь больше не рады и о предложении спать на борту можно благополучно забыть, но я и не рвался особо. Буду сам по себе, и черт с ними, с этой сладенькой парочкой педермотов. Шандлер любовно огладил штормовку своего сладкого педермота-дружка и сказал:
– Ты был великолепен, Фрэнк.
– Я знаю.
– Послушайте, – сказал я, игнорируемый всеми, – я же старался как мог, правда? Вы, может быть, удивитесь, но не я выдумал этот шторм. Я хотя бы работал. В отличие от некоторых…
– Оставь человека в покое, – проговорила спина Эспинуолла.
– Э… – начал было я, но тут у меня перед глазами возник остаточный образ того отрывка, который я только что прочитал на футболке Шандлера: Страх одиночества есть, по сути, страх перед собственным двойником, который однажды приходит и всегда предвещает смерть. Кто это сказал? Святой Лоренс Тогданикогда? Кунт Александрийский? Черт возьми, я не боюсь одиночества. Я спустился в каюту, чтобы удостовериться, что я действительно это видел, но ничего не нашел. Перебрал всю футболку, словно в поисках вшей, но этой фразы там не было.
6
Святая Евфорбия, замученная при императоре Домициане, двигалась медленной рысью вдоль Главной улицы, или, на здешнем наречии, Streta Rijal; восьми футов ростом, старательно вырезанная из дерева. Верный признак любительского искусства: слишком много деталей для компенсации вопиющей безжизненности. На деревянные веки наклеены черные крашеные ресницы из свиной щетины, розовый бугорок языка виден во рту, приоткрытом в последнем крике боли, в первом проблеске вечности. Алое платье как бы развевалось на сильном ветру, сплошь деревянное, кроме крошечного участка, где огромный фаллический гвоздь, алчущее крови орудие мученичества, прибил погребальные одежды к телу. Кровь наличествовала, любовно намалеванная, хотя рана была целомудренно скрыта. Прочный постамент был закреплен на носилках, которые несли четверо мужчин в пурпурно-красных одеяниях с капюшонами. Путь для святой расчищал духовой оркестр, музыканты в темных костюмах, инструменты в серебряных вспышках, подобных пронзительным остриям ее боли. Они играли избитый медленный марш в сентиментальной тональности. Вслед за святой степенно шагали священники в стихарях, за ними – глазастые дети в какой-то скаутской форме. Две женщины рядом со мной тихо плакали – то ли над мучениями святой, то ли над сладкой невинностью ребятишек, не знаю. Я был стиснут в толпе, пахнущей чистым белье, чесноком и мускусом.
Мне нужны были деньги; надо было где-то остановиться. Я больше мили прошел пешком: от Пурты, где был причал, до центра Гренсийты. На мой паспорт взглянули лишь мельком, на отсутствие у меня багажа не обратили внимания. Чиновники на причале приняли меня за члена команды «Загадки II», в том смысле, что принадлежность к «Загадке II» была гарантом моей благонадежности в плане финансовой состоятельности. Эспинуолл и Шандлер это вроде бы подтвердили. Довольные, что я ухожу, понимая, что Иона, высадившийся на землю, безобиден, как кит, выброшенный на берег, они махали мне вслед радостно, но без воодушевления, которое можно было бы принять за прощание навсегда. Они как бы давали понять, что мы еще встретимся. Только никаких встреч не будет, о нет. Я уж точно навсегда распрощался с этой парочкой голубых. И я пошел, мучаясь от головной боли, вновь разыгравшейся под яростным солнцем, – пошел прочь от моря и портовых складов, по широкой дороге в Гренсийту, примечая, что флаги, религиозные лозунги (Selvij Senta Euphorbia) и созвездия электрических гирлянд изувечены штормом, таким же яростным здесь, на земле, каким он был на море. Но сейчас небо было райски-голубым, без единого облачка, и чайки вольно парили в вышине.
Senta Euphorbia,
Vijula vijulata,
Ruza inspijnata
Per spijna puwntata,
Ura pir nuij.
Теперь появился хор девушек брачного возраста, во всем белом, за исключением пятна красной краски, разбрызганной спереди. Они пели эту молитву на древнем каститском, произошедшем от одного из романских диалектов, на котором говорили первые поселенцы, перебравшиеся на Кантабрийское побережье из какого-то безымянного средиземноморского местечка. Здесь их быстренько поработили, а когда случился тот необъяснимый наплыв британских мусульман, колонизировавших и Охеду, рабам дали свободу, а сами магометане, разморенные жарким Карибским солнцем, ослабли в вере и растворились в островном христианстве, но не раньше, чем возвели мечети из застывшего меда местного камня. Процессия направлялась сейчас к Дуомо, кафедральному собору-мечети на площади имени Фортескью. Кто такой Фортескью, интересно? Британский губернатор времен английского господства, или rigija, ныне канувшего в историю. Это господство, как я обнаружил, оставило после себя управление общественных работ, английский язык, непролазные дебри законов, но только не демократию.
К моему удивлению и вящей радости всех остальных, процессия превратилась теперь в грубо и откровенно мирскую. Энгармонический, болезненно искривленный аккорд, ответственный за эту модуляцию, проявил себя в виде огромного, патологически эрегированного гвоздя, вырезанного из дерева и раскрашенного алой краской, которая как бы сочилась из-под шляпки наподобие густого карамельного крема. Гвоздь держал в руках клоун, похожий на Панча. Он злобно зыркал по сторонам, волоча ноги в нескладных больших башмаках. За ним тянулись платформы с живыми картинами, представляемыми молодыми людьми: «Век джаза» (итонские стрижки, оксфордские сумки, мундштуки а-ля Ноэль Коуард, граммофон с сияющим медным раструбом), «Тюремная реформа» (заключенные, распивающие шампанское, держа на коленях тюремщиц в шелковых чулках), «Сельское хозяйство Кастаты» (рог изобилия из папье-маше, извергающий бананы, помелло, ананасы, кукурузные початки и плоды хлебного дерева, а рядом с ним – пышные барышни в сочных позах и весьма скудных нарядах Цереры), «Дары наших морей» (Нептун со свитой, с огромной сетью улова, включая еще шевелящегося осьминога), «Эра немого кино» (режиссер в бриджах, с мегафоном в руках, ручная кинокамера, Валентино, Чаплин и т. д.), «Храни, Боже, его превосходительство» (увеличенный фотопортрет человека с красивым пухлым лицом, с умными, но неискренними глазами, в обрамлении флагов и салютующих детишек, словно только сейчас из Руритании) и еще много другого, что я забыл. За платформами шагал цирковой оркестр, наяривая зажигательный марш на тромбонах. Пожалуй, он заглушил бы прежний, торжественный марш, но парадные музыканты уже сложили свои инструменты у входа в Дуомо, святую Евфорбию внесли внутрь и сейчас, наверное, уже поставили у алтаря. А потом пошли слоны.
– Слоны? – удивился я вслух. Ко мне обернулось несколько лиц с радостными объяснениями:
– Цирк Элефанты, Цирк Фонанты, Цирк Бонанзы, Цирк Атланты.
Я так и не разобрал, как же он назывался. Вслед за слонами – Джамбо, Алиса и маленький слоненок, державшийся гибким хоботом за хвост мамы, – прошли спотыкающиеся клоуны и пара детенышей кенгуру, бивших в барабаны. Потом на открытой платформе – два льва в одной клетке и тигр с тигрицей – в другой, еще одна платформа с выступавшими на ней дрессированными тюленями, вертевшими на носах полосатые надувные мячи, свободно бегущие милые белые пони и их балерина-хозяйка, машущая рукой. А потом толпа разом умолкла.
Сухопарая высокая женщина в платье терракотового цвета, с лицом, слабо светившимся, словно подкрашенным хной, шла в одиночестве, излучая пронзительную трагическую гордыню. У нее над головой кружили птицы, целая стая птиц: майны, длиннохвостые попугаи, скворцы, – все щебетали или кричали на человеческом языке, обрывки слов тонули в шуме оркестра. Женщину окружала какая-то странная аура, то ли мистическая, то ли колдовская; отсюда и молчание толпы. Говорящая птица – это как заколдованный человек. Женщина строго оглядела толпу, сначала слева, потом справа, на мгновение наши с ней взгляды встретились, и в ее глазах промелькнуло сердитое узнавание. Но она прошла дальше, и миг тишины и тревоги был изгнан, как бес, бодрым здоровым финалом – явлением каститской футбольной сборной, которая, как меня просветили потом, победила венесуэльцев в финале Кубка наций Центральной Америки. Они прошли легкой трусцой, словно на тренировке, сияющий капитан нес обеими руками серебряный трофей, держа его перед собой как дароносицу. Возгласы и крики, возгласы и крики. Как-то мы далековато ушли от святой Евфорбии.
Толпа зрителей хлынула на дорогу, радостно присоединяясь к праздничной процессии. Главным образом дети в разноцветных бумажных колпаках, с красными клоунскими носами, с дудками и язычками-свистками, хохочущие молодые парни в джинсах, с железными крестами и свастиками, болтавшимися на шеях, хихикающие девчонки в белом, желтом или голубом. Люди постарше улыбались и добродушно проталкивались сквозь толпу на тротуарах, направляясь к площади Фортескью или в ближайшее питейное заведение. Мне тоже хотелось пить. У меня было всего девяносто американских центов.
Пивная, в которую я зашел, напоминала железнодорожный вагон – такая же длинная и узкая. Здесь было темно. На этом острове лютого солнца выпивка всегда была действом, совершаемым в темноте: солнце в вине никогда не бывало представлено лику солнца на залитых смехом бульварах. Почти вслепую я пробирался сквозь пьяный шум, спотыкаясь о чьи-то ноги. Один голос из этого шума был громче, чем все остальные:
– И как вообще получилось, что он так поднялся? Вы все знаете, черт возьми, о чем я говорю, и если тут есть президентский шпион, так и пусть себе, ладно. Мне уже все равно потому что. Правда есть правда, ее ничто не опровергнет – ни вранье власть имущих, ни махинации лживых наймитов.
– Все, хватит, Джек, – сказал человек в белом переднике, бармен. – Давай допивай и иди на работу.
– Это разве работа?! Проституция ошметками правды, вот что это такое. Никто никогда не задаст нужных вопросов, о нет. Например, чем занимался ваш обожаемый президент с теми двумя несовершеннолетними девочками в ночь на 10 июня 1962 года в доме, который оставим без номера, на улице, которая останется без названия? Почему в президентском гараже возникла целая флотилия «кадиллаков» сразу по окончании сбора пожертвований в пользу сирот? Почему Джеймс Мендоса Каллаган так внезапно и необъяснимо исчез осенью 1965-го? Эти вопросы и им подобные – никогда, о нет. А я знаю ответы, о да.
Теперь я его разглядел. Этакая обрюзгшая развалина, явно из интеллектуалов. В темном костюме с жилетом. Он одиноко сидел за столом, с которого стекала пролитая выпивка. Посетители перебивали его:
– Кончай, Джек, не надо. Кругом полиция. Хотя бы сегодня давай как-нибудь обойдемся без неприятностей. Господи, человек хочет просто спокойно выпить. Шибко умный, ага. Только куда его ум заведет, вот вопрос.
Я встал у стойки и заказал бокал белого вина. Потом спросил бармена в белом переднике:
– А что он там говорил о проституции ошметками правды? Он это о чем?
– А? Кто? Он? Да вот ходит по городу в праздничные и базарные дни и устраивает представления. Donj Memorija, или мистер Память.
Тут бармен повернулся к мужчине в костюме, все еще извергавшему бурный поток бунтарских речей, и жестко высказался на первом или, может быть, альтернативном языке острова:
– Chijude bucca, stujlt!
– А как объяснить странное исчезновение редактора «Stejla d’Grencijta» после выхода передовицы с весьма мягкой критикой?
– Какие представления? – спросил я.
– Отвечает на разные вопросы. Todij cwejstijonij. Заткни свою жирную грязную пасть, я тебе по-хорошему говорю. Или я вызову polijts.
– А то, что начальник полиции когда-то давал его превосходительству драть себя в задницу, это, стало быть, чистое совпадение?
– Tacija! Заткнись! Вышвырните отсюда этого idijuta!
Я отвернулся от стойки, обвел взглядом возмущенные лица, и мне показалось, что в дверном проеме, открывшемся в солнечный свет, на секунду возникли знакомые рожи: улыбающийся Шандлер и суровый Эспинуолл. Всего на секунду. В голове вновь застучала боль. А потом на пороге нарисовался узнаваемый силуэт закона – тропический закон в накрахмаленных шортах и рубашке с короткими рукавами. С худым жилистым телом, обученным насилию. Кобура, руки в боки. Все посетители, кроме Donj Memorija, разом умолкли, как будто всерьез слушая музыку.
– Задайте вопрос, кто-нибудь. Задайте вопрос, относящийся к нашим больным временам и прокаженному государству, где мы живем.
Ответом было испуганное шиканье. Я подумал, что надо как-то его успокоить, и спросил:
– Чьим отцом был короткое яблоко?
– А? Что? Если яблоко сорта пепин, то пепин – это Пипин Короткий, король франков, отец Карла Великого. Родился в 714-м, умер – в 768-м, если вам нужны даты. Но такие вопросы бессмысленны в эти ужасные времена, каковые… каковые…
Я видел, как он изучает меня, скосив один глаз: гадает, кто я и что я здесь делаю, черт побери. Я тоже пытался получше его разглядеть: густая косматая грива грязно-седых волос, тройной трясущийся подбородок. Силуэт в дверях шагнул внутрь, стуча тяжелыми ботинками, и лицо полицейского начало проступать в полумраке, как фотография в ванночке с проявителем. Полицейский сказал:
– Давайте послушаем еще что-нибудь про ужасные времена.
– Лакей изуверского режима, президентский кулак, как оно нынче у вас, в мире коррупции?
Я подумал, что надо рвать когти, пока полицейский не заинтересовался моей скромной персоной. Я обратился к жующему старику, перед которым на жирной бумаге лежало какое-то жуткое месиво из раскрошенного хлеба и студня:
– А где он дает представления? Ну, вы знаете кто.
– На площади Дагоберта, где ярмарка, – сказал человек помоложе, с дергающейся левой рукой.
Полицейский уже почти поднял мистера Память на ноги, держа одной рукой за воротник, а другой – за штаны на седалище. Выходя наружу, я еще успел услышать:
– Когда вернешься в участок, спроси, что они сделали с Губбио, Витторини и Серафино Старки. Грязный, нечищеный ноготь кровавых репрессий…
Я вышел на улицу, слепо щурясь на солнце. Площадь Дагоберта? Прохожие охотно меня направляли, тыча пальцем в нужную сторону и темпераментно размахивая руками. Хорошие люди, отзывчивые и любезные, с такой неуемной, кипучей энергией. Я прошел по мощенной булыжником улочке, мимо закрытой типографии, свернул на улицу, где какие-то мужчины под дружную песню сыпали зерна тмина на круглые караваи, которые другие мужчины смазывали яичным белком, и вышел на прямоугольную площадь с двумя барочными фонтанами (напряженные, словно сведенные судорогой каменные мышцы и разверстые в танталовых муках рты, пытавшиеся схватить недоступную воду) и рядами временных ярмарочных прилавков. Здесь продавались обычные вещи – уцененная детская одежда, футбольные бутсы, сахарная вата – и работали незамысловатые игровые аппараты и тиры. Веселые люди по большей части смеялись в лицо зазывалам и просто ходили, глазели, облизывая вафельные рожки с мороженым. Я нашел относительно тихое местечко и занял его. Мне нужна была сцена, и я выпросил на время – посредством немой пантомимы, потому что торговец за ближайшим прилавком говорил исключительно по-каститски – три пустых крепких ящика из-под «Кукукугу» (не такая уж и новинка: напиток уже появился и на Карибах). Взгромоздившись на свои подмостки, я объявил громким голосом:
– Мистер Память-младший уже здесь! Задавайте вопросы! Любые, любые, любые вопросы!
Вскоре ко мне подошла небольшая компания робких хихикающих юнцов. Они были как бы со мной, но при этом и не со мной: с тем же успехом они могли бы пребывать где-нибудь в другом месте, никто не смотрел мне в глаза, никто не бросал мне вызов. А потом какой-то мужик средних лет, не вполне трезвый, крикнул издалека:
– Как сделать, чтобы жена на меня не ругалась?
– Заткните ей рот поцелуями, – выкрикнул я в ответ. – Утомите любовью.
Раздался смех. Люди начали подходить. Какой-то школьник попробовал что-то спросить, но остальные его не расслышали. Я прокричал в полный голос:
– Этот юный джентльмен интересуется, когда появилось телевидение. Если он имеет в виду первую телепрограмму для широкой публики, то ответ будет: 13 июля 1930 года, в Англии, на механической телевизионной системе Бэрда.
На самом деле мальчик спросил, когда был открыт мультирасовый Университетский колледж в Солсбери, но ответа на этот вопрос я не знал. Зрители потихоньку преодолели смущение, и вопросы посыпались градом: первое сообщение азбукой Морзе? (24 мая 1844); эвакуация из Дюнкерка? (3 июня 1940 года, в годовщину смерти Гарвея, создавшего действующую до сих пор теорию кровообращения); древнее название столицы Болгарии? (Сердика, Триадица для византийских греков); двенадцатая годовщина свадьбы? (никелевая свадьба); краткая биография Че Гевары? (родился в Аргентине, воевал на Кубе, ушел в революцию в Гватемале); «Смерть после полудня»? (шампанское и перно, хорошо охлажденные); рекорд скорости по выпитому пиву? (Огюст Маффре, француз, уговорил 24 пинты за 52 минуты); восемь баллов по шкале Бофорта? (очень крепкий ветер; ветер ломает сучья деревьев; идти против ветра очень трудно); кто сказал, будто англичане считают, что цивилизация начинается с мыла? (немецкий философ Трейчке); артемизия? (полынь или правительница древнего города Галикарнаса); гуанако? (крупный вид ламы; используется как вьючное животное); международный генри? (единица измерения самоиндукции; равен 1,00049 абсолютного генри); чем лечить трипаносомоз? (трипарсамидом или сурамином); как избавиться от пятен сажи? (попробуйте четыреххлористый углерод); второе имя Эдит Ситуэлл? (Луиза); победитель дерби 1958 года? (Шенкель, жокей Ч. Смирк).
Вопросы были, конечно, не точно такие, какие я здесь перечислил, но задавали вопросов много, причем задававший, как правило, знал ответ – собственно, поэтому-то и спрашивал. Я набрал около 80 процентов. А потом вопросы начали превращаться в загадки, что меня очень встревожило. Смешливая очаровательная молодая матрона с роскошными пышными формами спросила:
– Что легче пуха, а долго в руках не удержишь?
Это было несложно. Потом морщинистая старуха сказала:
– В гостиной много стульев, посередке клоун танцует.
Изможденный туберкулезный юнец:
– Хоть и внутри тебя заперто, его все равно могут украсть.
Дыхание у меня во рту отдавало кислятиной, сердце бешено колотилось. Наверное, мне надо было поесть. Голова буквально раскалывалась от боли. Потом кто-то сказал, но я его не разглядел:
Белая птица без перьев
С божьего неба слетела,
На крышу замка присела.
Пришел безземельный владыка,
Без рук подхватил ее тихо
И ускакал без коня
В белый чертог Короля.
– Солнце, да, – сказал я. – Это понятно. Но откуда вы знаете про снег?
А потом мужчина ученого вида, в широкополой шляпе и самодвижущейся инвалидной коляске, выдал такое, что я уж никак не ожидал услышать здесь, на Карибах, а именно – куплет из старинной английской скабрезной баллады:
Затейным дружком одарил меня Бог.
Стоит он исправно, хотя и без ног.
И хват он изрядный, хотя и без рук,
Поди догадайся, кто сей бойкий друг.
– Это слишком легко, – сказал я. – И чересчур неприлично для этой смешанной аудитории. А теперь, с вашего позволения, я пущу шапку по кругу.
И, не спросив разрешения, но с благодарной улыбкой, я сорвал кепку с головы какого-то школьника. Толпа начала быстро редеть. И тут внезапно некое странное существо выросло передо мной с криком: Стой! – и я замер, объятый ужасом. Что дало искажение восприятия? Головная боль, солнце, голод? Какая-то нелепая львиная морда в глубоких язвах проказы, обрамленная, как ни странно, тщательно ухоженной пегой гривой. Тело маленькое, искореженное, но несомненно человеческое. Руки тянулись вперед дугой, как бы стремясь сгрести землю когтями. Дешевый синий костюм отутюжен к празднику, чистый воротничок, галстук в розочку. Существо выкрикнуло, и его голос напоминал глухой лай, как будто весь его рот был в болячках:
– Отвечай, если можешь!
Я не хотел отвечать, хотя и не знал почему. Я крикнул в ответ:
– Представление окончено. Приходите завтра.
Но толпа прекратила рассасываться, раздались выкрики, чтобы я отвечал. Существо подняло переднюю лапу, требуя тишины, и выдало свою загадку:
Горло, зубы и язык.
Кто в глубины те проник,
Обретает, говорят,
Колдовской блаженный ад.
Осторожней на подходе —
Вдруг там львиные угодья.
– Я знаю ответ, – сказал я, – но меня могут арестовать за непристойное поведение в общественном месте. Это как бы двойник той загадки о бойком дружке. Нет, нет, нет, представление окончено. Пожертвуйте, кто сколько сможет. Может, мозги у меня и набиты битком, но карманы пусты. Пожертвуйте от щедрот своих бедному страннику среди вас.
Человек-лев пошел прочь, не подав ничего. С того, что осталось от прежней толпы, я собрал – мелочью, за исключением долларовой бумажки от ученого мужа с затейным дружком, – семь каститских долларов и шестьдесят пять центов. Каститский доллар, в силу происхождения от старого британского полуфунта, стоил всяко побольше своего американского кузена. Ответив на столько вопросов, я имел право задать свой собственный: читатель вскоре узнает какой. Ученый с затейным дружком дал любезный и быстрый ответ. Теперь я заметил, что у него французский или креольский акцент. Левая рука затянута в перчатку из хорошей дорогой кожи. Я поблагодарил его и отправился искать дешевый отель.








