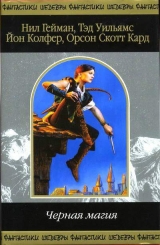
Текст книги "Диорама инфернальных регионов, или девятый вопрос дьявола"
Автор книги: Энди Данкан
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Энди Данкан
Диорама инфернальных регионов, или Девятый вопрос дьявола
Вашему вниманию предлагается увлекательное, забавное, простонародное, пугающее и мудрое повествование о девочке, которая сбежала от одной магии лишь затем, чтобы влететь с размаху в другую, куда более зловещую, и там подружиться с призраками, пожить в таинственном доме и потягаться с самим дьяволом…
Первая публикация Энди Данкана состоялась в 1995 году в «Asimov’s Science Fiction». Вскоре последовали публикации в других журналах – «Starlight», «Sci Fiction», «Realms of Fantasy» и «Weird Tales», а также еще несколько в «Asimov’s Science Fiction». К началу двадцать первого века Энди Данкан приобрел репутацию одного из самых оригинальных и своеобразных современных авторов. В 2001 году он дважды становился лауреатом Всемирной премии фэнтези: за рассказ «The Pottawomie Giant» и за сборник «Beluthahatchie and Other Stories», получивший широкое признание. В 2002 году рассказ Данкана «The Chief Designer» завоевал памятную премию имени Теодора Старджона.
Энди Данкан, выпускник литературной мастерской «Кларион Вест», вырос в Бейтсбурге, штат Южная Каролина. В настоящее время он и его жена Синди проживают в Фростбурге, штат Мэриленд. Энди Данкан работает редактором в журнале «The Voice of the American Trucker».
Мое полное имя Перлин Сандей, хотя обычно меня называют просто Перл. В этой истории повествуется о том, как я повстречалась с вдовой из Дома-на-равнине и ее четырьмястами семьюдесятью тремя мертвыми друзьями, как я пела дуэтом с зятем дьявола и как навлекла на себя гнев волшебника тем, что его же и освободила.
Когда я совершала все это, я была уже не ребенком, но еще и не женщиной – ни то ни се. Я была как та кошка, у которой приступ «дверной болезни». Она царапает дверь, чтобы ее впустили или чтоб выпустили, но стоит вам отворить дверь, как кошка становится в дверном проеме, клонит голову набок и погружается в свои глубокие кошачьи думы, пока не дашь ей пинка. Будь я тем летом по какую-то сторону, все могло бы обернуться иначе, но я ни на что не могла решиться, и потому дверь стояла открытой для сквозняков и чудес.
Я выросла в Чаттануге в павильоне Науки и Искусства профессора ван дер Аста, что относится к Колоссальному Космополитическому музею. «Колоссальный» – это значит очень большой, а «космополитический» – всемирный. В детстве профессора ван дер Аста звали Хэйзилом Бауэрсоксом, и родился он в Райзинг-Фаун, штат Джорджия. Вообще, названия «Колоссальный Космополитический музей» и «павильон Науки и Искусства профессора ван дер Аста» говорят сами за себя, хотя природа науки и искусства – это тема для отдельного обсуждения, и то был не павильон вовсе, а трехэтажное здание, колоссальным я бы его не назвала, хотя там и помещалась куча вещей.
Сегодня этот музей уже не найти. Он размещался на берегу реки Теннесси, на той стороне, где центр города, и был укрыт тенью моста Уолнат-Стрит. Много лет назад там был другой мост, построенный генералом Шерманом, долго тот мост не простоял – Господь его смыл; а вот новый служит до сих пор.
Мне рассказывали, что мои родители положили меня в шляпную коробку и оставили в переулке между музеем и табачным складом. Два каннибала с острова Фиджи вышли покурить, пожалели меня и отнесли в музей, к профессору, а тот сделал из меня платный аттракцион, и я им работала, пока мне не исполнилось два года. Как опять же мне рассказывали, на вывеске было написано: «Живая прозрачная человеческая голова!» В общем, я лежала и сосала рожок с сахаром, а сзади стояла мощная лампа, которая подсвечивала мне голову так, что видны были мои маленькие мозги и кровеносные сосуды. То есть вывеска гласила чистую правду.
В те дни с ребенком вроде меня, не имеющим ни отца, ни матери, ни образования, могло случиться кое-что и похуже работы в просветительном музее, в котором даже сотрудница без татуировки или бороды, или диковинных уродств могла сделать карьеру. В понимании профессора ван дер Аста, девочкам вполне подходили такие должности, как Живая Русалка Нептуна, которая целыми днями расчесывала волосы и помахивала хвостом в бассейне, Невидимая Девушка, которая пряталась за простыней и изрекала в рупор предсказания будущего, Черкесская Принцесса – нагляднейший образчик белой расы. Сначала ею работала Заламма Агра, которая, когда ее вырвали из рук константинопольских работорговцев, оставила позади большую часть своих одеяний, но не такую, чтобы музей из-за нее закрыли. С лета 1895 года нашим нагляднейшим образчиком белой расы была моя подруга Салли Энн Рамидж из города Мобил, штат Алабама. Салли Энн стыдилась своей трудовой деятельности в музее и писала родителям, что стала учительницей; полагаю, она была недалека от истины.
Тем летом я не была ни одним из этих экспонатов, потому что у меня начался тот самый промежуточный возраст, который не особенно подходит для Черкесской Принцессы. Нет, я была настолько не в ладах с собой и окружающим миром, что профессор ван дер Аст полностью изолировал меня от взглядов публики, которая все же платит за билет, и приставил меня к нашей диораме инфернальных регионов.
В те дни диорама представляла собой всего лишь картину, но картину настолько огромную, что ее невозможно было увидеть целиком. Она была нарисована на длинных полосах холста в десять футов длиной, ее надевали на огромную бобину, словно рулон ткани в портновском магазине для великанов, и перематывали с одной бобины на другую, установленную в двадцати футах от первой. Между бобинами плечом к плечу стояли посетители и восхищались проплывающими видами.
Все это вращала специальная машина, но кто-то должен был стоять сзади и следить, чтобы та не останавливалась и холст шел ровно, не рвался и ни за что не цеплялся. Вот этим «кем-то сзади» и была я. Может, у вас в городе и имеется аккуратная новая преисподняя, но чаттанугский ад был потрепан и заклеен, как фамильная Библия. Еще я работала со спецэффектами. Когда диорама проплывала мимо и когда профессор ван дер Аст находился со стороны публики и молол языком, я включала и выключала осветительный агрегат, который просвечивал сквозь разные участки холста, – тогда язычки адского пламени трепетали, нетопыри носились в воздухе и бесенята с сатирами сновали туда-сюда, как мои дурные мысли, когда я парилась там и выматывалась, как кочегар в котельной. Стоя перед облезшим зеркалом, что висело над моим умывальником, я каждый день растирала руки и плечи и размышляла, какой мужчина захочет видеть рядом с собой женщину с мускулами и какого мужчину, в свою очередь, захочет видеть она.
Наша диорама была единственной, которую мне доводилось видеть. Профессор ван дер Аст говорил, что знаменитая нью-йоркская диорама изображает вид на берега всей Миссисипи, от Миннесоты до Нового Орлеана. Щеголи с Парк-авеню могли удобно устроиться в прохладной комнате и наблюдать со своих канотье, как все скользит мимо: утесы, на которых гнездятся орлы, леса, в которых прячутся индейцы, длинные и тонкие пролеты мостов, загороженные спинами босоногих юнцов в комбинезонах, шумные города, стоящие на реке и загрязняющие ее отбросами. Сам профессор ван дер Аст никогда не заезжал севернее Кливленда, что в штате Теннесси, но описывал эту нью-йоркскую Миссисипи так же убедительно, как и чаттанугские инфернальные регионы. Послушаешь – и будто побывал там.
– Друзья мои, вы находитесь по эту сторону завесы. Но обратите внимание с вашего безопасного наблюдательного пункта на ужасные чудеса преисподней, когда они проплывают мимо вас. Да, так вот, когда они проплывают мимо вас!
(Механизм диорамы старый и иногда заедает.)
– Взгляните сначала на этот древний свиток, завещанный нам халдейскими мучениками, – свидетельство серных испарений озера Аверн, над которым не летает ни одна птица. Вот Бриарей сторукий тащит цепь толщиной с тучного человека, а на другом конце этой цепи лязгает зубами пес Цербер с его пятидесятью головами, и каждую из пятидесяти шей обвивает змея. А вот неумолимый перевозчик, прогоняющий прочь всех несчастных, умерших без христианского погребения. Далее следуют плачущие возлюбленные, обреченные никогда не воссоединиться с родными душами и заламывать руки в миртовых рощах. Мадам, позвольте предложить вам носовой платок. Ваше сострадание делает вам честь. Дальше у нас бичевание, спускающее кожу с тех, кто при жизни думал, что его грехи надежно скрыты. Вот гигант Титий, прикованный ко дну бездны. Здесь страдальцы, стоящие по горло в воде без возможности напиться, а там те, кто обречен носить воду решетом.
Тут какая-нибудь рыдающая сельская учительница могла поинтересоваться:
– А как же царство блаженных? Как же Элизиум? Лавровые рощи?
– За подобными утешениями, мадам, надо обращаться к иным холстам, которых у нас нет. Вот корчащийся пандемониум наслаждений, где все благородные и возвышенные цели забыты в низменном дурмане ощущений и похоти. Далее у нас давильный…
– Эй, приятель, а нельзя ли получше подсветить этот пандемониум наслаждений?
– Сейчас семейное представление, друг мой, приходите после десяти. Далее у нас давильный пресс для винограда. В нем сотнями давят проклятых, пока те не лопнут. Вот тут грязные, отвратительные дети неблагодарности, которые плюются ядом, даже когда их щипцами поднимают над огнем. Заметьте, леди и джентльмены, во всей этой ужасной панораме растения исключительно дикие и колючие, существа – зубастые и ядовитые, камни – кривые и никчемные, люди все больные, хилые, позаброшенные, и единственная их музыка – неописуемые адские стенания! Здесь все страдают от ужасных мук не одну минуту, не один день, не век, не два, не сто, даже не десять тысяч миллионов веков, а вечность, они никогда не узнают избавления! А теперь, пожалуйста, пройдите в эту дверь. Следующее представление в два тридцать, вознаграждение приветствуется.
Такова была та сторона холста, где находились профессор ван дер Аст и публика. Я никому не рассказывала, что находится с изнанки: пятна, заплаты, всякие фокусы, исполняемые при помощи освещения. Я тоже видела изображения, но мельком, как те, которые можно заметить летом в облаках и кронах деревьев. С моей стороны рисунки не были ужасными: человек, сражающийся с молниеотводом в бурю; огромный поющий сом, развлекающий песнями экипаж низко летящего воздушного шара; женщина в очках, катящая по дороге колесо; бальная зала, полная танцующих призраков; человек с железной рукой, который манил меня пальцем на шарнирах; фермер, который, остановившись на пороге, махал рукой, прощаясь со своим счастливым семейством, а потом, появившись вновь, махал уже в знак приветствия; чье-то сердитое лицо, выглядывающее из башмака; огромная женщина с усами, швыряющая какого-то мужчину из лодки в реку; улыбающийся человек, который спускался с Ниагарского водопада в бочке, а вокруг подпрыгивала на волнах сотня заговоренных бутылок, и в каждой лежало свернутое в трубочку послание к Марии Лаво; охотничий пес с пистолетом, грабящий поезд; одноглазый человек, живущий в крокодильей норе; нищий, исполняющий стриптиз для царицы Савской; горилла в канотье, которая сидит в шезлонге и смотрит на проплывающую мимо диораму Миссисипи; и еще тысяча иных чудес. Мои инфернальные регионы были куда интереснее, чем у профессора ван дер Аста, к тому же иногда они освещались и приходили в движение без всякого моего вмешательства.
В то время всеми своими познаниями о магии я была обязана Уэнделлу Фазевеллу – волшебнику Синих Гор, магу из Яндро-Маунтейна, штат Северная Каролина. Каждое лето он выступал у профессора ван дер Аста в течение трех недель. Мне никак не удавалось посмотреть его представление, потому что – любил напоминать профессор – нам платят за то, что выступаем мы, а не за то, что выступают перед нами. Но мне рассказывали, что в кульминационный момент Уэнделл Фазевелл ловил зубами пулю, прошедшую перед этим через хрустальный кувшин с лимонадом, и я верила, поскольку время от времени, когда под рукой не оказывалось никакой мелюзги, профессор просил меня вытереть со сцены лимонад и собрать острые осколки стекла.
Фокусы, которые я видела, волшебник Фазевелл исполнял по окончании рабочего времени, когда все обитатели музея спускались в цокольный этаж выпить, перекусить бутербродами с холодным мясом и снова выпить. Я пролезала через толпу вперед, к шаткому столику, и смотрела, как он достает из воздуха даму червей, как отправляет монетки шагать по костяшкам своих пальцев и как пускает доллар поплавать. «В точности как правительство», – всегда говорил Фазевелл – и мы всегда смеялись. Он показывал нам пятьдесят семь способов, которыми можно тасовать колоду карт, и семнадцать способов того, как вытащить туза наверх, когда он вам нужен – даже пять раз подряд. «Сделайте такое в игорном зале, – говорил он, – и получите пулю в лоб. Сделайте это в обществе хороших людей, вроде нас, и это будет лишь приятным развлечением, способом заставить Короткие Штанишки улыбнуться».
Короткие Штанишки – это обо мне. Фазевелл был единственным, кто называл меня так. Большой Фред, ведущий номера под названием «Что это?», как-то попробовал – и я расквасила ему нос.
Если вечер тянулся долго и Фазевелл выпивал лишку, он становился угрюмым и рассказывал про войну и про своего друга, какого-то человека старше его, имени Фазевелл никогда не называл.
– Двадцать шестой Северокаролинский собирался в Роли, и в первую ночь я не мог уснуть – вокруг совсем не было гор, чтобы поддержать меня, потому я уткнулся лицом в подушку и заплакал. И мне не было стыдно. Окружающие или смеялись, или велели замолкнуть, а этот человек сказал: «Парень, показать тебе фокус?» Какой же мальчишка не любит фокусы? И какой же мальчишка, увидев фокус, не захочет его повторить?
Вспоминая об этом, Фазевелл смотрел куда-то вдаль, а руки его продолжали совершать манипуляции, словно бы жили своей жизнью.
– В Нью-Берне он научил меня фокусам с четырьмя тузами и с монетой, проходящей сквозь платок. В Вилдернессе – сбору фигур по мастям и исчезновению монеты. В Спотсильвании – смене масти и чудесному восстановлению разорванной карты. Всю войну, каждый божий день, я отрабатывал три главных исчезновения, – При этих словах три монеты исчезали из руки Фазевелла, одна за другой. – Такова была наша война. Это помогало мне не думать о многом – и, быть может, ему тоже. У него был туберкулез – к концу войны уже в тяжелой форме. Последнее, чему он меня научил, – ловить пулю. Это было в форте у Аппоматокса, перед самой его смертью. Я забрал один из его башмаков. Все остальное сожгли. Когда его карманы вывернули, там лежали лишь монеты, карты да бумага, которую он тоже использовал в фокусах. Они больше не казались волшебными. Они выглядели как… как хлам. Магия ушла вместе с ним, кроме той небольшой части, что он оставил мне.
– А чему ты научился в Геттисберге? – спрашивал кто-нибудь.
Фазевелл отвечал:
– Тому, чему я научился в Геттисберге, я не стану учить никого. Но когда-нибудь, живой или мертвый, я предъявлю дьяволу счет за то, чему я научился в Геттисберге.
После этого он показывал фокусы с ножом, а я уходила наверх спать.
Мое переходное лето завершилось вместе с последним сеансом в субботу вечером. Я перематывала диораму к началу – и тут услышала, как профессор с кем-то разговаривает. С посетителем, что ли? Но голос был мне знаком, постепенно он становился громче.
– Баба ты – вот кто! Она все сделает нормально, увидишь!
Больше я ничего не поняла из-за вращающейся бобины, а останавливать ее я не хотела – боялась, что меня поймают за подслушиванием. Потом вдруг на моей стороне диорамы появились профессор и волшебник Фазевелл.
– Останови этот агрегат, Короткие Штанишки. Потом перемотаешь. А сейчас пойдем, поможешь мне.
Волшебник что-то держал в руках – нечто спутанное, блестевшее в свете лампы. Он сунул это что-то мне.
– Вот, держи. Представление должно было начаться еще пять минут назад.
– О чем вы?
Вещь в моих руках оказалась коротким платьем, расшитым блестками и перьями, к нему прилагались шляпа и туфли без задника, но на каблуках. Я посмотрела на Фазевелла – тот пил из фляжки – и на профессора – тот поглаживал свою серебристую бороду.
– Перл, пожалуйста, помоги мистеру Фазевеллу, будь хорошей девочкой. Беги переодеваться. Встретимся в театре, за кулисами.
Я поднесла наряд к свету – если это можно было назвать светом. И если это можно было назвать нарядом.
– Сьюки не ассистирует мистеру Фазевеллу на девятичасовом вечернем представлении, потому что она заболела.
– Вы хотите сказать – напилась в стельку! – взревел Фазевелл и поднял фляжку.
Профессор выхватил ее у волшебника. Что-то брызнуло мне на щеку и обожгло ее.
– В одиннадцать напьетесь хоть до беспамятства! – сказал профессор. – Перл, тебе нужно всего лишь помахать зрителям рукой, забраться в ящик и полежать там. Это нетрудно. Все остальное сделает мистер Фазевелл.
– Клинков даже рядом с тобой не будет, Короткие Штанишки. Ящик с секретом, и ты совсем малявка. Тебе даже поджиматься не придется.
– Но… – попыталась возразить я.
– Перл! – проговорил профессор так, словно в моем имени было пятнадцать «р».
Я побежала наверх.
– Что с тобой? – спросила Салли Энн, когда я влетела в комнату.
Я объяснила ей ситуацию, пока она помогала мне стащить рабочий комбинезон и натянуть турецкий наряд.
– Что они себе думают?! – возмутилась Салли Энн. – Стой смирно! Если я тут не затяну, ты из этого вывалишься.
– У меня ноги мерзнут! – завопила я.
Шляпу можно было назвать шляпой лишь с большой натяжкой. В дождь она бы вас совершенно не защитила. В конце концов я кое-как примостила ее на голове и убрала страусиный плюмаж с лица. Салли Энн посмотрела на меня как-то странно.
– Ой-ой, – пробормотала она.
– Что такое?
– Ничего. Ладно, пойдем. Я хочу это видеть. Одежда меняет человека, верно?
– Меня – нет! – возразила я и чуть не полетела с лестницы, но Салли меня поймала. – Как люди вообще ходят на таких каблуках?!
Нигде на свете не бывает так темно, как в театре за кулисами, но Салли Энн как-то сумела провести меня между всеми этими веревками и мешками с песком, ничего не задев. Я несла туфли. За занавесом туда-сюда носился профессор. Я быстро нацепила туфли, выглянула сквозь щель в занавесе, и меня ослепили лампы на сцене.
Фазевеллу пришлось орать, чтобы его услышали: вероятно, театр был под завязку забит пьяными.
– А теперь моя очаровательная ассистентка продемонстрирует, что не скован еще палаш, способный порезать ее! Она в силах увернуться от клинка любого кавалериста, является ли он ветераном великой армии республики…
Толпа зашикала и засвистела.
– …сражался ли он при Теннесси под началом великого Натана Бедфорда Форреста!
Толпа разразилась одобрительными возгласами и затопала.
– Давай, – прошептал профессор и открыл занавес.
Я заморгала от яркого света; мне по-прежнему ничего не было видно. Мозолистая ладонь Фазевелла ухватила меня за руку и потянула вперед.
– Леди и джентльмены, позвольте представить вам Афродиту, жемчужину Камберленда!
Я застыла.
Толпа продолжала вопить.
На столе перед нами лежал длинный ящик, похожий на гроб; крышка его была откинута. Рядом на столе лежала груда палашей.
– Ложись в ящик, золотце, – тихо скомандовал Фазевелл.
На нем было длинное синее одеяние и колпак, лицо блестело от пота.
Я подошла к ящику, словно марионетка, и увидела грязную подушку и вульгарного вида покрывало.
– Если кто-то сомневается в том, что наша Афродита абсолютно неуязвима, предлагаю за дополнительную плату в пятьдесят центов встать здесь, на сцене. После того как я засуну все палаши в ящик, можно будет заглянуть в него и убедиться, что ножи не нанесли ни малейшего ущерба этой молодой женщине – разве что ее наряду.
Толпа разразилась хохотом. Смаргивая слезы, я наклонилась над ящиком и вышла из туфель, сначала из левой, затем из правой. Я подняла голову и увидела лицо какого-то жирного типа в первом ряду. Он мне подмигнул.
В моих ушах зазвучал голос профессора: «Сейчас семейное представление, друг мой, приходите после десяти».
Я развернулась и побежала.
Крики толпы пронесли меня через занавес, мимо Салли Энн и профессора. Во внезапно окружившей меня тьме я споткнулась о мешок с песком, упала и ободрала колени, потом встала, распахнула дверь и устремилась дальше.
– Перл! Вернись!
Лицо мое горело от стыда и гнева на себя, толпу, Фазевелла, профессора, на Салли Энн и на эти дурацкие туфли! Мчась по коридорам босиком, словно обезьянка, я поклялась, что никогда больше не надену ничего подобного. Я летела со всех ног – не наверх, не в комнату, где я спала, а к единственному месту в музее, которое в душе ощущала своим.
Я захлопнула за собой дверь и остановилась, тяжело дыша, у диорамы инфернальных регионов.
Кто-то – возможно, профессор – частично выполнил мои обязанности, погасив иллюминацию. Эту часть работы я любила меньше всего – выключать лампы одну за другой, как будто свечи на торте. Но профессор не смотал рулон до конца. За сценой было темно, но на холсте, на уровне глаз, трепетал небольшой клочок света.
Наверняка мои друзья, когда я исчезла, решили, что я хочу оказаться как можно дальше от музея. Но они ошиблись. Я бежала не от чего-то, я бежала к чему-то, хотя и не знала, к чему именно. Желание найти это «что-то» и составляет основную часть моей истории – возможно даже, всей моей жизни.
Я подошла к единственному мерцающему пятнышку со своей стороны холста. Кончик моего носа оказался в дюйме от краски. Вздохнув, я почувствовала запах древесных опилок и грецкого ореха. Когда я выдохнула, кусочек сделался еще ярче. Если осторожно подуть на огонек, он не погаснет, а разгорится. Так и случилось с этим светящимся местом. Я почти увидела сквозь него какую-то комнату с витражами. Сзади донесся женский голос, звавший меня по имени, впереди звучала органная музыка.
Я закрыла глаза и сосредоточилась не на холсте, а на комнате за ним.
И шагнула вперед.
Вам когда-нибудь доводилось проходить сквозь паутину? Вот так я и шагнула из Колоссального Космополитического музея и павильона Науки и Искусства профессора ван дер Аста в место безбилетного киоска, в мой собственный холст, в мои инфернальные регионы.
* * *
Это были не похороны, а бал. Органист играл вальс.
Открыв глаза, я увидела, что нахожусь в танцевальном зале, полном призраков.
Я протянула руку назад, силясь нащупать холст или хоть что-нибудь знакомое и надежное. Но вместо этого я почувствовала холодную твердую поверхность: великолепное окно-витраж во всю стену, с изображениями русалок, волшебников и девушки за рулем адской машины. Окно и комната завертелись вокруг меня. Ноги подогнулись, и я осела на прекрасный паркетный пол.
Нет, это не комната кружилась, это кружились танцоры, и еще как! Пятьдесят пар в вихре танца неслись по залу; сквозь их полупрозрачные тела видны были серебряные канделябры, стенные панели из красного дерева и обои из золотой фольги. Среди танцоров были старики и молодые люди, богато и бедно одетые, белые, чернокожие и индейцы. На одних были парики и короткие бархатные штаны, на других – одежда из замши и меховые шапки, были и те, кто надел бальное платье или фрак. Они не походили на актеров и двигались быстрее, чем, казалось, позволяют шаги. Их ноги не касались пола. Эти танцоры вальсировали в воздухе.
У дальней стены стоял орган-позитив. За ним, спиной ко мне, сидела миниатюрная седовласая дама; плечи ее вздрагивали – с такой силой ее пальцы опускались на клавиши, а ноги нажимали на педали. Сквозь нее я попыталась разглядеть ноты, по которым она играла, но не смогла. Дама не была призраком. Она была материальна. Я посмотрела на свою руку и увидела сквозь нее узорный паркетный пол. Тут-то я и закричала.
Музыка смолкла.
Танцоры остановились.
Пожилая дама развернулась на скамеечке и посмотрела на меня.
Все посмотрели на меня.
Потом танцоры ахнули и отступили – нет, отплыли по воздуху – подальше. Ощутив позади некое движение, я подняла голову и увидела, как из витражного окна шагнула тощая девчонка в платье с перьями. Я закричала снова. Девчонка подскочила и стала мне вторить.
Девчонка была мной, и она тоже была полупрозрачной.
– Пятиминутный перерыв! – раздался пронзительный голос миниатюрной пожилой дамы. – После перерыва танцуем виргинскую кадриль!
Вторая Перл примостилась на пол рядом со мной. Третья Перл шагнула из витража. В этот самый миг пожилая дама очутилась рядом с нами, на ней было великолепно сшитое черное траурное платье; откинутая вуаль открывала пухлые, румяные щеки и большие серые глаза.
– Э, нет! – сказала дама. – Так не пойдет! Первое правило парапсихического перемещения – держать свою целостность.
Из окна шагнула четвертая Перл. Пожилая дама взяла за руки меня и вторую Перл и прижала наши ладони друг к другу. Ощущение было – как будто вдавливаешь ладонь в сливочное масло: моя рука начала погружаться в ее руку, а ее рука – в мою. Мы обе закричали и попытались вырваться, но хватка у пожилой дамы, державшей нас за запястья, была железной.
– Лучше закрой глаза, милочка, – посоветовала она.
Глаза мои тут же крепко зажмурились – не по моему желанию, а как будто чья-то невидимая рука дернула за веки, как за жалюзи. Пожилая леди ухватила меня покрепче, и я испугалась, что сустав сейчас хрустнет. Тело мое потеплело, начиная с того же запястья, и я почувствовала себя лучше – не просто спокойнее, а как-то полнее, завершенней.
В конце концов пожилая дама выпустила мою руку и произнесла:
– Теперь можешь посмотреть, милочка.
Я открыла глаза, на этот раз по собственной воле, и уставилась на свои руки, со всеми их складочками, мозолями, обгрызенными до мяса ногтями. Они оказались настолько знакомыми и крепкими, что я расплакалась.
В зале не было никого, кроме меня – одной меня! – и стоящей на коленях рядом со мной пожилой дамы. Был еще подпрыгивающий у нее за спиной призрак – смахивающий на хорька усатый мужчина в котелке и клетчатом жилете, когда-то, возможно, цветном, но теперь сером в серую клетку.
– Прекрасная работа, – заметил этот парящий в воздухе тип. – У вас руки хирурга.
– Руки тут имеют наименьшее значение, мистер Деллафейв, но вы очень любезны. Господи, дитя, ты меня так напугала! Шесть штук тебя запутались в стекле. Хорошо, что это произошло при мне и все удалось исправить. Но я забыла о хороших манерах. Я – Сара Парди Уинчестер, адова покойного Уильяма Вирта Уинчестера, а это – мой друг, мистер Деллафейв.
Она оглядела мой наряд, протянула руку и сдернула с меня плюмаж из страусиных перьев.
– Ты слишком молода для танцовщицы, – сказала она.
Я вздрогнула и вытерла нос тыльной стороной своей чудесной и милой давней подруги – ладони.
– А я… А вы… Простите, пожалуйста, а это рай или ад? – поинтересовалась я.
Пожилая дама и человек в котелке дружно рассмеялись. Его смех напоминал звук выходящего пара, а вот смех дамы был глубоким и громким, как будто смеялась женщина куда моложе и куда крупнее.
– Мнения расходятся, – ответила пожилая дама. – Мы считаем это просто Калифорнией.
* * *
Леди Уинчестер сообщила, что это место называется «Вилла Лланада». По ее словам, это переводится с испанского как «дом на равнине». Мне никогда не доводилось бывать ни в одном доме, пока окно-витраж не привело меня в Дом-на-равнине, где я впервые столкнулась с самим принципом подобного жилья. Ну и знакомство это было, скажу я вам! Никакой дом, виденный мной с тех пор, и в подметки ему не годился.
Начнем с размера. «Вилла Лланада» занимала шесть акров. Если считать отгороженные комнаты, в которые могли попасть только призраки, но не считать те, которые были разрушены или совмещены с более просторными помещениями, всего в доме было сто пятьдесят комнат, плюс-минус дюжина – по большей части спален. «Я сама ночевала всего-то в семидесяти или в восьмидесяти, – говорила вдова, – но этого достаточно, чтобы уловить общую идею».
Здание это не было достроено. Повсюду добавлялись балконы, террасы, крытые галереи, башенки, целые крылья – либо наоборот, сносилось или реконструировалось то, что создали всего месяц назад. Строительство велось в отдалении от фасадной части дома, где в основном обреталась вдова, но визг пил, стук молотков и голоса рабочих – «Так держать! А теперь самую чуточку вправо, Билл!» – слышны были днем и ночью. Они трудились круглые сутки, посменно. Раз в неделю десятники снимали шляпы и собирались на крыльце в ожидании зарплаты. Вдова выкатывала из дома детскую тележку с тяжелыми мешками, в каждом из которых было столько золотых монет, что десятник мог выдать своим рабочим деньги из расчета три доллара за день в одни руки. Десятники были мужиками здоровенными, но и им приходилось поднатужиться, чтоб поднять и унести эти мешки. Впрочем, они не жаловались.
– А вы не боитесь? – поинтересовалась я у вдовы, впервые увидев платежный день.
– Чего, милочка?
– Что кто-нибудь из них вломится в дом и ограбит вас.
– Ох, Перл, от тебя прямо не знаешь, чего и ждать! Нет-нет, можешь грабителей не опасаться.
Наверное, непрошеные гости быстро заблудились бы в помещениях, поскольку планировка многих частей дома не поддавалась логике. Лестницы приводили к потолку и там заканчивались. Дверь могла открываться в глухую кирпичную стену или наружу – в никуда, даже не на балкон. Дом вдоль и поперек пересекали тайные ходы под рост вдовы, так что она могла внезапно появляться и исчезать без предупреждения, не хуже призрака. Вдова мне поведала, что главную дверь как установили, так больше и не отпирали, даже не трогали с тех самых пор.
Но снаружи здание сбивало меня с толку еще сильнее. Стоило мне завернуть за любой угол – и я обнаруживала сводчатые окна, лоджии, башенки с остроконечными крышами из красной черепицы, купола и нескончаемую позолоту. Если же я заворачивала за другой угол, то видела то же самое, только в еще больших количествах. Я слышала, что у большинства домов четыре угла, но у Дома-на-равнине их были десятки. Выглядывать наружу тоже было бессмысленно, потому что, куда бы я ни смотрела, я натыкалась на все ту же высокую живую изгородь из кипарисов, а за ней – на пологие холмы, засаженные абрикосами, сливами и грецкими орехами. Холмы эти уходили к горизонту. Мне ни разу не удалось обойти дом целиком – я неизменно сдавалась и возвращалась внутрь, и неизменно оказывалась в комнате для завтраков, и вдова все так же сидела в плетеном кресле и вязала. Она поднимала голову и обращалась ко мне: «Как попутешествовала, милочка?»
Ни в одной из ста пятидесяти комнат не было ни одного зеркала, что лично меня вполне устраивало.








