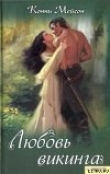Текст книги "Сердце друга"
Автор книги: Эммануил Казакевич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Он встал и сказал Орешкину:
– Так держать! Понятно? – Он был без фуражки, ее сбило пулей. Он продолжал говорить: – Твой НП теперь будет здесь, в траншее, а мой – вон там, в кустарнике, где ты сидел и ухмылялся. – Осмотревшись, он устало улыбнулся: – Хорошо оборудовали траншеи. Немец порядок любит.
Действительно, траншея была сделана хорошо, даже красиво. Вся обшитая досками, она шла правильными зигзагами. Ниши для спанья и те были устланы досками и соломенными матами. Повсюду валялись масленки из оранжевой пластмассы – остатки недоеденного немецкого завтрака. Здесь же лежали и убитые немцы и наши рядом. В воздухе стоял странный, единственный на свете запах захваченной вражеской траншеи. Очень чужой запах.
Акимов пошел по траншеям, перебрасываясь с солдатами полушуточными-полусерьезными словечками:
– Ну, вот мы и добрались до приличного жилья. Сухо и не дует. Держитесь здесь, смотрите, покрепче. Если нас выбьют обратно в болото и грязь – грош нам цена.
Вдруг он умолк. Он услышал поблизости женский голосок, разговаривающий по-немецки. Аничка, усевшись на ящике из-под патронов, с блокнотом в руках, допрашивала немецкого пленного.
– Вы почему здесь? – спросил Акимов.
Она подняла на него глаза и ответила, высокомерно вскинув подбородок:
– Дальше немцы не пускают.
Кругом сдержанно хихикнули солдаты.
– Нет, без шуток, – загорячился Акимов, покраснев. – Вам тут нечего делать.
– Что ж, – она хладнокровно поднялась и отряхнула шинель, – тогда допросите пленного сами.
– Да, но тут не место для допроса.
– Да, но он ранен и не может двигаться.
Акимов покосился на пленного, махнул рукой и пошел дальше. "Что, съел?" – спросил он себя, не зная, досадовать или смеяться.
Позднее он вместе с Дроздом настоял, чтобы переводчица отправилась с пленным в тыл и находилась с Ремизовым, на старом НП.
Найдя глазами среди солдат Макарычева, он сказал ему с притворной строгостью:
– Вам боевое задание. Возвращайтесь. Будете ужин готовить. Поняли? Выполняйте.
Вместе с пленным, двумя разведчиками и батальонным поваром Аничка отправилась в тыл. Пленный действительно не мог идти самостоятельно – его то несли, то тащили. Когда они уже переправились через ручей, опять заработали немецкие минометы, пришлось лечь плашмя в грязь, кругом рвались мины, и Аничка ужасно боялась, чтобы не убило немца. Но все обошлось. Вскоре они оказались у Ремизова.
Укоризненно качая головой и помогая Аничке счищать грязь с шинели, Ремизов говорил:
– У меня все время душа была неспокойна за вас. Нехорошо все-таки. Вы не сердитесь на меня, но девушкам здесь не место, честное слово. Немцы ведь не знают, что вы писали в институте курсовую работу об их великом поэте Шиллере. Возьмут и убьют. Фашисты ведь, Анна Александровна.
Он собирался уходить вперед, на новый НП за ручьем, но командир полка все еще не разрешал менять НП. Аничку Ремизов настоятельно попросил отправиться в овраг, в землянку с патефоном.
– Там вы и пленного толком допросите, и музыку послушаете, – сказал он ей, опять берясь за телефонную трубку.
Вскоре Аничка с пленным и разведчиками очутилась в батальонном овраге, в том самом, куда пришла этой ночью. Огонь противника ослабел, и они шли не по дну, а по кромке оврага и, так как пленный был тяжелый, вскоре сели передохнуть на окраине разрушенной, сожженной деревни. Здесь они пристроились на обломках избы, возле черного дымохода, рядом с промежуточной телефонной станцией. Аничка решила тут же допросить немца и основные данные допроса передать по здешнему телефону.
Из солдатской книжки пленного явствовало, что он является обер-ефрейтором 78-й штурмовой дивизии Гансом Кюле из Ганновера.
Маленькое число "78" представляло собой факт большой важности. Этой дивизии раньше тут не было. Свистнув от удивления и удовольствия, Аничка начала допрос.
То, что его допрашивала "фрейлейн" – то есть девушка, да еще красивая и с мелодичным голосом, – подбодрило немецкого ефрейтора: он понял, что расстреливать его не будут. Более того, он не только приободрился, но и слегка обнаглел. Ранее расположенный говорить всю правду, он теперь подумал, что это было бы нехорошо, так сказать, недостойно немецкого солдата. Поэтому он с каждым вопросом отвечал все неопределеннее и наконец просто замолчал. Для того чтобы поднять свой собственный дух и взвинтить себя, он начал мысленно называть русских – и в том числе даже эту юную, приятную и хорошо знающую немецкий язык девушку: "мои мучители", "садисты, издевающиеся над раненым", и т. д.
Наконец Аничка потеряла терпение и, глядя в упор в его бегающие глаза, спросила, будет ли он отвечать на вопросы.
– Хорошо, – медленно сказала Аничка, не получив ответа. – В таком случае я передам вас солдату, который вас проводит в штаб. – Она повернулась к разведчику Бирюкову и подозвала его: – Подойдите сюда, Андрюша.
Бирюков – сама доброта, тихий и молчаливый уралец – подошел и нагнулся над пленным. Лицо Бирюкова – плоское, с раскосыми глазами и красными обветренными скулами, производило на людей, не знавших его, впечатление необычайной свирепости.
Кюле, в ужасе отшатнувшись, сразу же заговорил и рассказал все, что знает.
Весьма довольная своей военной хитростью, Аничка записала показания пленного, передала самое важное из этих показаний начальнику штаба полка по телефону, потом отправила разведчиков с пленным в тыл, а сама пошла обратно к Ремизову. Но не успела она спуститься в овраг, как заговорили на тысячи ладов немецкие пушки и минометы. Вероятно, немцы подтянули сюда артиллерию с других участков.
Аничка еле успела заскочить в землянку Акимова. Овраг содрогался.
В землянке никого не было, и Аничка очень обрадовалась этому. Она закрыла глаза и заткнула себе уши пальцами, прижавшись к стене, оплетенной ивовыми прутьями. Ей было страшно, и она делала то, что делают люди, когда им страшно.
Потом заскрипела дверь, приползли полковые связисты с катушками провода, повар Макарычев и еще какие-то солдаты. Аничка сразу же присела к столу и как ни в чем не бывало стала причесывать свои коротко стриженные волосы, деловито говоря:
– Сильный огонь. Ясно, немцы перебросили на наш участок артиллерийские подкрепления. Видимо, их сильно напугала наша атака. Как там наши – удержат позиции или нет?
– Только бы комбата не убило, – сказал Макарычев. Он был очень бледен.
Продолжая причесываться, Аничка проговорила.
– Посмотреть бы хоть одним глазком, что там делается.
Ей послышался оттенок лицемерия в этих своих словах. И тогда она, превозмогши себя, действительно вышла в овраг и вдоль его западного склона медленно пошла вперед. Вскоре артналет прекратился. Издали слышалась только довольно частая пулеметная дробь. Опять пошел дождь. Пронеслась телега без ездового. Какое-то предчувствие беды закралось в сердце Анички. При этом она думала больше всего об Акимове. Все время боя она находилась подле НП комбата и была свидетельницей всего, что творилось там, слышала все, включая акимовскую ругань, которая почему-то не оскорбляла ее слуха. Было бы ужасно, думала она теперь, если бы он погиб. Ужасно не для нее, разумеется, но для всего батальона и для полка. И для нее в том числе.
Шум боя слабел все больше, потом все утихло. Аничка приближалась к той щели, в конце которой помещался НП. Подойдя ближе, она не узнала местности. Все было перепахано снарядами. На месте НП зияла воронка. В этой воронке копались люди с лопатами. А на краю ее, на кончике вывороченного бревна, сидел человек без фуражки. Это был Акимов.
Один из копавших вылез из воронки и, постояв немного, бросил лопату. Аничка подошла к нему и узнала Майбороду. Она спросила:
– Что случилось?
– Прямое попадание, – сказал Майборода. – Замполита убило.
Аничка побелела и сжала зубы до боли в ушах. Потом она взглянула на Акимова. Он сидел неподвижно, и по его щекам текли слезы. Аничка задрожала. Она никогда не поверила бы, что этот железный человек, которого она наблюдала сегодня целый день, может плакать. И то, что он может плакать и что он плачет, потрясло ее. Ей хотелось подойти к Акимову и обнять его. Акимов поднял на нее глаза, медленно встал и спросил:
– Вы здесь? – Потом он опустил голову и, указывая рукой на воронку, сказал: – Ничего от человека не осталось. Ничего.
Рядом, в соседней щели, телефонист настойчиво, почти с отчаянием, то понижая, то повышая голос, звал, убеждал, умолял:
– Лилия, Лилия, Лилия, Лилия.
Показалась группа раненых. Один из них, поравнявшись с Акимовым, сказал:
– Прощайте, товарищ капитан. Может, уже не увидимся.
– Вытягов! – воскликнул Акимов. – Ранен?
– Ранен. – Сержант улыбнулся. – Но не очень опасно. – Уходя, он опять обернулся к Акимову и сказал: – Жалко. Вы все на отдых, а я в госпиталь.
Смысл сказанных Вытяговым слов дошел до Акимова спустя полминуты. Он сделал два шага вслед раненым.
– Ты это про что? – спросил он. – Про какой такой отдых?
Вытягов остановился, повернулся к комбату и, хитровато смерив его глазами, сказал:
– Будто не знаете! Это все знают. Ночью вернулись из медсанбата Скопцов с Алешиным. Войска там собралось видимо-невидимо. Нас сменять будут. – Он помолчал, потом повторил: – Прощайте, товарищ капитан. Мы вас никогда не забудем.
Раненые пошли дальше, а Акимов долго смотрел им вслед, потом опустил голову, почему-то развел руками, вздохнул и пошел вперед.
Стемнело быстро, как темнеет осенью. Часто вспыхивали немецкие ракеты – противник боялся ночной атаки. В оврагах и траншеях все угомонились, улеглись кто где попало. Дождь перестал. А в первом часу ночи все были подняты по тревоге и наконец увидели.
Лязгая оружием, гремя котелками, хлюпая сапогами по глине, подходили свежие части. Хорошо одетые и вооруженные, оглядываясь не очень весело, но и вовсе не грустно, посмеиваясь над унылым видом здешних солдат, но и понимая причину этого унылого вида, нюхая воздух, пахнущий порохом и пожаром, – одним словом, в полном сознании трудности предстоящей жизни, но без всяких ужасов по этому поводу, – пришельцы занимали построенные другими землянки, хлынули во все щели, в том числе и в захваченную сегодня вражескую траншею, что-то делали, мастерили, обживались, хлопотали, переобувались, крякали, вздыхали.
– Счастливо отдохнуть, – напутствовали они беззлобно и безо всякой зависти строившихся и уходивших в ночь здешних солдат.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Любовь
1
Поезд, состоявший из теплушек, двигался на восток, и двигался не очень быстро, как и полагается поезду, везущему солдат не на фронт, а от фронта. Солдаты целыми днями сидели и стояли, тесно прижавшись друг к другу, у открытых дверей и наслаждались великим покоем, исходившим от широких серых полей. Стаи птиц улетали на юг. Золотые березки сменялись зелеными елками, а то вдруг у колодца возникала красная мокрая рябина. Впрочем, деревья не так успокоительно и мирно действовали на солдат солдаты досыта насмотрелись на разные деревья, – как зрелище станций, семафоров, стрелок, пакгаузов – всей исправно действующей системы железных дорог. Привыкнув к пешим маршам или передвижениям на машинах, солдаты во время боев хотя и пересекали не раз незаметно для себя пару рельсов, но почти забыли, что на свете есть железная дорога, по которой можно ездить.
Вид тихих деревень и серых полей, звуки паровозных гудков и лязг колес навевали чувство спокойствия, и сны тоже были тихие, мирные. Снились котята, куры, дети – правда, все они почему-то копошились в длинных и мокрых оврагах.
Ночью не спали только дежурные, подкладывавшие дрова в железные печки. Остальные все спали, даже не спали, а отсыпались. Утром их будил холод: уже наступили утренние заморозки. Спрыгивали с нар, босиком бежали к печке, сладко затягивались горьким махорочным дымом, зевали, обувались, на ближайшей станции бежали с котелками в вагон, где находилась кухня, и, позавтракав без особого аппетита, опять весь день спали или глядели на пробегавшие мимо равнины, жадными ноздрями втягивая в себя чистый и прохладный воздух предзимья.
Куда ехали, никто не знал, и мало кто этим интересовался. Пункт назначения был неизвестен даже командиру дивизии. Военные коменданты больших станций и те знали не более того, что им полагалось знать: следующую большую станцию, куда им надлежит отправить воинский эшелон номер такой-то.
Первый батальон был, в связи с проведенным им изнурительным боем, освобожден от несения наряда по эшелону. Спали по пятнадцати часов в сутки, а капитан Акимов – тот лежал все время на своих нарах, почти не слезая с них. Молчаливый Майборода приносил ему поесть, забирал посуду и не осмеливался заговорить с комбатом, так как тот находился в том изредка нападавшем на него тяжелом и хмуром настроении, при котором разговаривать с ним было опасно.
Акимов лежал наверху, возле окошка, и часами глядел в него, ни звуком не выдавая того, что не спит. В вагоне все соблюдали молчание, и так как это было тягостно, то офицеры батальона и солдаты штаба батальона, ехавшие здесь, старались улизнуть к соседям.
В вагоне оставался один безропотный Майборода, который, дорвавшись наконец до настоящих дров, топил беспрерывно, наслаждался одиночеством и время от времени подымал голову кверху, прислушиваясь, не сказал ли что-нибудь и не пошевелился ли комбат.
Наконец однажды, на третьи сутки, Акимов слез и попросил умыться. А умывшись, спросил:
– Корзинкин жив?
– Да.
– А с Файзуллиным что?
– Ранен Файзуллин.
– С кем едем?
– Первый и второй батальон и штаб полка, – ответил Майборода, оживившись, и начал выкладывать новости: – Полк едет двумя эшелонами. Мы задний. Командир полка едет впереди, с третьим батальоном и артиллерией. Конечно, там же и тыловики. На фронт они идут сзади, зато с фронта впереди. В общем, дивизия растянулась эшелонов на десять. Каждый день отправляется эшелон. Я для вас вот на одной станции пива достал. Выпейте, товарищ капитан, а то выдохнется... За деньги, – добавил он, откупоривая бутылки и ухмыляясь. – Давно уже ничего не покупал за деньги.
Акимов молча выпил пиво, которого не пробовал, пожалуй, с начала войны.
Майборода сказал:
– А хорошо жить без денег. Чтобы нам все давали – вот как на фронте: и одежу и хорошее снабжение... Но только без войны.
– Значит, чтоб войны не было, а снабжение чтобы было? – усмехнулся Акимов. – Ну, а с работой как?
– А как же? – возразил Майборода обиженно. – Без работы разве жизнь?
Акимов сказал:
– Что ж, это и есть почти коммунизм. Чтоб войны не было, была бы мирная работа, а снабжение – как на фронте... Да ты, оказывается, убежденный коммунист, сержант Майборода.
– Да, выходит так, – задумчиво произнес Майборода. После некоторого молчания он возобновил рассказ о местных новостях: – К вам приходили, проведать. Инженер полковой и еще этот, как его, птица певчая – чиж или как там его. Дрозд. И с ними переводчица приходила. Спрашивала про ваше самочувствие. И еще пластинку одну просила поставить, да выкинул я эти пластинки во время погрузки. Куда едем, неизвестно. Некоторые говорят – в Москву. Формироваться, конечно.
– Они с нами едут? – спросил Акимов.
– Кто?
– Ну, да вот Дрозд и остальные...
– Да, с нами.
На ближайшей станции Акимов вышел погулять. Он пошел вдоль эшелона. Перрон разрушенной станции был полон гуляющих солдат. Возле киоска стояла группа офицеров, среди которых Акимов сразу же увидел Аничку. Кто-то окликнул Акимова:
– Павел Гордеич! Отоспались наконец?
– Да, – односложно ответил Акимов.
Аничка обернулась к нему и крикнула:
– Идите сюда, Акимов!
Тут же она сама пошла ему навстречу и дружески пожала ему руку. Он смутился, но посмотрел на нее с жадным любопытством: какая же она на самом деле? Такая ли, какой показалась ему тогда в первый раз?
Она оказалась такой же. В чуть туманном свете дня она представлялась только более земной, менее высокомерной и далекой. В том, как она его встретила и что сама подошла к нему, чувствовалась доброжелательность, но не больше. Или больше? Во всяком случае – в ее поведении ощущалась некоторая властность и понимание своей власти. Несмотря на свою юность, несмотя на то что из-под ее шапки-ушанки выбивалась темно-каштановая прядь волос, падая на белый, без единой морщинки, гладкий, высокий, выпуклый лоб, – несмотря на все это, она вела себя подобно старшей здесь, и ее неожиданная приветливость по отношению к Акимову тоже имела оттенок знающего себе цену благоволения.
Инженер Фирсов удивился:
– Ты все еще не сбрил бороду? Пора, пожалуй, сбросить лишнюю растительность.
– Да, верно, – рассеянно ответил Акимов. – Просто забыл про нее.
– А вы, правда, побрейтесь, – попросила Аничка. – Тут на станции парикмахерская есть. А мы подождем вас.
Он готов был тотчас же исполнить ее желание, но нечто строптивое, злое заставило его ответить ей холодно и враждебно:
– Уж вам-то моя борода не мешает.
Она удивилась, вспыхнула, но, овладев собой, сказала язвительно:
– Грубость украшает вас так же мало, как и борода. – И, пристально посмотрев на него, добавила: – Не надо злиться.
Акимов ничего не ответил и вернулся к себе подавленный. Он сам не понимал, почему так грубо с ней говорил. Потом он понял, что разозлился вот по какой причине: она разговаривала с ним слишком сердечно, и именно это так рассердило его. Он не желал, чтобы она относилась к нему, как ко всем. И еще одно, пожалуй: в ее тоне ему почудилось нечто вроде заигрывания. Если же она заигрывает с ним, хотя они еле знакомы, значит, она может заигрывать с любым еле знакомым человеком. И это наполняло его нехорошим, ревнивым чувством.
"Что греха таить, – думал он, кусая кончик этой самой своей злосчастной бороды, – я влюблен в эту девицу, и так сильно влюблен, что не могу простить ей заигрывания даже с самим собой".
Не было Ремизова – того единственного человека, с которым Акимов мог бы поделиться своими мыслями. Что сказал бы Ремизов?
Лежа на своих нарах, Акимов старался представить себе, что сказал бы Ремизов.
Ремизов сказал бы:
– Друг мой, есть вещи сильнее нас. Но вовсе не значит, что все, что сильнее нас, – плохо. И кроме того, почему ты не допускаешь, что этой милой и прелестной девушке ты просто понравился? Не скромничай. Не такой уж ты скромный, чтобы считать себя недостойным ее любви, скорей напротив. Нет, ты слишком самолюбив, и в этом – причина твоих сомнений. Ты хочешь знать наверняка, что она к тебе неравнодушна. Узнав это, ты побежал бы к ней и постарался бы получить над ней власть. Ты бы тогда помыкал ею, сам притворялся бы равнодушным, чтобы заставить ее полюбить тебя еще больше. Я знаю эту игру, где человек хочет подчинить себе любимого человека, сделать из него раба, при этом, может быть, мучаясь великой жалостью к нему. Голос Ремизова начал бы звучать металлически, и он закончил бы сухо: – И это, учти, пожалуйста, есть пережиток капиталистического сознания, и надо с ним бороться.
Акимов грустно рассмеялся, так похоже это было на то, что сказал бы, будь он жив, капитан Ремизов.
Вечером поезд остановился на станции Рославль, и в вагон к Акимову пришел командир второго батальона капитан Лабзин. Он влез к товарищу на нары и зашептал ему на ухо:
– Павел Гордеевич, прошу тебя, пойдем. Тут недалеко живет одна моя знакомая. Возле самой станции. Мы с ней переписываемся год. Забежим. Поезд тут простоит часа три. Я спрашивал...
"И зачем тебе компания?" – спросил было Акимов, но потом вдруг поднялся, оделся и сказал:
– Ладно.
Они прошли по улочке, застроенной железнодорожными бараками, повернули на другую и остановились возле палисадника с одинокой красной рябиной. Лабзин пошел вперед, в темную прихожую небольшого стандартного дома. Он был слегка взволнован, так как знакомую свою доселе никогда не видел, а только переписывался с ней после того, как получил ее письмо, адресованное "лучшему снайперу воинской части". Письмо это, подобно сотням тысяч других женских писем, было послано на фронт, чтобы подбодрить и утешить солдата, а пожалуй, и для того, чтобы подбодриться и утешиться самой писавшей.
В маленькой комнатке, скупо обставленной самым необходимым, горела свеча. Двух комбатов встретила высокая худощавая женщина лет тридцати, с очень усталым лицом, но с прекрасными русыми волосами, выложенными косами на голове. Эти косы, лежавшие кругом головы, молодили женщину и напоминали о том, что, в сущности говоря, она совсем недавно была просто девчонкой.
Приход двух капитанов, из которых один мог считаться ее знакомым, взволновал женщину. После первых слов Лабзин сразу стал веселым и развязным, вынул бутылку водки и какую-то закуску, которую почему-то называл "закусь", что очень коробило Акимова.
– Пригласите подружку, Наташа, – сказал Лабзин. – Посидим, поговорим.
Наташа накинула на плечи темный платок и вышла из комнаты. Лабзин же, поглядывая на Акимова, беспокойно спрашивал:
– Ну как? Ничего? Правда, ничего?
Он всегда робел перед Акимовым и теперь, хотя сам не был ни в коей мере очарован внешностью Наташи – на фотографии она выглядела моложе, хотел бы, чтобы Акимову она понравилась. Его нервировало молчание Акимова, который сидел у столика, подперев рукой большую равнодушную голову.
Минут через десять вернулась Наташа с подругой. Подругу звали Аней, и это задело Акимова. Аня была высокого роста, с большими серыми глазами и бледным лицом.
Сели к столу. Выпили. Исчезла связанность и робость. Лабзин рассказал что-то веселое, при этом все время расхваливая Акимова и уничижая себя.
Акимов говорил мало, но вскоре заметил, что Наташа оказывает ему предпочтение перед Лабзиным, и был несколько сконфужен этим. Она все время обращалась только к нему, а чаще всего, как и он, молчала. Лабзин тоже вскоре заметил, что Наташе нравится Акимов, но не обиделся. Он занялся Аней и вскоре вместе с ней ушел.
Оставшись с Наташей наедине, Акимов почувствовал себя неловко. Он даже досадовал на себя по этому поводу. Былая моряцкая удаль словно совсем исчезла в нем. "Не уйти ли?" – подумал он, но и уйти не мог. Она сняла нагар со свечи и сказала:
– Темно теперь у нас. Немцы взорвали электростанцию.
Потом она опять подсела к нему. Оба были смущены и взволнованы. Он подумал об Аничке с горьким злорадством. "Все, кончено. Ведь все равно все кончено. Вот и прекрасно. Забыл тебя. Больше не буду мучиться. Конец". Он взял руку Наташи в свою. Ее руки были очень горячие. Вся она была горячая, как огонь.
Она еще что-то потом говорила, вздыхала...
Он лежал рядом с ней, почти бездумный. "Вот теперь все будет хорошо", – думал он, рассеянно гладя ее распустившиеся косы, а она тихо твердила:
– Спасибо тебе. Спасибо.
Она благодарила именно за эту рассеянную, добрую ласку, а не за то, что было раньше.
– Я буду очень тосковать по тебе, – сказала она.
И он поверил ей, несмотря на их быстрое и случайное сближение. То, что для него было случайностью, ей казалось уже судьбой. Лицо ее, еле знакомое, казалось ему знакомым и прекрасным. Он уже упрекал себя за то, что отнесся к ней только лишь как к безымянной и безликой отдушине для своих страстей. Он вдруг подумал, что мог бы остаться здесь навсегда и был бы счастлив. Он ощутил в ее объятиях и прочитал в ее широко открытых глазах повесть одинокой жизни. Это была та же война, только в ином обличье.
Недалекий гудок паровоза напомнил ему о том, где он находится, и заставил поспешить.
Она накинула платок и вышла вместе с Акимовым.
Состав стоял темный и безмолвный. Впереди, рассыпая снопы искр, уже попыхивал паровоз.
Они постояли в густой тени станционного здания. Она не имела ни права, ни власти удержать Акимова хоть на минуту и с непритворным отчаянием припала в темноте к его груди, чтобы навеки проститься. А он, гладя ее по голове, не находил в себе ни одной нехорошей мысли, а только жалость и волнение.
2
Возле своего вагона Акимов увидел одинокую фигуру.
– Это вы, товарищ капитан? – послышался голос Майбороды.
– Я. Чего ты не спишь? Иди спать.
– Вас дожидался.
– Ну, вот я здесь.
Майборода влез в вагон, а Акимов остался. Кто-то впереди запел приятным голосом под гитару. Акимову показалось, что он узнал голос Дрозда. Вспомнив о том, что Аничка спрашивала Майбороду о пластинках, Акимов, усмехнувшись, подумал: "На бесптичье и дрозд соловей". Хотя Дрозд пел не так уж плохо.
Прислушиваясь к пению, Акимов вдруг решил, что Дрозд влюблен в Аничку. Как бы то ни было, далекое и негромкое бренчание гитары наполнило его тоской и ему захотелось пойти туда, где находилась Аничка. Он постарался отбросить прочь эти мысли, постарался думать о Наташе, о ее одинокой судьбе, но уже понял, что встреча с Наташей вовсе не поможет ему успокоиться и выкинуть из головы другое.
В темноте двигались фонарики железнодорожников. Чей-то голос спросил:
– Скоро нас отправят?
– С полчасика постоите, – ответил другой голос. – Там путь занят.
Акимов пошел вдоль состава и наконец поравнялся с полуоткрытой дверью штабного вагона. Гитара уже замолкла. Из вагона доносились негромкие голоса. Акимов постоял, постоял, потом полез в вагон. Люди сидели вокруг печки. Огонь в печке ярко пылал.
– А, товарищ Акимов, – встретил его инженер Фирсов. – Пожалуйте к нашему очагу.
Акимов прислушался. Но нет. Женского голоса не было слышно. Тем не менее он чувствовал, что она здесь, что она где-то тут, рядом, сидит и молчит. Это было ясно из всего поведения людей, хотя бы из их сдержанных разговоров. Он ждал, что кто-нибудь окликнет ее, спросит о чем-то, и тогда можно будет хоть услышать ее голос. Но никто ее не окликал.
Он собрался было отправиться к себе, но поезд тряхнуло, паровоз дал свисток. Тронулись. Конечно, он мог бы спрыгнуть на малом ходу и с легкостью вскочить в свой вагон, но ему не хотелось уходить отсюда, и он воспользовался этим поводом, чтобы не уйти.
Аничка же упорно молчала, сидя в углу на нарах, именно потому, что вошел Акимов. Ей трудно было определить свое чувство к нему, но ей почему-то казалось все время, что она и он имеют от всех некую тайну, никому, кроме них, не известную. Может быть, то, что она видела, как он плачет.
Конечно, он был настоящим героем. Но и остальные люди, сидящие здесь в вагоне, тоже были героями. Дрозд несколько раз ходил по вражеским тылам. Фирсов был опытным и храбрым сапером и тысячу раз рисковал жизнью. И все остальные тоже так. Они разговаривали, вспоминая прошлые бои, размышляя вслух о том, что их ожидает на месте формировки, – одним словом, вели самые обыкновенные разговоры, но она знала, что за этими обыкновенными словами кроется не бедность мысли, а привычка к сдержанности, нежелание и неумение говорить красиво. Каждого из сидящих здесь людей она, несмотря на темноту, видела. Не видела она одного Акимова. Он казался ей неясным, глубоким и непохожим на других. Она не могла понять, в чем дело, пока наконец, усмехнувшись в темноте, не подумала: "Да он мне просто нравится".
Тем не менее она попыталась отдать себе отчет в том, почему он ей нравится. И решила, что ее поразило в нем редкое сочетание физической и нравственной силы. На него можно было положиться, он был одним из тех людей, которые способны быть могучими защитниками от невзгод и горестей жизни. Но разве не ощущала она себя тоже достаточно сильной и способной на многое? Да, ощущала и, чувствуя в себе скрытые силы, равные его собственным, тянулась к нему с тем благородным и бескорыстным самоотречением, какое испытал бы, будь он мыслящим существом, дождь, приближаясь к земле.
Как раз перед тем, как Акимов вошел в вагон, о нем здесь говорили. Все отзывались о нем с похвалой, кроме Дрозда, который почему-то говорил об Акимове с непонятным раздражением. Например, он говорил, что Акимов заносчив, груб и носится со своим морским прошлым, как "с писаной торбой".
Дрозд так отзывался об Акимове потому, что страстно и ревниво любил Аничку и боялся, что Акимов ей понравится так же, как он нравился всем, в том числе ему, Дрозду.
Капитан Дрозд, будучи хорошим человеком, храбрым и дельным офицером, как бы старался казаться хуже, чем был на самом деле, считая, что разведчик должен вести себя самоуверенно и развязно. Смуглый, как цыган, с блестящими черными глазами, он мог от всякого пустяка зажечься, как спичка. Лишь во время выполнения боевой задачи он становился расчетливым и хладнокровным и в такие моменты очень нравился Аничке. С ней он вначале принял тот залихватский и игривый тон, которым обычно щеголял, но почти сразу же понял, что ошибся. Прежде всего он с некоторым удивлением отметил, что разведчики, люди, прошедшие огонь и воду, при новой переводчице не позволяют себе ни легкомысленных разговоров, ни пошлых намеков. Это заставило его насторожиться. Он стал внимательно приглядываться к переводчице. На него произвела большое впечатление ее отвага, независимость и весьма определенное презрение ко всяким заигрываниям. При всем том ее не покидала женственность, действовавшая на Дрозда с удивительной силой. Когда рядом разрывался снаряд или когда приближались вражеские самолеты, она чуть бледнела и жалобно говорила:
– Ох, как страшно!
Но при этом продолжала делать свое дело так же размеренно и точно, как прежде.
У него сердце замирало от восхищения, когда он слышал эти слова: "Ох, как страшно!" Право же, он иногда чуть ли не мечтал о здоровом артналете, с тем только, чтобы еще разок услышать от нее эти слова. Произнося их, она казалась ему слабее, а потому – ближе, доступнее.
Именно в связи со своим чувством к Аничке Дрозд опасался Акимова. Акимов был силен своей прямотой. Он никогда не лицемерил и не притворялся, не приспосабливался к людям. Напротив, люди приспосабливались к нему.
Он был как будто весь на ладони, этот Акимов, и все-таки было в нем много тайного, сложного. Это был не "рубаха-парень", каким он казался спервоначалу, и прямота его была вовсе не признаком элементарности, а свойством характера, который не желает связывать себя двуличием.
Дрозд на первый взгляд был таким же "рубахой-парнем", говорившим в глаза людям то, что думал о них. Но это только казалось, и сам Дрозд знал это лучше всех. На самом же деле он беспрестанно шел на уступки. Прямота его была не совсем естественной, он сам себя понуждал быть прямым, но это было ему трудно. Он, напротив, любил быть приятным людям, нравиться им и вследствие этого часто кривил душой. Поэтому он втайне считал себя человеком заурядным, "дипломатом", и сам мучился этими своими качествами.
Акимов был прирожденным вожаком, руководителем, Дрозд же хотел быть вожаком, мечтал об этом, но был еще для этого слаб, подвержен припадкам лицемерия и припадкам грубости, не имел, одним словом, определенной линии.