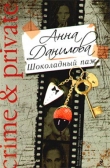Текст книги "Лишняя любовь"
Автор книги: Эмма Герштейн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Утром телефонный звонок. Лева: “Можно сейчас заехать?”
Такие его внезапные появления и исчезновения вызывали в моей памяти роман Горького, где один из братьев, кажется, по имени
Яков, странствовал по России. Иногда он приходил домой, о чем извещал стук в окно. Поужинает, поговорит с родными о чем-нибудь важном, переночует и снова уйдет, неизвестно – надолго ли, навсегда?..
Он стоял в коридоре в невозможном пиджаке и в брюках с огромными заплатами на коленях. Смутился, здороваясь со мной в нашей как-никак приличной квартире. Отрастил усы – татарские, тонкие, спускающиеся по углам рта. В Москве он проездом, на один день: возвращается из экспедиции откуда-то с Дона.
Мы решили поехать в Коломенское. Тогда это был долгий путь – на трамвае, потом на автобусе, а затем еще пешком. На нем был все тот же плащ с короткими, не по росту рукавами и засаленным воротником. Мы долго ждали трамвая. Кругом люди. На нас посматривали.
Пока шли пешком. Лева рассказывал, как ехал в экспедицию. Всем участникам университетская администрация дала деньги на проезд, ему – нет. Он пошел в учебную часть. “Гумилев, ты чего нервничаешь?” “Да вот жить не дают, – он швырнул на пол стопку книг, – в экспедицию не пускают”. В конце концов он поехал на свой счет, а там на месте М. И. Артамонов взял его к себе на раскопки. Очень хорошо рассказывал Лева. У него было так же весомо каждое слово, как у Анны Андреевны. Повествование всегда было эпическим, а в нем заключалась трагедия, но на это не нажималось ни словом, ни интонацией. (Потом он утратил этот стиль.)
Мы осмотрели церковь Вознесения и хоромы, про которые почему-то неверно было сообщено, что это дворец царя Алексея Михайловича.
Какие низкие потолки и двери. “Рассчитаны на человеческий рост, а в XVIII веке стали строить выше”. Лева все осмысливал исторически.
По дороге мы видели, как женщины-рабочие копали землю. “Зачем заставляют женщин делать эту тяжелую работу? Ведь они рожать не смогут”.
Был последний октябрьский солнечный день. Мы сели на скамью под вязами против Казанской церкви. Где-то вдали прошел человек.
“Который час?” – “Пять часов”. Ни слова не говоря, мы дружно вскочили. (Все у нас было ладно, несмотря на то, что мы не виделись несколько месяцев.) Как быстро пролетело время, ведь сегодня же вечером ему ехать в Ленинград, а он хотел еще зайти к
Клычковым.
В автобусе Лева вел себя вызывающе, почти что подставлял подножку рабочим, возвращавшимся домой с какого-то заводика. В своей мятой фуражке он выглядел бывшим офицером. Его ненавидели, но боялись из-за его дерзости. Он вообще любил препираться в трамваях, чтоб последнее слово оставалось за ним.
Дома пообедали. Мрачен он был со своими татарскими усами.
Помолчав, заявил:
– Когда я вернусь в Ленинград, меня арестуют.
– ?
– Уж мы знаем. Летом была допрошена наша приятельница. Ее выпустили, но она все подтвердила.
– Что подтвердила?
– Были у нас дома разговоры при ней.
Я не спросила, какие разговоры – вероятно, “петербургские”,
“дворянские”,*“*ихние”. Я плакала.
К Клычковым он уже не поспел и не звонил, а прямо от меня поехал на вокзал. Опять мы прощались в той же моей комнате, с той же перспективой никогда больше не увидеться. Эта встреча больше походила на благословение, чем на любовное свидание. Прощальным словом Левы было: “Прими православие”.
Что я делала в последующие дни? Не знаю. Вестей из Ленинграда не было.*
Своей тревогой я поделилась с Леной. Она милостиво признала:
“Да, вы связаны”, – но все-таки прибавила: “Не люблю я романы каторжников, не нравятся они мне”. А вот Анне Андреевне они
“нравились”. Нет, ее растрогала не наша с Левой встреча. Она, вероятно, и не знала о ней. Но двадцать лет спустя, когда на наших экранах появились знаменитые итальянские фильмы, она настояла, чтобы я поехала с ней в один из дальних кинотеатров, где повторно показывали “У стен Малапаги”. Анна Андреевна уже видела эту картину, но готова была смотреть ее еще и еще.
Напомню, что на экране героиня и герой встречаются и прощаются перед его арестом. Неминуемое наказание ждет его'не за выдуманное, а за настоящее уголовное преступление, но все равно, говорила Анна Андреевна, это – “наше”, это – про нас.
В середине 30-х годов в нашем кинематографе можно было видеть только фильмы вроде ненавистных мне “Веселых ребят” и “Цирка”.
Именно в эти тревожные, неопределенные дни меня вытащил кто-то на предвечерний сеанс подобного фильма. Я пошла нехотя и с досадой вернулась домой. Вижу – в передней на маленьком угловом диване сидит Анна Андреевна со своим извечным потрепанным чемоданчиком. Вся напряженная, она дожидается меня уже несколько часов. Заходим в мою комнату. “Их арестовали”. – “Кого их?” -
“Николашу и Леву”.
Она переночевала у меня. Спала на моей кровати. Я смотрела на ее тяжелый сон, как будто камнем придавили. У нее запали глаза и возле переносицы появились треугольники. Больше они не проходили. Она изменилась на моих глазах.
Потом я отвезла ее в Нащокинский – она еще сама не знала, к кому она зайдет. Ведь неизвестно, кто как ее примет. Целый день я ждала ее звонка. Она меня вызвала только на следующее утро. В чьей квартире она ночевала, я точно не знаю, кажется, у
Булгаковых. Мы встретились у ворот дома. Она вышла в синем плаще и в своем фетровом колпаке, из-под него выбились и развевались длинные пряди волос. Она ничего не замечала. Она смотрела по сторонам невидящими глазами.
Мы пошли искать такси. Кропоткинская площадь и Волхонка были перерыты и в нескольких местах перегорожены из-за строительства метро “Дворец Советов” на месте взорванного храма Христа
Спасителя. Осенняя грязь. Она боялась перейти улицу. Вдали показалась машина. “Нет, нет, ни за что”. – “Машина еще далеко, идемте”. Она ставила ногу на мостовую и пятилась назад. Я ее тянула. Она металась. Машина приближалась.
Рядом с шофером сидел человек в кожаной куртке. Они заметили нас и, казалось, посмеивались. Приближаясь, человек в кожаной куртке вглядывался в эту странную фигуру, похожую на подстреленную птицу, и… узнавал. Узнавал, жалея, ужасаясь… Вот эта безумная мечущаяся нищая – знаменитая Ахматова? Вся эта физиономическая игра промелькнула перед моими глазами. Вероятно, некогда этот человек был ее поклонником, влюблялся в нее на вечерах поэтов. (А теперь и себя не узнаешь, милый мой, в кожаной куртке, рядом с водителем, в казенной машине.) Они проехали. Кое-как мы перешли улицу и нашли такси.
Шофер двинул машину со стоянки, спросил, куда ехать. Она не слышала. Я не знала, куда мы едем. Он дважды повторил вопрос, она очнулась: “К Сейфуллиной, конечно”. “Где она живет?” Я не знала. Анна Андреевна что-то бормотала. В первый раз в жизни я услышала, как она кричит, почти взвизгнула сердито: “Неужели вы не знаете, где живет Сейфуллина?” Откуда мне знать? Наконец я догадалась: в Доме писателей? Она не отвечала. Кое-как добились: да, в Камергерском переулке. Мы поехали. Всю дорогу она вскрикивала: “Коля… Коля… кровь…” Я решила, что Анна
Андреевна лишилась рассудка. Она была в бреду. Я довела ее до дверей квартиры. Сейфуллина открыла сама. Я уехала.
Через очень много лет, в спокойной обстановке, Ахматова читала мне и Толе Найману довольно длинное стихотворение. Оно показалось мне знакомым. “Мне кажется, что давно вы мне его уже читали”, – сказала я. “А я его сочиняла, когда мы с вами ехали к
Сейфуллиной”, – ответила Анна Андреевна. Я предполагаю, что из этого стихотворения напечатано одно четверостишие, измененное самой Ахматовой для цензуры:
…За ландышевый май
В моей Москве к р о в а в о й Отдам я звездных стай Сияние и славу…
(Напечатано “с т о г л а в о й”, но в автографе для эпитета оставлено пустое место.)
Но вернемся к 30-м годам, к тем напряженным дням.
Я не заметила, сколько времени прошло – два дня? четыре? Наконец телефон и снова одна только фраза: “Эмма, он дома!” Я с ужасом:
“Кто он?” “Николаша, конечно”. Я робко: “А Лева?” “Лева тоже”.
Она звонила из квартиры Пильняка. Я поехала туда, на улицу
“Правды”. Там ликованье. Мы с ней сидели в спальне. Из соседней комнаты доносится музыка. Приехали гости. Какой-то важный обкомовец и еще кто-то. “С тремя ромбами”, – шепчет мне Анна
Андреевна. Все они хотят видеть Ахматову – поздравлять… с
“царской милостью”? Но Анна Андреевна должна мне многое рассказать. Пильняк заходит, нетерпеливо зовет ее. Она говорит:
“Борис Андреевич, это Эмма!” Но ему ни до чего, ему нужно торжество с гостями в столовой. Он неохотно нас оставляет.
Что же мне рассказала Анна Андреевна?
Все было сделано очень быстро. Л. Н. Сейфуллина, очевидно, была связана как-то с ЦК партии. Анна Андреевна написала письмо
Сталину, очень короткое. Она ручалась, что ее муж и сын не заговорщики и не государственные преступники. Письмо заканчивалось фразой: “Помогите, Иосиф Виссарионович!”
В свою очередь Сталину написал Пастернак. Он писал, что знает
Ахматову давно и наблюдает ее жизнь, полную достоинства. Она живет скромно, никогда не жалуется, ничего никогда для себя не просит. “Ее состояние ужасно”, – заканчивалось это письмо.
Пильняк повез Анну Андреевну на своей машине к комендатуре
Кремля, там уже было договорено, кем письмо будет принято и передано в руки Сталину.
Для себя я отметила разницу в отношении писателей к Мандельштаму и Ахматовой. Там чувство долга по отношению к замечательному поэту, здесь тот же долг, но согретый непосредственным чувством любви.
Рассказ Анны Андреевны был прерван Пильняком. Он торопит. Она вышла в соседнюю комнату показаться. Зазвучал туш – это Пильняк завел новую пластинку, торжественно провозглашая: “Анна Ахматова!”
Тем временем, дожидаясь в спальной Анну Андреевну, я написала короткую записку Леве.
Анна Андреевна вернулась на минуту из столовой, чтобы проститься со мной. Я прошу ее взять моё письмо. “Что вы, что вы! Какие там письма! Не возьму ничего”. Она всего боялась: писем, обыска в поезде… И правильно сделала. Мало ли как я могла написать в этой записке про Сталина. “Ну, – говорю я, – тогда скажите на словах: Лева должен воспользоваться чрезвычайными обстоятельствами и просить разрешения сдавать курс экстерном. Он не вынесет обстановки. К нему будут приставать студенты. Он как-нибудь не так скажет: меня, мол, Сталин выпустил. Это опасно, его обвинят в хвастовстве и в упоминании имени
“божества” всуе”.
Я уходила домой. Она пошла за мной в переднюю. Я открыла входную дверь. Неожиданно она нагнулась, высокая, гибкая, и быстро нежно поцеловала меня.
Через некоторое время приехала из Воронежа Надя. Я, конечно, пришла в Нащокинский. Застала у нее ленинградского брата Осипа
Эмильевича, Евгения, и Николая Ивановича Харджиева. Они продолжали начатую без меня беседу. Евгений Эмильевич досказывал о своих встречах с Анной Андреевной. Видимо, они были посвящены совместным хлопотам об Осипе Эмильевиче. Затем он стал говорить о трудной жизни Ахматовой, и под конец в его рассказе промелькнула, фраза: “…и с сыном эта история…” “Ничего не вышло?” – озабоченно спрашивает Николай Иванович. Я встрепенулась: “Что случилось?” “Так его же исключили. Какая-то глупая университетская история”. Я вскочила с места и в волнении стала ходить по комнате. Как в воду глядела! Надя подошла ко мне и тихо спросила, удивленная: “Вы его любите?”
Вскоре Осмеркин поехал в Ленинград (он руководил там мастерской в Академии художеств, а в Москве в Институте имени Сурикова). Я передала через него записку Леве. Вернувшись недели через две,
Александр Александрович привез мне ответ. Это было историческое письмо. Лева подробно описал всю картину преследований его в университете. К сожалению, через два года Анна Андреевна своими руками бросила это письмо в печь в моей же комнате. Сделано это было при чрезвычайных обстоятельствах – при аресте Левы в 1938 году.
В сообщениях Левы мне запомнились только два эпизода, из них один лишь в самых общих чертах. Он касался Петра Великого, которого Лева характеризовал не так, как это внушалось студентам на лекциях. Студенты жаловались, что он считает их дураками.
Другой эпизод по своей глупости и подлости резко запечатлелся в моей памяти. “У меня нет чувства ритма”, – писал Лева и продолжал: на военных занятиях он сбивался с шага. Преподаватель заявил, что он саботирует, умышленно дискредитируя Красную
Армию. Заканчивал Лева письмо фразой: “Единственный выход – переехать в Москву. Только при Вашей поддержке я смогу жить и хоть немножко работать”.
В самом конце января 1936-го в Москву приехала Анна Андреевна – хлопотать, конечно, о Леве, может быть, и о Мандельштаме. Она готовилась к поездке к Осипу Эмильевичу в Воронеж. Я уже писала, что провожали ее на вокзале Евгений Яковлевич и я. Перед ее отъездом я показывала ей Левино письмо. Дочитав до конца, она произнесла железным голосом: “Лева может жить только при мне”,
С тех пор Анна Андреевна не пускала его в Москву. Я не знала, как он провел зиму. Впрочем, мне смутно припоминается еще один эпизод.
Дело, вероятно, шло уже к весне. Я получила от него письмо с просьбой. Оказывается, для того чтобы поехать в археологическую экспедицию, ему, как исключенному из университета, нужно было окончить хотя бы какие-то краткосрочные агрономические курсы.
Его и туда не приняли. Не помню, то ли он просил меня обратиться к покровительству Пастернака, то ли я сама додумалась до этого.
Во всяком случае, я надела вязаную кофточку моей двоюродной сестры и пошла к Борису Леонидовичу домой, он жил тогда на
Волхонке. Мне понравилась комната – прохладная и пустоватая. Он отнесся к моей просьбе благожелательно и сочувственно, но никаких последствий это не имело. Почему? – не помню.
Летом Анна Андреевна опять приехала в Москву. Я рассказала ей о моем обращении к Пастернаку. Она мягко заметила: “Это не самое умное из того, что вы сделали в своей жизни”.
После этого она уехала гостить в Старки, то есть в имение
Василия Дмитриевича Шервинского под Коломной. Советская власть оставила ему эту собственность во внимание к его выдающимся заслугам в медицине. Знаменитый терапевт с мировым именем в наших кругах славился тем, что лечил еще И. С. Тургенева. Анна
Андреевна дружила с сыном Шервинского, Сергеем Васильевичем.
Что касается меня, то впервые за много лет я поехала в этом,
1936 году вместе с нашей семьей на дачу под Москвой, в деревню
Черепково по Рублевскому шоссе. Ко мне приезжал туда часто
Евгений Яковлевич.
В июле Анна Андреевна вернулась из Старков и встретила меня по-женски, как победившая соперница. “Лева так хотел меня видеть, что по дороге в экспедицию приехал из Москвы ко мне в
Старки”, – объявила она. А я и не знала, что Лева был в Москве и что он все-таки попал в экспедицию. Меня это озадачило и больно задело. Но ведь я не оставляла ему своего дачного адреса. Эта простая мысль как-то не приходила мне в голову. Впрочем, осенью, вернувшись из экспедиции, он пришел ко мне и говорил о своем крайне подавленном состоянии в ту пору.
Между тем в моем образе жизни и направлении интересов за протекшее время многое изменилось.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Разные эпизоды тех лет сливаются в моей памяти в один период времени – середина 30-х годов. Но некоторые даты в силу внешних обстоятельств устанавливаются с точностью до одного дня. Вот я не помнила, когда именно происходили описанные выше события – поездка с Левой в Коломенское, долгое ожидание Анны Андреевны в нашей прихожей, поездка с ней до дома Сейфуллиной, торжество у
Пильняка… Теперь, через полвека, появились документальные свидетельства, касающиеся этих событий. Из записи в дневнике Е.
С. Булгаковой мы узнаем, что Анна Андреевна пришла к ней 30 октября 1935 года и вместе с Михаилом Афанасьевичем обдумывала редакцию своего письма к Сталину. Из других публикаций мы знаем дату освобождения Левы и Пунина – 3 ноября того же 1935 года. По письмам С. Б. Рудакова устанавливается время пребывания Анны
Андреевны у Мандельштамов в Воронеже – с 5 по 11 февраля 1936 года. Значит, мы с Евгением Яковлевичем провожали ее на московском вокзале 4, а может быть, 3 февраля. Все эти дни я была взволнована и подавлена семейным несчастьем, вернее, тяжким горем, обрушившимся на моего отца.
8 февраля 1936 года скончалась Александра Юльяновна Канель – друг и спутница жизни моего отца с самых первых лет революции.
Она умерла при странных обстоятельствах, почти скоропостижно. В том году на дворе стояла вьюжная, морозная погода – типичный московский февраль. Александра Юльяновна простудилась, но у нее был обыкновенный насморк. Неожиданно он перешел в острый менингит, и в течение двух-трех дней она сгорела.
Мой отец потерял друга – опору в жизни, и любимую женщину, излучавшую для него свет. Еще недавно, когда он был тяжело болен и я навещала его в Кремлевской больнице, к нему в палату вошла
Александра Юльяновна. Какими преданными, полными любви и надежды глазами смотрел на нее отец! А на гражданской панихиде, указывая мне на открытый гроб, он произнес с невыразимой нежностью:
“Посмотри, какая она красивая!..”
Я была поглощена чувством тревоги за него и состраданием к его горю. Но на происходящее вокруг смотрела спокойными глазами.
Конечно, я жалела Дину и Лялю, которых знала с детства, знала, как горячо они любили свою мать, но все взрослые годы мы были так далеки друг от друга, что они стали мне совсем чужими. Я холодно отмечала для себя, что доктор Лев Григорьевич Левин процитировал Надсона в своем надгробном слове и что среди множества венков выделялся один, присланный лично от Молотова.
Тогда еще нельзя было предвидеть, какой бедой обернутся через три года для дочерей Канель ее дружеские связи с семьями
Молотова, Каменева, Калинина… Она ведь была их домашним врачом и, конечно, знала много тайн кремлевского двора. А наша семья была так далека от этой стороны папиной жизни, что, сочувствуя его горю, мы не задумывались о загадочном течении болезни
Александры Юльяновны, не помышляли о событиях и фактах, которые сжигали тревогой душу моего отца. Постепенно эти события становятся все более известными.
Вот в какой связи упомянул о смерти А. Ю. Канель профессор Я. Л.
Рапопорт в своих “Воспоминаниях о деле врачей” (см. “Дружба народов”, 1988, № 4, стр. 227): “Возьму на себя смелость предположить, что подлинной причиной осуждения Д. Д. Плетнева и
Л. Г. Левина было не мнимое их участие в “умерщвлении” А. М.
Горького, а совершенно реальное событие 1932 года – самоубийство жены Сталина Н. С. Аллилуевой, покончившей с собой выстрелом из револьвера в висок. Истинную причину смерти знали: А. Ю. Канель, главный врач Кремлевской больницы, ее заместитель Л. Г. Левин и профессор Д. Д. Плетнев… Всем троим было предложено подписать медицинский бюллетень о смерти, последовавшей от аппендицита, и все трое отказались это сделать. Бюллетень был подписан другими врачами, судьба же строптивых медиков сложилась трагически (А.
Ю. Канель, правда, “успела” умереть в 1936 году)”.
Еще определеннее высказалась старшая дочь Александры Юльяновны
Дина (Надежда Вениаминовна). Но она рассказывала и о своей трагедии – о своем аресте в 1939 году, о своем “деле”, которое вел Берия, об издевательствах и побоях на допросе и дальнейшей своей судьбе. Она была окончательно реабилитирована лишь после смерти Сталина. Еще страшнее оказалась судьба младшей сестры -
Ляли (Юлии Вениаминовны). Она уже не вышла на волю и, очевидно, была расстреляна в 1940 году. Лаконичный рассказ Дины напечатан в сборнике “Доднесь тяготеет” (Вып. 1. М. “Советский писатель”.
1989, стр. 496):
“Думаю, это было предопределено еще в 1932 году, когда моя мать
– главный врач Кремлевской больницы, а вместе с нею доктор Левин и профессор Плетнев отказались подписать фальсифицированное медицинское заключение о смерти Н. С. Аллилуевой, последовавшей якобы от острого приступа аппендицита. Сталин не простил этого ни одному из троих: судьба Левина и Плетнева, обвиненных в преднамеренном убийстве Горького, известна; моя мать в 1935 году была отстранена от должности главврача Кремлевки. Она скончалась в 1936 году”.
Очерк Надежды Канель озаглавлен “Встреча на Лубянке”. В нем рассказывается о встрече в тюрьме с Ариадной Сергеевной Эфрон.
Вот почему более подробный рассказ дочери Александры Юльяновны передан в книге Марии Белкиной “Скрещение судеб”, посвященной судьбам Марины Ивановны Цветаевой и ее детей Ариадны и Георгия
Эфрон (М. “Книга”. 1988, стр. 351 – 352). Тут болезнь и смерть
А. Ю. Канель изложены со слов Дины гораздо подробнее. Эти подробности, конечно, остро волновали и угнетали моего отца, но я в ту пору понятия о них не имела.
Когда Александра Юльяновна была больна легким гриппом, сообщала
Дина М. И. Белкиной, неожиданно пришел Юра Каменев, которому было тогда лет двенадцать. Его прислала мать, Ольга Давыдовна
Каменева, из Горького, куда она была выслана после первого ареста. Ее муж, Лев Борисович Каменев, уже сидел. Процессы уже начались. “Юра пробыл недолго в комнате у Александры Юльяновны,
– продолжает М. Белкина, – он торопился на обратный поезд.
Александра Юльяновна вышла к ужину взволнованная, с красными пятнами на лице, она была рассеянна, нервна и, посидев немного, удалилась, сославшись на плохое самочувствие. Дина допытывалась, что произошло, что сказал ей Юра? Но Александра Юльяновна уверяла, что он зашел только передать привет от Ольги
Давыдовны”. Именно после этого визита подростка насморк больной перешел в менингит, и через четыре дня после этой встречи она скончалась.
Только в 1941 году в орловской тюрьме Дина узнала, почему приход
Юры сыграл роковую роль в жизни Александры Юльяновны. В этой тюрьме она оказалась в одной камере с Ольгой Давыдовной. Здесь не место рассказывать, в каком трагическом положении она ее застала. Лев Борисович и их старший сын, летчик Александр
Львович (Лютик), были расстреляны. А после долгих запросов о судьбе Юры она получила извещение о смерти юноши, как было сказано, от тифа. В это время немцы подходили уже к Орлу, и
Ольга Давыдовна в числе других политических заключенных была расстреляна. Ее увели на расстрел при Дине. Но незадолго до казни она успела ответить на Динин вопрос, что же именно сказал
Юра Александре Юльяновне.
По поручению Ольги Давыдовны Юра предупредил Александру
Юльяновну, что о ней много расспрашивали. Особенно интересовались, кто сообщил Каменевой о самоубийстве Аллилуевой.
(Невестка О. Д, Каменевой, то есть жена Лютика, указала, что это была А. Ю. Канель, приехавшая к ним домой в день смерти
Аллилуевой. Александра Юльяновна уже знала об этом от
Жемчужиной, которая вовсе не думала, что это станет государственной тайной.)
Страх и волнение Александры Юльяновны, получившей такие известия, вполне понятны. Впоследствии Дина только благодарила судьбу, что мать умерла дома, в своей постели, не пережив кромешного ужаса последующих репрессий. Когда Дину и Лялю арестовали в 1939 году, от них добивались признания, что мать была шпионкой трех государств, ведь она, как врач Кремлевской больницы, сопровождала ездивших за границу для лечения О. Д.
Каменеву в Берлин, Ек. Ив. Калинину в Париж, а П. О. Жемчужину – на разные курорты.
Мы с сестрой старались облегчить горе отца, не догадываясь о всей остроте его переживаний. Между тем в той среде, к которой мы не имели отношения, многие искренне сострадали моему отцу, казавшемуся постаревшим на десять лет. Среди сочувствующих был
Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. Желая выказать внимание моему отцу, он принял меня на работу в недавно организованный им
Литературный музей. До этих пор мне было это недоступно: как уже не раз говорилось на страницах этой книги, я не попала в надлежащую колею после окончания университета, а теперь, через десять лет, дело казалось уже безнадежным. Но вот большое потрясение нарушило стереотипный порядок. На волне несчастья моего отца я получила работу, значительно изменившую мою жизнь.