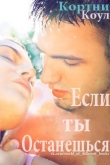Текст книги "Собрание сочинений. Т. 15. Разгром"
Автор книги: Эмиль Золя
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 34 страниц)
Жан, рыдая, повторил:
– Прощайте!
Генриетта не подняла головы, закрыв лицо руками.
– Прощайте!
Опустошенное поле осталось невозделанным; сожженный дом лежал в развалинах, и Жан, самый смиренный и скорбный из людей, пошел навстречу будущему, готовый приняться за великое, трудное дело – заново построить всю Францию.
1892
КОММЕНТАРИИ
Создание «романа из военной жизни», как «совершенно необходимой части „Ругон-Маккаров“, предусматривалось Эмилем Золя уже в первоначальном плане серии, переданном издателю А. Лакруа в 1869 году. Излагая основную идею и тему произведения в пояснительной записке к плану, писатель отметил, что он покажет в нем „военный мир… эпизод из итальянской войны. Война – как она есть. Связь Империи с армией. Моя главная цель – нарисовать подлинные поля битвы, без шовинизма, отобразить подлинные страдания солдат“. Размышляя в то время о „романе из военной жизни“, Золя имел в виду кампанию 1859 года, которую Франция затеяла, притязая на Савойю и Ниццу.
В следующем, значительно расширенном варианте плана „Ругон-Маккаров“, который был определен Эмилем Золя после франко-прусской войны, видимо в 1871–1872 годах, и состоявшем теперь из восемнадцати томов, кроме „романа об итальянской войне“, героем которого писатель избирает Жана Маккара, он включает еще два произведения с военной тематикой: „роман о разгроме (обзор газет конца Второй империи)“ и „роман о войне, осаде и Коммуне“.
В 1877 году Эмиль Золя создает новеллу „Осада мельницы“ на сюжет из минувшей войны. Сначала ее опубликовал русский журнал „Вестник Европы“, в котором тогда сотрудничал писатель. Во Франции „Осада мельницы“ была напечатана в 1880 году в сборнике „Меданские вечера“. В письме к своему голландскому почитателю и переводчику Ван Сантен Кольфу от 26 января 1892 года Эмиль Золя признается, что среда, место, действие, персонажи „Осады мельницы“ являются вымышленными. Они не имеют отношения к роману, посвященному франко-прусской войне 1870 года. „Мне нужен был сюжет для новеллы, а так как события минувшей войны были свежи в памяти читателей и тема привлекала их внимание, я и придумал эпизод осады мельницы“.
В преддверии непосредственной работы над „Разгромом“ Эмиль Золя сообщает Эдмону Гонкуру в марте 1890 года, что после „Денег“ он намерен написать книгу „Война“. „Но это будет не роман, это будет прогулка одного господина сквозь Осаду и Коммуну“ [4]4
Э. и Ж. Гонкур, Дневники, запись от 12 марта 1890 г.
[Закрыть].
Овладев во всей полноте материалом, Золя изменил свои планы и вместо нескольких произведений с военной тематикой решил написать один роман о франко-прусской войне 1870 года. „Название книги – „Разгром“, – указывает Золя, – я выбрал довольно давно. Оно особенно верно и емко выражает смысл моего произведения. Это не только картина войны, это падение династии, это исчезновение определенной исторической эпохи“ [5]5
Письмо Э. Золя Ван Сантен Кольфу от 26 января 1892 г.
[Закрыть].
Эмиль Золя не случайно обратился к минувшей войне, для этого было много причин. Уже в предисловии к первому тому серии, к роману „Карьера Ругонов“ (1871) писатель говорит, что „…падение Бонапарта, которое нужно было мне, как художнику, и которое неизбежно должно было, по моему замыслу, завершить драму… дало мне чудовищную и необходимую развязку“. Франко-прусская война, таким образом, стала исторической границей серии; устранив режим Второй империи, она явилась логической концовкой „Ругон-Маккаров“. С другой стороны, эта тема открывала для Эмиля Золя возможность высказать свое отношение к политическим событиям, которые в конце 80-х годов происходили в стране.
Обострение международной обстановки в Европе было использовано националистическими силами во Франции для разжигания реваншистских страстей, преследовавших далеко идущие цели – развязать новую войну с Германией за возвращение утраченных Эльзаса и Лотарингии. Одним из главных вдохновителей реванша стал генерал Буланже. Этот политический авантюрист и демагог, опираясь на влиятельную партию радикалов и тайно поддерживаемый монархистами, сумел привлечь на свою сторону значительную часть представителей мелкой и средней буржуазии. Над страной нависла угроза нового государственного переворота, который неизбежно привел бы к ликвидации республиканских свобод и установлению военной диктатуры.
В этих условиях книга Золя о франко-прусской войне приобретала большую актуальность. Подводя итоги „нелепого царства безумия и позора“ эпохи Второй империи, она в то же время напоминала французам о жестоком историческом уроке и предостерегала страну от повторения ошибок прошлых лет.
„До начала работы над книгой, – говорит в своем очерке об авторе „Ругон-Маккаров“ Генрих Манн, – Золя менее всего представлял себе „Разгром“ как роман; слишком мучительно было желание все сказать, все охватить, он хотел дать только „обзор“ – какой обзор! – войны и гражданской войны. Однако навыки мастерства победили… Битвы жизни, иного он никогда и не изображал; но это борьба за существование, борьба с сорванной маской и, более того, с содранной кожей, нужно сильное и суровое сердце, чтобы за нее взяться. Он взялся, взялся пережить ее глубже и сознательнее, чем люди, на долю которых она выпала двадцать лет назад“.
Работа над этим исключительно сложным и острым произведением отняла у Эмиля Золя в общей сложности около пятнадцати месяцев: с февраля 1891 по май 1892 года. Он освоил и творчески переплавил огромный документальный материал, связанный с событиями двадцатилетней давности. Помимо всевозможных приказов, распоряжений, сводок, донесений, записных книжек и дневников участников войны, из которых он черпал многочисленные детали, писатель собрал целую библиотеку книг, альбомов, карт, инструкций и наставлений по военной технике, справочников с описанием формы и знаков отличия французских и прусских генералов и офицеров всех родов оружия и другие документы. Все это он разместил на подвижной этажерке, находившейся возле его письменного стола. Среди научных работ, которыми пользовался Эмиль Золя, необходимо назвать исследование по истории Франции 1870–1873 годов Теодора Дюре, двадцатитомную военную историю Альфреда Дюке, в которой рассматривались события франко-прусской войны. Через руки писателя прошло большое количество книг, посвященных минувшей войне, изданных во Франции и в других странах. Известно, что после войны, говорит Эмиль Золя в статье „Седан“ (1891), было опубликовано немало книг, написанных бывшими участниками кампании 1870 года, в которых они стремились оправдать себя перед историей. Появились воспоминания генерала Дюкро, Вимпфена, Лебрена, книга принца Бибеско, адъютанта генерала Дуэ, о марше седьмого корпуса от Реймса до Седана с 23 по 30 августа. Бибеско посетил Золя и передал ему некоторые принадлежавшие лично ему документы, из которых, по словам писателя, он почерпнул много интересного материала.
Особенно ценными, как признается Золя, оказались записные книжки и дневники участников войны. Их впечатления, мысли, переживания, зафиксированные по горячим следам событий, содержали живые и яркие наблюдения, чисто бытовые детали из солдатских будней. Эти документы, как отмечает Золя в письме Ван Сантен Кольфу от 4 сентября 1891 года, дали ему в руки много чрезвычайно важного жизненного материала, который почти целиком был использован при создании „Разгрома“.
В апреле 1891 года писатель вместе со своей женой предпринял многодневную поездку по пути марша армии Мак-Магона от Реймса до Седана. Везде, где проезжал и останавливался Эмиль Золя, он беседовал с местными жителями, которые помнили войну. В Седан писатель приехал в воскресенье 19 апреля 1891 года и пробыл там неделю. Все эти дни он был занят детальным ознакомлением с городом и его окрестностями, где происходили бои. Он намеревался побывать в Эльзасе и Лотарингии, предполагая посетить Мюлуз и возвратиться через Бельфор, чтобы проследовать по пути отступления седьмого корпуса французской армии, с описания которого и начинается роман. „Но я, – признается Золя в письме к Ван Сантен Кольфу от 26 января 1892 года, – не рискнул затеять всю эту канитель с выправлением паспорта и не стал тратить на это время, а кроме того, не хотел вызывать того назойливого любопытства, которое неизбежно бы сопутствовало моей поездке“. Писатель счел возможным в данном случае ограничиться теми сведениями, которые он получил от „одного из своих друзей“. 26 апреля Эмиль Золя вместе со своей женой возвратился в Париж.
Подготовительные материалы к роману „Разгром“ составляют два объемистых тома, в которых содержится в общей сложности около тысячи трехсот страниц. В томе первом хранится: Набросок, Характеристики основных персонажей, Общий план трех частей, Детальные планы отдельных глав. В томе втором: Записки Эмиля Золя о его поездке в Седан, Заметки о походе Шалонской армии, Описание боев у Бомона, План Седанского сражения, Сведения и документы об организации всей армии и отдельных родов войск – пехоты, кавалерии, артиллерии, санитарной службы, службы снабжения. Кроме того, в томе втором собраны и обработаны записи бесед Золя с непосредственными участниками войны, вырезки из различных газет, касающиеся войны, осады и Парижской коммуны, выдержки из материалов принца Бибеско и другие.
Все эти систематизированные материалы и документы свидетельствуют об исключительно глубоком и разностороннем изучении темы, они дают возможность детально проанализировать работу Эмиля Золя над созданием книги, проникнуть в его замыслы.
В „Разгроме“, который является логическим завершением „Ругон-Маккаров“, хотя формально серия заканчивается романом „Доктор Паскаль“, писатель стремится, как он указывает в подготовительных материалах, поведать „правду о страшной катастрофе, от которой Франция могла погибнуть“. Золя отмечает, что капитуляция и пленение восьмидесятитысячной армии Второй империи – это такое ошеломляющее поражение, равного которому страна не знала. Франция в силу целого ряда глубоких социальных и политических причин должна была неминуемо пережить этот позор. „Я хочу, – говорит Золя, – вскрыть причины разгрома и показать, почему нация с таким героическим прошлым неудержимо катилась к Седану“.
Излагая в Наброске содержание и план романа, писатель отмечает, что первая часть книги вводит главных героев, наиболее характерных и важных для повествования действующих лиц, всех тех, кто будет активно влиять на ход событий, развитие сюжета, основной идеи. „В этой первой части „Разгрома“ должны быть обстоятельно изучены причины поражения… затем последует описание великого сражения, потом необходимо подвести итог, сделать вывод – крушение целой системы, а над всем доминирует озаренный пламенем пожара Париж“.
За несколько месяцев до завершения романа, 1 сентября 1891 года, в связи с двадцатилетием седанской катастрофы Эмиль Золя опубликовал в газете „Фигаро“ статью, которую он посвятил этому печальному для Франции событию. Она, как отмечает комментатор произведений Золя Эжен Фаскель, могла бы служить великолепным предисловием к „Разгрому“. В этой статье писатель говорит, что поражение, которое Франция потерпела во время минувшей войны с Пруссией, чрезвычайно велико, но вместе с тем и весьма поучительно. Разгром под Седаном – это крах Империи, обанкротившегося режима, политических спекулянтов и авантюристов, но не французского народа. Хотя с тех пор прошло два десятка лет, однако „до сих пор воспоминания об этом несчастье заставляют сжиматься сердца всех честных французов от позора и гнева“. Эти чувства истинных патриотов Золя и стремился выразить в своем романе.
Генрих Манн в упомянутой уже работе о Золя говорит, что в завершающем серию романе „Разгром“ из всех уголков появляются люди знакомые, словно благодаря какому-то семейному сходству, крестьяне из „Земли“, крупные буржуа из романа „Деньги“, женщины из „Добычи“… Еще раз оживают все те, чья сущность и взаимодействие были Империей, они сопровождают ее заключительный танец последними телодвижениями, различимыми сквозь пороховой дым и кровавые испарения». Невольным участником расплаты за преступления Империи оказался и крестьянин Жан. Это представитель третьего поколения семьи Ругон-Маккаров, он сын Антуана Маккара, брат героини «Западни» прачки Жервезы и торговки Лизы Кеню из «Чрева Парижа». Читатели помнят его по роману «Земля», последние страницы которого заканчиваются уходом Жана из деревни Ронь в армию.
Родился Жан, как сообщает писатель в «Родословном древе», в 1831 году, в возрасте тридцати шести лет женился, по через три года овдовел. В первые же дни войны он попадает на фронт. Этот малограмотный крестьянин, умеющий лишь читать и писать, был вовлечен не по своей воле в безумную авантюру, которую затеяла Империя.
Эмиль Золя избирает крестьянина Жана героем своей книги, в нем, по замыслу писателя, воплощается «нравственная глубина нации», он – «душа Франции», ему предстоит в будущем перестроить мир. Подхваченный ураганом войны, Жан и в этих жестоких условиях «сохранил какой-то запас сил, способность самой земли к возрождению».
На полях сражений судьба свела Жана Маккара с Морисом Левассером – таким же простым солдатом, как он сам. Восторженный и увлекающийся, сын скромного сборщика податей и крестьянки, Морис «пошел на войну добровольцем, совершив крупные ошибки по легкомыслию, слабохарактерности и возбудимости, промотав деньги на игру, на женщин, на забавы во все пожирающем Париже». Он видит в войне «неизбежную необходимость для самого существования народов». Подтверждение этим своим мыслям он находит в ложно понятой и истолкованной им эволюционной теории Дарвина. Он полагал, что закон о естественном отборе, происходящем в природе, приложим и к отношениям между людьми, к человеческому обществу. «Разве сама жизнь не является беспрерывной борьбой? – размышляет Морис. – Разве сама сущность природы не есть постоянная борьба, победа достойнейшего, сила, поддерживаемая и обновляемая действием, жизнь, которая возрождается вечно юной после смерти».
Морис не сомневался в победе Франции: враг будет застигнут врасплох, его окружат со всех сторон и уничтожат в течение нескольких недель, «простая военная прогулка от Страсбурга до Берлина». Впрочем, так думал не только Морис, так думали многие французы, которые были ослеплены минувшей славой «непобедимых наполеоновских орлов» и внешним блеском Империи. Но их ожидало жестокое разочарование.
Франко-прусская война началась 19 июля 1870 года. Поводом к ней явились противоречия, возникшие из-за претендента на испанский престол. Вторая империя бросилась в эту кровавую авантюру закрыв глаза. Франция совершенно не была подготовлена к сражению с такой армией, какой была армия Вильгельма. Всеобщая воинская повинность дала немцам возможность отмобилизовать многочисленное войско, хорошо обученное, дисциплинированное, оснащенное современным оружием, прошедшее испытание в войне с Австрией. «Эта армия, – говорил Вейс, – знает, что она хочет, ею командуют молодые полководцы». Франция же, разъедаемая внутренними противоречиями, оказалась беспомощной выдержать удары исключительно сильной военной машины пруссаков. Тяжесть положения усугублялась еще и тем, что армия ее, все еще упоенная давно померкнувшей славой, погрязла в рутине. Ее генералы и старшие офицеры, среди которых было немало людей посредственных и бездарных, заботились больше о собственной карьере, чем о судьбе нации.
В первые же дни войска Вильгельма развернули широкое и стремительное наступление. 4 августа они нанесли французам серьезное поражение под Вайсенбургом, изрядно потрепав пехотную дивизию генерала Дуэ. 6 августа немцы смяли полки Второй империи под Вёртом и Шпихерном. Началось беспорядочное отступление французской армии. Она была деморализована. Она утратила веру в победу. И хотя ее солдаты даже в условиях полнейшей бездеятельности и растерянности высшего командования проявляли чудеса героизма и отваги, защищая родину, страна неумолимо шла к Седану.
В эти дни невообразимых лишений и моральных испытаний, когда во всей полноте раскрываются характеры людей, зародилась и окрепла великая дружба героев романа – крестьянина Жана и утонченного интеллигента Мориса. Прежде ненавидевшие друг друга, теперь «они кажутся, – говорит Генрих Манн, – единым существом, исполненным страданий и мук». Перед их глазами проносится вихрь событий, они сами являются их свидетелями и участниками.
Тридцать первого августа стотысячную армию Наполеона III полностью окружили прусские войска под Седаном. Сотни немецких пушек безжалостно истребляли пленных. Многим очевидцам этого побоища казалось, что нация погибла, что она не встанет на ноги после понесенных жертв и потерь, после такого позора. И лишь распахивавший землю крестьянин, «неторопливо шагая за плугом, в который была впряжена крупная белая лошадь», напоминал о том, что жизнь продолжается.
Четвертого сентября в Париже вспыхнула революция. Была провозглашена Третья республика. Семнадцатого сентября прусские армии подошли к Парижу и осадили его. В октябре маршал Базен сдал немцам сильно укрепленный Мец вместе со ста семьюдесятью тысячами солдат и офицеров. В столице узнали об этом только через три дня. 28 января 1871 года между Францией и Германией было подписано предварительное мирное соглашение (унизительный Франкфуртский договор, по которому немцы получили Эльзас, часть Лотарингии и пять миллиардов контрибуции, был подписан 10 мая).
Восемнадцатого марта народ Парижа провозгласил Коммуну. Этому великому историческому событию Золя посвятил последние две главы романа. Правительство Тьера вместе со своими приверженцами бежало в Версаль. В это время немцы возвратили сто тысяч пленных, тем самым значительно укрепив силы контрреволюции. 21 мая версальцы вошли в Париж. Они расстреляли двадцать тысяч повстанцев без следствия, около четырнадцати тысяч предали суду. Хотя Золя в течение нескольких дней находился в Париже и, следовательно, был очевидцем Парижской коммуны, он не понял ее исторического смысла и значения. Жестокая революционная борьба сил будущего с реакцией перепугала его, произвела на него впечатление кровавого беспорядка. В этой оценке Золя во всей полноте обнаружилась мелкобуржуазная ограниченность его воззрений. Но вместе с тем в душе честного писателя зверства версальских палачей, их глумление над коммунарами вызвали страстный протест и негодование. Он с большим сочувствием говорит о восставших и их судьбе, осуждает террор, учиненный над ними буржуазией.
Двадцать четвертого июня 1892 года объединенное издательство Жоржа Шарпантье и Эжена Фаскеля выпустило в свет предпоследний, девятнадцатый, том «Ругон-Маккаров» – роман «Разгром». В тот же день его переводы появились в продаже в книжных лавках Англии, России, Германии, Италии, Америки, Дании, Испании, Португалии, Норвегии, Швеции и Голландии. Печать многих стран Европы откликнулась на публикацию этого крупного произведения. Успех романа во Франции был огромен. С 1892 по 1902 год тираж его превысил необычную для того времени цифру – двести тысяч экземпляров. В 1893 году фирма Фламариона напечатала первое французское иллюстрированное издание. Оно вышло с рисунками художника Жаньо.
«Разгром» завоевал Эмилю Золя такую славу и такое влияние на общественное мнение, какими не пользовался ни один из французских писателей, его современников. Сразу же после выхода в свет «Разгром» привлек внимание французской критики. В газетах и журналах появился целый ряд статей и комментариев, посвященных роману. В письме к Альфреду Брюно от 8 июля 1892 года Эмиль Золя говорит, что «успех, который пользуется книга, превзошел все мои ожидания и я бесконечно счастлив этому».
Большинство критиков были единодушны в оценке выдающихся литературных и художественных достоинств романа, отмечали богатство и достоверность фактического и документального материала, убедительность доказательств конечных выводов. «Разгром» Эмиля Золя, – писал Эмиль Фаге 25 июня 1892 года в «Ревю политик и литерер» («Revue Politique et Littéraire»), – великое произведение, быть может наиболее значительное из всей библиотеки созданных им книг… Он произвел на меня самое сильное, самое неизгладимое, самое трагическое и вместе с тем самое совершенное и самое светлое впечатление, подобного которому не оставляло ни одно произведение создателя «Ругон-Маккаров». Крайне правый Морис Баррес, которого трудно подозревать в излишней доброжелательности к Золя, заявил: «Мы должны благодарить автора „Разгрома“ за то, что он завоевал Франции уважение».
Читателей покоряла смелость и объективность писателя в подходе и разработке исключительно сложной и острой темы. «В сюжете, достойном его могучего таланта, – говорит Жорж Пелисье и „Ла ревю энсиклопедик“ („La Revue Encyclopédique“), – Золя продемонстрировал удивительный дар воспоминания, силу мастерства, умение оживить и привести в движение обширные массы, которые никогда не случалось наблюдать в такой степени даже в „Жерминале“».
Высоко оценивали критики и мастерство писателя в воссоздании батальных сцен. «Здесь Эмиль Золя достиг совершенства. Он схватил и воспроизвел с удивительной мощью все, что было великого и грандиозного. На нескольких убедительных жизненных эпизодах он раскрыл и развернул перед нами целую историческую эпоху». Картины, созданные реалистической кистью Эмиля Золя, наполняет большая правда. «После чтения этой книги думаешь, что ты знаком во всех мельчайших подробностях с настроением и мыслями солдат. Кажется, что ты сам был участником всех тех событий, которые описал этот исключительный талант… Его герои не вмещаются в очерченные рамки, настолько они пластичны и выпуклы… Невежество командования, страшная дезорганизованность войск, недостатки снабжения, падение дисциплины после первых поражений – все это проходит перед нами, как в зеркале» («Neues Pester Journal», Австро-Венгрия).
Поль Верлен, прочитав «Разгром», который ему послал Золя, заявил, что книга выделяется среди других сочинений писателя, она – подлинный шедевр. «Книга эта охватила меня, – продолжает Верлен, – святой печалью и безусловным восхищением».
Двадцать шестого июня 1892 года в «Тан» («Temps») публикует свою статью Анатоль Франс. «Видно, – отмечает Франс, говоря о „Разгроме“, – что господин Золя хорошо познал душу солдата… Он показал в романе замечательных людей: полковника де Бинейля, прекрасного воина, гордого и молчаливого в героизме и неудачах; лейтенанта Роша, хотя и не обладающего умом возвышенным, но человека большого сердца, он умирает, завернувшись в знамя, как в символический саван; артиллериста Оноре… который падает, сраженный, на лафет своей пушки; наконец – капрала Жана, человека трезвого ума, убежденного и храброго. Великая заслуга Золя состоит в том, что он вдохнул жизнь в душу несчастной армии, которая совершенно не заслужила перенесенных ею неслыханных терзаний»).
Через месяц, с 25 по 31 июля 1892 года, газета «Жиль Блас» («Gil Bias») напечатала несколько статей Шарля Лезе, в которых подтверждалась глубокая документальная основа «Разгрома».
За двадцать лет, истекших со времени франко-прусской войны, о ней было написано огромное количество книг. «За последние годы, – писал Ж. Корнели в „Голуа“ („Gaulois“) 22 июля 1892 года, – мне попадались на глаза многие романы, созданные, вернее, сложенные, об этой великой трагедии. Но ни один из них не может быть удостоен стать объектом исторических споров, как „Разгром“». Нападки на эту книгу и споры о ней разгорелись еще до того, как она вышла отдельным изданием (сначала «Разгром» был напечатан газетой «Ви попюлер» – «La Vie Populaire»), Но особенную остроту они приобрели в связи с атаками, которым Эмиль Золя подвергся со стороны офицеров и генералов, принимавших участие в войне 1870 года. Они упрекали писателя в том, что его роман оскорбляет армию, что в нем неверно изображены действия французского командования, что Золя не смог до конца разобраться и квалифицированно проанализировать и оценить целый ряд военных операций. А генерал Баррайл, бывший военный министр, заявил, что Золя рассматривает события с ложных философских позиций.
Эти измышления были впоследствии опровергнуты военным историком Альфредом Дюке в статье, опубликованной после смерти Эмиля Золя в газете «Ла Патри» («La Patrie»). Дюко пишет, что во время работы над «Разгромом» Золя часто обращался к нему за консультацией по различным вопросам, касающимся стратегии и тактики французских и немецких войск во время войны 1870 года. «Склонившись над картами, – говорит Дюке, – мы тщательно разбирали маневры и действия боевых единиц. Золя все схватывал буквально на лету и всякий раз находил правильное решение, верный вывод. Я должен отметить, что Эмиль Золя всегда вдохновлялся желанием сказать правду о людях и обстоятельствах».
Масло в огонь этих споров подлило письмо немецкого офицера Танера, опубликованное газетой «Фигаро» («Le Figaro») 19 сентября 1892 года. В своем письме Танера отмечает, что Золя удалось хорошо и талантливо воссоздать все, что не относится к военным действиям, «да и нельзя было ожидать другого от такого прославленного художника». Но дальше Танера заявил, что Эмиль Золя в романе «Разгром» оклеветал первоклассную армию Мак-Магона, которая отличалась исключительной храбростью, начиная от простого солдата до главнокомандующего. «Я считаю эту книгу очень художественной и очень вредной… Она написана таким образом, что вводит в заблуждение людей не военных, которым кажется, будто им рассказывается правда. Золя позорит несчастного Мак-Магона… фальсифицирует факты, оскорбляет армию, у которой был несчастный жребий, но она храбро воевала и не уронила своего достоинства и чести даже в разгроме».
Письмо Танера, который в чине капитана баварских стрелков участвовал в сражениях у Бомона и Седана, выражало настроение военных кругов Пруссии, всячески раздувавших легенду о доблести прусской армии, разгромившей наголову первоклассную армию Второй империи. Золя своим романом нанес тяжелый удар по этой легенде.
Десятого октября 1892 года Эмиль Золя опубликовал статью «Возвращение из путешествия», в которой содержится ответ офицеру Танера. Золя пишет: «Мне достаточно взять документы в руки и рассмотреть по порядку все эти необычные измышления, как правда окажется на моей стороне. Танера, выражая интересы прусской военщины, старается всячески укрепить легенду о том, что во Французской кампании они разбили бесчисленную рать, хорошо оснащенную, прекрасно обученную, во главе которой находились талантливые полководцы… В сражении под Седаном Германия имела дело не с истощенной голодом, деморализованной и не управляемой армией Второй империи, а со всей великой и непобедимой Францией, со всеми, вставшими грудью ее доблестными сынами. Но даже у них пруссаки вырвали победу. Весь смысл письма сводится именно к этому».
Тапера упрекал Эмиля Золя и в том, что он, описывая положение пленных французов на острове, сильно сгустил краски. В ответ на это обвинение Золя привел неопровержимые факты, которые полностью подтверждают очевидцы. «На небольшом клочке, – сообщает Золя, – куда пруссаки согнали восемьдесят тысяч солдат и офицеров, царил невообразимый хаос. Голодные, раздавленные морально, эти несчастные, несколько дней находившиеся под проливным дождем, были доведены до крайности. Один из очевидцев свидетельствует, что на его глазах солдат убил другого солдата, чтобы завладеть его куском хлеба». Люди, пережившие этот кошмар, как рассказывает Эмиль Золя, вспоминают об этих днях с ужасом, леденящим сердце, – так велики были страдания пленных.
«Я думаю, – продолжает Золя, – что, вероятно, сразу же после войны капитан Танера, безусловно, не рискнул бы написать свое письмо. В то время Базейль напоминал огромное кровавое пятно. Он вызывал у всех людей мира такой душераздирающий крик ужаса, что сами баварцы всячески избегали вспоминать о своей победе… Добавим, что капитан Танера, по его словам, был участником базейльского избиения».
Нашлись и такие, кто предъявил Золя обвинение в том, что он неверно передал состояние Шалонской армии под Седаном. На это он ответил в статье «Седан»: «Шалонская армия, невзирая на все беды, показала свое величие». Но 1 сентября армии уже не было. Вокруг царили смятение и беспорядок. Десятки тысяч солдат метались в панике и отчаянии под уничтожающим огнем пятисот немецких пушек.
Травля Эмиля Золя военной кастой и его недругами приняла особенно большой размах во время так называемого «дела» Альфреда Дрейфуса. В реакционной печати появились различные карикатуры, памфлеты, в которых писателя обливали грязью, называли преступником и предателем. На улицах раздавались крики: «Смерть Золя!» В его доме били стекла. «Его преследовали, – говорит Луи Арагон, – не только за „Я обвиняю!..“, но и за „Жерминаль“, за „Разгром“, за эту книгу, о которой люди, сами являвшиеся виновниками разгрома, неизменно говорили с добродетельным негодованием».
Реакция старалась использовать любой факт, чтобы оскорбить, унизить и оклеветать честное имя Золя. В этой связи интересно напомнить историю немецкого издания «Разгрома», на обложке которого был напечатан оскорбительный для Франции рисунок. Издание это дало повод недругам писателя заявить, что «Золя предался врагу», что «он на содержании у немцев», хотя известно, что писатель категорически возражал против публикации этого рисунка.
Получив в марте 1900 года экземпляр иллюстрированного «Разгрома», отпечатанного в Штутгарте, Эмиль Золя немедленно, 22 марта, отправил письмо немецкому издателю А. Левинштейну. «Меня чрезвычайно огорчила цветная гравюра, воспроизведенная на обложке книги. Я не могу согласиться на ее публикацию, так как считаю ее оскорбительной для Франции, и требую безотлагательно удалить ее со всех экземпляров издания… Верю, что вы это сделаете и не заставите меня разорвать наши отношения и принять необходимые меры… Я надеюсь также, что среди иллюстраций в книге нет таких, которые были бы нежелательными или оскорбительными для моей страны».
В своем ответе на это письмо А. Левинштейн, желая уговорить Золя, привел целый ряд доводов. И в частности, тот факт, что это издание будет продаваться только в Германии. Но писатель категорически отказался изменить свое решение. В письме к А. Левинштейну от 30 марта он заявил, что «гравюра, о которой идет речь, противоречит основной идее и смыслу романа. Вы говорите, что это издание предназначено исключительно для распространения в Германии. Но именно это обстоятельство и усугубляет оскорбительный характер рисунка… Во Франции в определенных кругах и без того уже муссируются слухи, будто я состою у немцев на жалованье и вместе с ними праздную разгром французской армии».