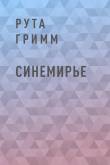Текст книги "Желтый лик (Очерки одинокого странника)"
Автор книги: Элизар Магарам
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Смеющийся Будда
На берегу зловонного канала, против строящегося пятиэтажного здания фабрики, стоит древний буддийский храм, окруженный слепой каменной стеной. Вдалеке за храмом тянется огромный пустырь, усеянный могильными курганами и истлевшими, рассыпавшимися от ветхости гробами, над которыми кружатся целые тучи хищных птиц. На горизонте чернеет зубчатый вал городских стен, зеленеют берега мутно-желтой речки, уходят вдаль светло-серые просные поля, скрываясь за черной башенкой высокой пагоды, окруженной каменными человекоподобными чудовищами – древними памятниками княжеской семьи. Еще дальше видны серые, продолговатые хибарки деревни с остроконечными, лестницеобразными черными крышами, похожие на покинутые гробы великанов.
Из огромного внешнего двора базара высокие зубчатые ворота с характерными китайскими орнаментами ведут в первую храмовую залу – «Храм Царей Небес». В четырех углах стоят четыре божественных Стража храма, символизирующие четыре страны света. Восток держит в руках лютню[13]13
Чтобы музыкой исправлять сердца людей.
[Закрыть], Юг – саблю[14]14
Для уничтожения злых духов.
[Закрыть], Север – зонт[15]15
Чтобы покрывать и защитить людей.
[Закрыть], а Запад – змею[16]16
С помощью которой оно преодолевает и контролирует Зло.
[Закрыть]. В центре залы, лицом ко входу, сидит поджав под себя ноги, вечно смеющийся Будда[17]17
Смех Будды показывает его благоволение ко всем людям, добрым и злым, без различия (Прим. авт.).
[Закрыть]. Позади Будды помещается главный из тридцати двух военачальников Небесных Царей.
Настежь раскрытые двери «Храма Царей Небес» ведут через небольшой внутренний дворик, выложенный каменными плитами, с засохшими пальмами в углах, в главную залу. У задней стены сидит божественный Ши-Цзя-Му-Ни[18]18
Легендарный индийский принц, основатель буддизма.
[Закрыть]с двумя товарищами по обеим сторонам[19]19
Ши-Цзя-Муни и его товарищи по обеим сторонам называются Сань-Ши-Жу-Лай («Вечные трех периодов»), т. е. со времени первоначального сознания (совести) к настоящему и будущему сознанию. Причем Ши-Цзя-Му-Ни представляет настоящее, сидящий по правой стороне от него Яо-Ши (врач) будущее, а слева – А-Мито – прошедшее. Иногда вместо трех бывает пять изображений в группе. Тогда сидящий в промежутке между Ши-Цзя-Му-Ни и его товарищем справа называется Цзя-Си, а слева – А-Нань. Оба они являются учениками Ши-Цзя-Му-Ни.
[Закрыть]. Позади помещается Всемилостивейшая Богиня Милосердия со множеством простертых вперед рук[20]20
Богиня Милосердия бывает изображена также держащей на руках сына и во многих других позах, иллюстрирующих ее деятельность.
[Закрыть], словно отвечающих на просьбы молящихся. По боковым стенам слева и справа от Ши-Цзя-Му-Ни стоят восемнадцать богов – Ло-Хань[21]21
Ло-Хань – главные ученики Будды (Прим. авт.).
[Закрыть].
Судьбы богов так же разнообразны, как – людей. Одни из них ярко освещены восковыми свечами и тлеющими благовонными палочками, воткнутыми в большие вазы из белого метала, наполненные песком; перед другими лишь слабо мерцают одинокие огоньки или вьется единственный синенький дымок; иные завистливо смотрят из глубины темных алтарей на счастливых товарищей. Наиболее чтимые боги чисто вымыты и пестрят ярким красочным одеянием и позолотой; блестят, как зеркала, ярко начищенные вазы с песком. Остальные боги покрыты толстым слоем пыли и в неровном свете огней еще мрачнее и таинственней выглядят страшные лица с прилепленными длинными черными бородами из человеческих волос. Многие из них стоят, насторожившись, в воинственной позе, кто с копьем, кто с топором, а кто – просто с дубиной… И оттого, должно быть, в темноте чудятся шатающиеся тени на стенах, шушукаются старые ведьмы и колдуны, рыскают в черных впадинах красные черти с круглыми зелеными глазами и плачут навзрыд, носясь под потолком, бесприютные блуждающие души. Лишь медный, ярко начищенный, вечно смеющийся Будда сидит, мирно поджав под себя ноги и, широко разинув беззубый рот, придерживает руками оголенный живот с массивными жирными складками и прыгающей от хохота пуповиной…
В глубине алтарей, позади богов, дремлют бонзы с бритыми головами. Из курительных ваз медленно вьются ввысь белые колечки дыма благовонных курений. Изредка прошаркает мягкими туфлями по каменному полу прислужник-монах, раздастся легкий треск угасающей свечи, неожиданно в настежь раскрытые двери ворвется продолжительный торжествующий крик паровоза со стороны железнодорожной насыпи, отдаленным гулом доносится с внешнего храмового двора многоголосый стон толпы и неумолчно, монотонно и дробно, с мягким призвоном, стучат в пустые бочонки-барабаны молящиеся монахи, напевая вполголоса молитвы.
В храм входит китаянка-подросток лет четырнадцати в шелковой светло-сиреневой курточке, узеньких темно-лиловых панталонах, зеленых чулках и красных туфельках. Длинная черная коса перевита алыми ленточками. Золотые гребни и булавки с пестрыми камушками украшают кокетливо подстриженную челку над лбом, над тонкими, разрисованными бровями. Детское однотонно-нежное личико цвета темноватой слоновой кости дышит всеми порами, словно свежий нетронутый персик на зеленой веточке. Узкие, косо поставленные темно-коричневые глазки сочно блестят под черными густыми ресницами, все осматривают, любопытно ощупывают, отражая горящие свечи, позолоту и красочные одежды богов тысячью радужных огоньков. Тонкие ноздри слегка приплюснутого носика учащенно вздымаются и влажно блестят миниатюрные белые ровные зубы меж яркими, сочными, похожими на лепестки алой розы губами.
В храме полутемно, прохладно и тихо. Отдаленно бубнит молитвенный барабан в главной зале и неясным гулом врывается уличный шум. У самого входа в Храм Царей Небес, за столом, покрытым малиновым шелком с золотыми иероглифами, уснул бонза-гадатель, погрузив лицо в сложенную пирамиду свернутых бумажных папирусов, и вкусно храпит, смачно причмокивая губами. Боги теснее сдвинулись вокруг, застывши в глубине алтарей, и неслышно дышат.
Ваза-подсвечник перед смеющимся Буддой ярко освещена свечами и тлеющими благовонными палочками. Девушка благоговейно опускается на колени на вытертой бархатной подушечке перед Буддой, дрожащими ручками втыкает зажженную свечу в песок белой вазы, припадая лбом к обнаженным стопам Его. Молитвенно потрясая сложенными ручками, она о чем-то умоляет Будду, тоненькая и хрупкая, и трогательно выглядывают оголенные нежные полоски ножек между короткими темно-лиловыми штанинами панталон и шелковыми зелеными чулочками с голубыми подвязками… Дрожащие огни свеч отражаются в блестящих капельках-слезинках, стекающих по упруго-выпуклым щечкам, и гулкое эхо отдает сонмом звуков тоненькое детское всхлипывание. Вместе с девушкой звонче рыдают бесприютные блуждающие души под потолком, быстрее бегают тени по стенам и грозно мечут сердитые взгляды сонные боги во мгле. Лишь молодой бонза в красной восьмиугольной шапочке спрятался за дымом благовонных курений в глубине ближайшего алтаря, приковав взгляд к девушке…
Поддерживая руками оголенный живот с жирными складками и прыгающей пуповиной, смеется Будда…
Во внешнем дворе храма солнце немилосердно жжет с высоты. Накаленный воздух радужно дымится из куч мусора и отбросов, распространяющих далеко вокруг одуряющее зловоние. У ворот полунагие китайцы, напевая, выкрикивают свои товары. На низких прилавках, в корзинах и на земле возвышаются кучи арбузов, дынь, винограда, груш, яблок, персиков, бананов, абрикосов, апельсинов, помидоров, редьки, репы, лука, чеснока и других фруктов и овощей.
Под открытым небом работают переносные базарные кухни. На больших сковородах, наполненных до краев черным пригорелым бобовым маслом, жарятся пирожки и лепешки самых разнообразных видов, готовят разное жаркое, коптят над огнем кур, гусей и целых поросят. Тут же в деревянных лоханках уличные повара месят тесто для лапши, пельменей и пирожков, погружая до плеч обнаженные вспотевшие руки, покрытые толстой корой грязи. В больших жестяных чанах варят различные супы, пельмени и лапшу: белые клубы пара и угарный чад окутывают весь обширный двор, пропитывают противным запахом всю толпу. Вокруг кухонь столпились голодные стаи кули с глиняными мисочками в руках. Они ловко орудуют захватанными грязными палочками и жадно хлебают из мисок мутные супы и варева из гнилья и отбросов.
В углу двора дают представление странствующие актеры, зазывая публику неистовым боем в барабан под аккомпанемент оглушающих гонгов и визжащих скрипок. В пестрых, богато вышитых исторических костюмах, с примитивно приклеенными, необыкновенно длинными бородами и усами, разукрашенные неестественно-яркими красками, они изображают богов, добрых и злых духов, чертей, ведьм, колдунов, императоров и мандаринов. Окружающая публика бурно переживает представление, скупо подбрасывая в подставленный таз медные дырявые кеши.
На паперти храма, распростершись ниц, воют и искусно плачут нищие, проливая вокруг себя лужи слез… Безрукие, безногие, с черными ужасающими дырами вместо носов и глаз, с обнаженными отвратительными язвами, они пресмыкаются по земле, ловят прохожих за ноги, за длинные халаты, оглашают воздух рыданиями и охрипшими причитаниями…
У боковых стен храмового двора за небольшими столами расположились китайские представители свободных профессий. На каждом столе красуются атрибуты ремесла. Целые горы свернутых бумажных папирусов, ящички туши, разнообразные кисточки для письма. У зубных врачей, среди страшных, бросающих в судорогу окровавленных железных инструментов, красуются большие ящики, доверху наполненные вырванными зубами – неоспоримое доказательство и лучшая реклама искусству врача… Тут же лекари ковыряют ржавыми инструментами отвратительные, гнойные язвы больных, смазывают оттекшие до черноты глаза едкой мазью, делают на голых телах пациентов уколы длинными стальными булавками, на глазах публики лечат половые органы больных венериков… Специалисты по уколам в свободное время упражняются на восковой фигурке человека, истыканной булавками. Окруженные толпой клиентов и прохожими, брадобреи мастерски работают ножницами и ножами-бритвами, между делом неумолчно заговаривают зубы взрослым, рассказывают сказки ребятам, чтобы они не двигались под острым лезвием. Благополучно вышедшие из-под искусного ножа цирюльника клиенты моются в позеленевших медных тазиках, не брезгуя водой своих предшественников…
В глубине постройки, против ворот храма, где воздвигается огромное пятиэтажное казарменное здание фабрики, неумолчно визжит несмазанный подъемный кран, поднимая и опуская грузные охапки лесов, груды камней, чаны с известью и мешки с песком. Вместо обычных лесов каменный остов облепляют решетки из тонких круглых бамбуков, связанных рогожевыми бечевками и плетеными соломенными веревками. Кули, согнувшись под тяжестью, привычно ступают по узким гнущимся сходням и доскам, и многоголосый трудовой напев вьется в небо, как предсмертный стон огромного раненого зверя:
– Хэ-а-хо…. хэ-а-хо… хэ-а-хо….
В вышине, на темном фоне кирпичей, неясно маячат коричневые, распаренные тела оголенных кули. Гибкие бамбуки беспрестанно шатаются и резко скрипят под их тяжестью. Внизу почерневшие от зноя китаянки месят в больших чанах известь и асфальт, каменщики подравнивают глыбы камней, тешут бревна плотники, а пот, смешанный с густой пылью, черными липкими струйками стекает по оголенным телам, покрывает их толстой корой грязи.
Под самой крышей постройки остановился передохнуть молодой кули с саженным горбом кирпичей на спине. В открытые двери храма он, должно быть, увидел распростертую ниц перед Буддой молодую девушку в лиловых панталонах и сиреневой курточке и залюбовался ее зелеными чулочками с голубыми подвязками. Свечи перед Буддой ярко освещают милое детское личико, блестящие миндалевидные глазки и кокетливо подстриженную челку над тонкими, разрисованными бровями. Кули делает нечаянное движение вперед, ближе придвигается, чтобы лучше разглядеть хрупкую фигурку девушки, слепо ставит ногу и с молниеносной быстротой летит вниз с пятого этажа, подгоняемый тяжелым грузом кирпичей… К земле долетают лишь обезображенные члены его тела вместе с осколками кирпичей, обильно залитых кровью и липкими мозгами…
Работа на постройке ни на минуту не останавливается. Все так же поскрипывает несмазанный рычаг подъемного крана и хором стонут кули, таская камни, кирпичи, ведра с жидким асфальтом и известью. Некоторые из работающих внизу кули сгребают лопатами разлетевшиеся в разные стороны вздрагивающие куски живого тела и прикрывают их серым мешком из-под асфальта. Липкие, окровавленные кирпичи тут же погружаются на спину кули и отправляются в назначенное место.
Почти одновременно с явившимся полицейским-индусом выходит со двора храма молодая девушка в темно-лиловых панталонах и сиреневой курточке. Она гордо ступает среди расступающейся перед ней толпой кули и часто мигает покрасневшими узкими глазами, прищуривая их от яркого света. На одну секунду девушка в недоумении останавливается перед свежей лужей крови и изуродованными членами того, кто лишь несколько минут тому назад любовался ею… Заметив кровь, она, как ужаленная, бежит прочь, в испуге прикрывая шелковым платочком заплаканное личико…
Через несколько минут увозят останки кули, лужи крови засыпают песком и равнодушная толпа расходится в разные стороны, комментируя происшествие…
А в храме напротив, поддерживая обеими руками оголенный живот с жирными складками, все так же продолжает смеяться Будда….
Жена
Отчасти, пожалуй, главным виновником его настроения был месяц…
Приблизительно с наступлением новолуния движения Янь-Джо становились нервными и отрывистыми и заметно вздрагивали худые костлявые руки от прикосновения к обнаженным телам заказчиц-европеянок во время примерки. Всегда разговорчивый и веселый, он в эти дни угрюмо молчал и, нахмуренный, юлил вокруг заказчиц с полным запасом булавок во рту, неловко стягивал дрожащие концы сантиметра вокруг талии, дольше обыкновенного задерживал длинные, тонкие с черными когтями пальцы на бюсте женщины, тупо млел от прикосновения к ней. Иные женщины инстинктивно замечали эти странности и высокомерно гнали его от себя; другим это было безразлично, а большинству и в голову не приходило, что грязный китаец, от которого несет противным расовым запахом с примесью чеснока и бобового масла, может что-либо чувствовать. Кстати сказать, с такими женщинами Янь-Джо держался смелее. Он отлично разыгрывал перед ними роль бесчувственного дикаря, позволяя себе рискованные вольности во время примерки…
Поздней ночью, после работы, когда его товарищи укладывались на ночлег на длинных портняжьих столах в мастерской, Янь-Джо отправлялся странствовать по городу. У фонарей ютились на углах тени-полицейские; прорывая полумглу, резким окриком гулко шлепали голыми пятками рикши; тревожно гудели мчащиеся автомобили, наполняя воздух терпкой угарной струей бензина. Янь-Джо бесцельно скитался по темным улицам и черным переулочкам, глядел на все и всех туманными глазами, заходил по пути в ночные чайные домики, переполненные ярко раскрашенными женщинами и гуляющими мужчинами, откуда далеко вокруг относились ночными ветрами раздирающий визг худзин, адский звон медных гонгов и оглушительный гром барабанов и кастаньет.
Но нигде он не находил себе покоя. Городские женщины манили его, но не давали удовлетворения. И такой милой казалась тогда затерянная в непостижимой дали родная хибарка, окруженная древними могилами предков, отец, мать и, главное, – жена – маленькая Сю…
На рассвете он возвращался в мастерскую. Примостившись в темном уголке, наблюдал, как постепенно сереет мрак, как одевается хозяйка – толстая Ю-Лин, ожесточенно почесывая обеими руками обнаженное дряблое тело, едва прикрытое тряпьем, прислушивался к сиплому храпу товарищей. И все время мысли его возвращались к маленькой Сю. Он то видел ее работающей в огороде в распахнутой на груди синей деревенской курточке, то ощущал вокруг шеи ее маленькие теплые ручки, слышал ее тихий лепет… Вслед за хозяйкой во мгле замаячила тоненькая хрупкая фигурка ее дочери Чао-Ли и, поодиночке, один за другим, с вялой зевотой, покряхтывая и покашливая, поднимались рабочие.
Сонно почесываясь, Янь-Джо вместе с другими принимался за работу. Стрекотали швейные машины, угарно шипели огненные утюги, понемногу ожили заспанные землисто-желтые лица. А когда хозяин, деловито собрав пачки образцов материала и с тюком под мышкою отправлялся на поиски новых заказчиц, в мастерской становилось совсем уж весело. Хрупкая Чао-Ли садилась с вышивкой во главе стола и бойко отвечала на циничные остроты парней, кокетничала со всеми, потряхивая стриженой челкой над карими миндалевидными глазками, украшенной пестрыми ленточками и металлическими гребнями, булавками и розетками. Рабочие вслух критиковали заказчиц, насмехались над их странными причудами, над манерами. Заливаясь в хохоте, Чао-Ли рассказывала товарищам отмеченные ею маленькие дамские тайны европеянок, по-женски жестоко, зло обнажала их, наивно доказывая превосходство китаянок над ними…
Эти циничные разговоры и вольные шутки Чао-Ли еще сильнее раздражали Янь-Джо. Ему все больше становилась противна работа. Он с тоской считал минуты перерыва; у него все падало из рук. Одна за другой являлись заказчицы, бесстыдные, вульгарно-крикливые и требовательные, – жены и содержанки мелких служащих, девицы из баров и домов терпимости. Раздеваясь для примерки, они оставались в несвежем белье, потные, с острым опьяняющим запахом дешевых духов и рисовой пудры, слегка заглушавшим специфический запах неопрятного женского тела… Янь-Джо сосредоточенно примеривал платья, отстегивал и застегивал корсеты, лифы, чертил мелком на тонком шелку, прикрывавшем обнаженное тело, дрожащими пальцами всовывал в материалы булавки и все время мелькали перед его глазами оголенные бюсты женщин, красивые и безобразные, необычайно полные, нормальные и худые, с выступающими на груди острыми костями, пестрели ажурные чулки повыше колен, яркие подвязки, нижние юбки, панталоны, а то и совсем голое тело, туманно мерцавшее сквозь прозрачную батистовую рубашку…
И хоть постоянная близость к оголенным женщинам отчасти притупляла остроту эротического чувства, но в такие дни, когда тоска по маленькой Сю достигала своего высшего напряжения, Янь-Джо стоило больших усилий, чтобы под маской холодного равнодушия к женщинам чужой расы скрывать свои чувственные переживания…
Но как бы там ни было, его странности обычно заканчивались тем, что он отправлялся на пару дней в родную деревню.
Это был нелегкий путь. Он выезжал из Шанхая в переполненном китайцами вагоне. Часа через три езды, на маленькой станции, он пересаживался на барку и томительно долго плыл по зловонному каналу среди рисовых болотистых полей. Затем приходилось долго идти пешком, пока среди могильных курганов и запущенных гробов в топкой ложбине не замаячат вдали черные слепые хибарки родной деревни.
Его приход всегда радостно переживал тощий серый песик со стоячей, выщипленной на спине скомканной шерстью и остро торчащими ребрами. Второе лицо, приветствовавшее его, была старуха-мать в несменяемых узких теплых штанах и полудюжине коротких курточек со свисающими клочьями пакли из дыр и совершенно лысым черепом. Отец и жена, обычно работавшие вместе на огороде, догадывались по оживленному лаю дворняжки о его приходе и тащились к нему навстречу. Янь-Джо вежливо отвешивал старику поклоны, задавал церемонные вопросы о его драгоценном здоровье и безмолвно передавал кланявшейся жене узелок с провизией и городскими лакомствами. Отец недружелюбно косился на сына, сердито двигал серыми, свисающими под подбородок длинными усами, потягивал свою тоненькую трубку. Он был еще не очень стар и рядом с лысой старухой-женой выглядел совсем молодцом.
Односельчане, проходя по улочке, вежливо раскланивались с ним, останавливались расспрашивать про родных и знакомых в городе. Между тем, молодая подносила чай свекру и мужу в маленьких глиняных чашечках, прикрытых блюдцами, выкладывала городские лакомства и деликатесы. Старик звучно хлебал чай, причмокивая языком, долго жевал сухие лепешки и ковриги слабыми старческими зубами и ворчал на сына. Он жаловался, что пяти долларов в месяц, получаемых за содержание снохи, недостаточно, плаксиво брюзжал, что на старости ему приходится самому обрабатывать участок в то время, когда другие старики на деревне мирно почивают в отдыхе под заботой сыновей.
Обрадованная молодая Сю, оживленная и раскрасневшаяся, проворно услуживала мужу и свекру, грациозная и ловкая в неуклюжей деревенской одежде. Ее радость еще больше раздражала старика. Шамкая редкими зубами вкусные городские яства, он жаловался сыну на сноху, на ее леность и непослушность и, главное, что она ест очень много и отлынивает от работ по хозяйству…
Эти жалобы Янь-Джо слышал тысячи раз, знал их наизусть, но был внимателен к отцу, вежливо слушал его нудные речи, изредка извиняясь и оправдываясь. И все время с нетерпением ждал, когда старику, наконец, наскучит говорить и он отправится спать на кане[22]22
Кан – лежанка из кирпичей; зимой отапливается снизу (Прим. авт.).
[Закрыть] в углу, где уж ждала его старуха…
И тут же с интересом приглядывался к молодой жене, каждый раз такой новой и привлекательной, проворно шмыгавшей босиком по земляному полу хибарки, устраивавшей на ночь отгороженных у дверей животных и птиц: осла, свиней, кур и петухов.
Ночью, когда в темноте смешивался тяжелый храп стариков и животных, Янь-Джо прислушивался к тихому шепоту жены. Среди любовных супружеских ласк она жаловалась ему на тяжелую жизнь, на тоску, рассказывала о приставаньях свекра, что не раз он заставлял ее спать с ним на кане, на месте старухи… Утомленный ходьбой и жаркими ласками жены, Янь-Джо в полудреме прислушивался к тихому шепоту, чувствовал возле себя родственную теплоту ее тела и неясно представлял себе, о чем она говорит. Ему все мерещились убегающие рисовые поля, черные землянки поселян, разрушенные деревянные гробы и каменные могилы, обросшие зеленоватым мхом и чахлым терновником. В утомленном мозгу мелькали полунагие заказчицы, красивые и безобразные, и неотступно преследовал его образ молодой европеянки, виденной им когда-то, хрупкой и нежной, с золотым крестиком на черной цепочке меж недоразвившимися острыми девичьими грудями, похожими на нетронутые восковые цветочки слив ранней весною…
Еще ему чудился монотонный стрекот швейных машин, он чувствовал угарную теплоту утюгов, и думалось ему, что хорошо было бы, если бы, лежа на большом портняжьем столе в мастерской, по ночам он ощущал бы возле себя, как сейчас, теплое упругое тело жены, ее тихий шепот, ее усыпляющие, утоляющие ласки…
Весь следующий день он проводил в заботах по хозяйству, помогал отцу в поле, притаскивал запасы хвороста из лесу, выполнял накопленные за месячное отсутствие работы. Молодая Сю ходила за ним по пятам, добросовестно помогала ему, довольно мурлыкала себе под нос любовные песенки. По временам, когда они оставались наедине, она просилась к нему в город, жаловалась на жестокое обращение свекрови, на пристающего свекра. Янь-Джо молча слушал ее. Он сердито думал, что если здесь делит с ним жену собственный отец, то там, в мастерской, ее будут делить с ним все подмастерья… Он вспомнил свою хозяйку – толстую Ю-Лин, неизменно вступающую в связь с каждым новым подмастерьем, и хрупкую Чао-ли, о которой идут слухи, что она уж не одного ребенка бросила в мутные воды Су-чжоусского канала… Уж чем товарищам пользоваться, да еще посмеиваться над ник, пусть лучше отец родной пользуется…
Но Сю он не говорил об этом и хмуро отмалчивался. Ему приятно было чувствовать ее ухаживанье, он с удовольствием воспринимал ее родственную ласку, со скрытым умилением следил за ее сильными, упругими движениями. Зато к вечеру, когда отец опять заговорил с ним об увеличении платы за содержание жены, Янь-Джо с хитростью горожанина заявил, что возьмет ее с собой в город. Старик, не ожидавший такого оборота, сразу онемел. Янь-Джо с возрастающей злобой наблюдал за отцом, в душе посмеивался над ним и вместе с тем почувствовал отвращение к родному дому. Ему уж успела надоесть деревня, курная землянка, близкое соседство животных, жадный брюзжащий отец, голый череп матери и жаркие ласки жены. Он тосковал по подземному гулу трамваев, по грохоту и реву автомобилей, по мастерской и товарищам. Ему недоставало звонкого хохота и пикантных шуточек хрупкой Чао-Ли…
Янь-Джо всю ночь не спал, чувствуя жаждущие неутолимые ласки жены. Вдалеке на деревне шептались ночные тени, с воем носились блуждающие души и красные черти в поисках добычи, угрюмо ворчали деревенские псы, сонно брыкались животные за оградой и изредка, не дождавшись рассвета, по ошибке закричит молодой петушок.
Так вот он каков, родной дом!..
Голубой рассвет заглядывал сквозь щели и незаделанные дыры хибарки. Янь-Джо смотрел на померкшее позеленевшее лицо Сю, на разметавшиеся во сне тонкие руки и ноги ее, и теплая жалость подступила к сердцу. Ему очень хотелось увезти ее с собою в город, манивший его, как блудница ночью, но он знал, что это невозможно.
Всегда, возвращаясь в город, в последний раз прощаясь с родителями и женой, ему бывало жаль истраченных денег на поездку, прогульных дней. Он мысленно решал реже ездить домой. Но наступало новолуние и вновь, с возрастающей силой, его тянуло к маленькой Сю, такой покорной и ласковой, так доверчиво разметавшейся во сне, в его объятиях…
Светало. На улице за стеною зычно голосил бравый петух и вместе с ним запели будничную трудовую песенку крестьянин и крестьянка, отправившиеся с грузными корзинами овощей в ближайший городок:
– Хе-а-хо… Хе-а-хо… Хе-а-хо…