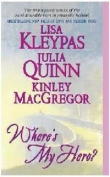Текст книги "Девять с половиной недель (другой перевод)"
Автор книги: Элизабет Макнейл
Жанр:
Эротика и секс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
На столе, накрытом к ужину, уже стоит салатная миска, когда он подводит меня к окну гостиной. Мы стоим бок о бок. Он снова и снова проводит ладонью по моим ягодицам. Маленькая желтая машинка, как будто в миле от нас – далеко внизу, подъезжает к тротуару, и из нее вылезает крошечный человечек. Игрушечная машинка уносится зигзагом, а игрушечный человек бежит к мусорному баку. «Попробуй так», – говорит он едва различимым голосом мне на ухо и, улыбаясь, протягивает мне полевой бинокль. Размытое, растянутое, словно на киноэкране, лицо – серое, напряженное – оказывается в миллиметре от моего. Я узнаю бородавку на левой щеке. Большие бусины пота поблескивают на лбу в крупных морщинах. Ушная мочка, над которой торчит из уха пук серых волос, кажется, была когда-то неудачно проколота.
Он спрятал бумажник под какой-то газетой. «А что, если кто-то найдет его раньше?» – спросила я. «Тогда Леонарду не повезло». Но его никто не взял, и даже нет необходимости копаться в мусоре. Гигантская рука в сетке вен поднимается в воздух, осторожно приподнимает газетный лист с новостями спорта, и низкое солнце бросает отблеск на ремешок часов. Я опускаю бинокль. И вот игрушечный человечек хватает крошечную вещицу, замирает, крутя головой, машет рукой возникшей внезапно маленькой модели такси и скрывается из вида.
Тошнота поднимается со дна моего желудка. Я сглатываю с усилием. На мгновение во рту еще остается кисловатый привкус. Я вытягиваю руки над головой, далеко, как только могу, и чувствую мышцами плеч, груди, живота, что что-то во мне сместилось, начало соскальзывать, хотя по-прежнему кажется, что меня сейчас вырвет. Ощущение набирает силу и глубину, как будто маленькие ручейки по всему моему телу собираются в единый поток. Он кружит меня, сжав в стальных тисках мои плечи, и трясет так, что голова болтается из стороны в сторону. Его руки оказываются у меня на горле, я опускаюсь на пол с закрытыми глазами. Я обвиваю кольцом своих рук с сомкнутыми запястьями его шею и переплетаю голени у него на спине.
«Не стоило того, правда? – Он улыбается мне поверх вилки с кусочком стейка. – Какая-нибудь подсадная утка из“ Скрытой камеры”, и та играет поживее». Но глаза у него блестят лихорадочным блеском, и я заранее знаю, что такой же блеск он видит в моих глазах.
Я никому не разрешала читать мои дневники. Они представляли собой набор судорожных записей, которые я делала в раскачивающихся вагонах метро, старательно прикрывая рукой листок от пассажиров, стоящих надо мной и бросая нервные взгляды на соседей справа и слева. Нервничала я даже у себя за столом, выкраивая пятнадцать минут между встречей с клиентом и собранием руководства. Или в одиночестве, ночью, перед ярким экраном без звука, где Тео Коджак тяжело бежал по узкой улице за очередным жуликом, только что свернувшим за угол и бесшумно обрушивающим на пути мусорные баки. Или в запертой на ключ ванной, скорчившись на холодном полу и включив воду, чтобы мужчина, лежащий в моей постели, не догадался, что я пишу: «Это становится чем-то… раньше я хотела… давно должны начаться…» Несколько месяцев ежедневных лихорадочных записей, заброшенных на следующие полгода по непонятной причине – и только отрывочные фразы: «Март, 8. Идет дождь, волосы – кошмар».
Я всегда с недоверием относилась к людям, которые публикуют свои дневники. Для меня это было сравни насилию – зачитывать кому-то свой дневник. Настоящий дневник должен быть тайником, а прочитанный посторонним, он теряет свой смысл – и становится не более чем набором фраз вроде «Идет дождь, волосы – кошмар».
Несколько лет назад я застала одного своего любовника с моим дневником в руках. И хотя я знала, что у него бы не хватило времени прочитать хоть слово – так быстро я вернулась; что он не понимал, почему у нас все не складывается и, наверное, надеялся найти там подсказку; что не стоило оставлять его с моим дневником наедине и что это, очевидно, стало для меня просто предлогом – все равно я сразу поняла, что вот и все, все кончено. Я не произнесла ни слова, а он смущенно закрыл тетрадь. Я ушла и несколько недель не могла думать о нем, не добавляя мысленно: «…и к тому же читал мой дневник».
С тех пор, как мы познакомились, я писала каждый день, сначала по три-четыре предложения, а потом целыми страницами. Когда однажды он достал тетрадь из моего открытого кейса и начал ее листать, я почувствовала, как по позвоночнику поднимается целая волна странных ощущений: беспокойство, сменившееся облегчением, предвкушением, ликованием. Как я могла раньше жить без этого? Он читает эту тетрадку, как долго я жила без этого, и некому было меня прочесть. Испещренные обрывками полузабытых латинских фраз мелкие подростковые каракули, которые, казалось мне, никто не смог бы расшифровать – даже я иногда не могла этого сделать несколько недель спустя.
Все это время я бросалась к комоду, заслышав дверной звонок, засовывая тетради под ночные рубашки и носовые платки; все это время я в последнюю минуту оглядывала комнату, чтобы что-то, чего никто не должен был видеть, о чем никто не должен был знать, не осталось на виду. Все время быть вынужденной искать укромный уголок; мрак одиночества, унылое «личное пространство». Это прошло, думала я, прошло, теперь он знает обо мне все, теперь нечего прятать. Я села на пол перед диваном и смотрела, как он читает.
Я только что позвонила ему на работу, надеясь услышать голос девушки в приемной, повторяющей название компании и, нежным голоском: «Минуточку, пожалуйста». Надеясь, что минуту спустя мне ответит его секретарша: «…наверное, вышел пообедать, во всяком случае, мне ничего не говорил, что-нибудь передать?» Мне нужно это услышать. Я ушла из офиса в 10:30, хотя никаких встреч не планировалось, а вместо этого вот.
Он перезванивает. «Мы с тобой – анахронизм, – шепчу я в трубку и хриплым голосом. – Бродить в тоске по дому мужчины в понедельник днем – это ненормально». Чашка какого-то приторного кофе, растянутая на несколько часов, сигареты – одна за другой, минуты проносятся мимо. «Мне страшно». Мне и должно быть страшно, думаю я, – даже сейчас, когда я говорю с ним по телефону, я чувствую, как за моей спиной яркой цепочкой пылают все сожженные мной мосты, словно сигнальные маяки всего, что я оставила ради него: ясная и понятная (пусть и немного поношенная) схема существования, выработанная десятилетиями. Мои глаза широко открыты, словно под гипнозом, и я все равно не понимаю, на что смотрю. Теперь уж точно стоит начинать беспокоиться, странно было бы проводить вот так целые дни. Рефлексы в порядке, хорошо смазанный мозг + подвергнутый тщательному анализу механизм эмоций – все работает как часы. Новые события при недостатке информации неизбежно нарушают привычный порядок; еще сильнее его нарушают следующие за этим события, и тревога все сильнее…
«Анахронизм, – повторяет он за мной и затем, помолчав мгновение, продолжает беспечно: – Может, так и есть, кому какое дело. У нас все хорошо». – «Что мне делать?» – говорю я. «Наверное, лучше вернуться в офис, – отвечает он. – Работать лучше на работе. Или подожди до трех. Если не начнешь работать к тому времени, ты знаешь, что будет».
Он спланировал за меня день, все четко и ясно, поделено на отрезки, столько-то времени на это, полчаса на то, не надо больше ходить туда-сюда по комнате. Я сделаю так, как он сказал. Я всегда буду делать то, что он мне скажет. «Всегда» – слишком сильное слово, лучше таких остерегаться, сама знаешь. А что, если я нашла наконец что-то совершенное? «Всегда», «никогда», «вечно», «бесконечно»: я вечно буду его любить, буду любить бесконечно, никогда не перестану и всегда буду делать то, что он говорит, – можно ли найти более суровую религию? Бог гнева, на веки вечные, неутолимое желание, раскаленный рай. Я, кажется, стала верующей и одновременно перебежчиком, предателем всего, чему так старательно себя учила: не отвергай меня, никогда не оставь меня, желание неутолимо, и пока он любит меня, я спасена.
Я ставлю кухонный таймер на полтора часа. Через полтора часа будет три, я углублюсь в новый договор, эту толстую папку нужно изучить, нужно выработать стратегию. А пока я буду печатать. Мне рассказывали об одной женщине: в тот год, когда она написала свою первую книгу, она жила с мужчиной, и каждый вечер, в 11, он включал телевизор на полную громкость и говорил: «Когда ты уже перестанешь печатать?» Она научилась распознавать переломный момент, когда нужно было прекращать – где-то между двумя и тремя часами ночи – к этому времени он в ярости начинал швыряться стульями, книгами, бутылками.
Печатать. Вставлять бумагу, нажимать на расшатанные клавиши. Более или менее правдивое воспроизведение процесса: все происходит по его воле. Сонная рабыня, сидя на рассвете у ног своего господина, рассказывает мелодичным голосом, будто поет нежную колыбельную, что случилось ночью; небеса озаряются светом, и они, бесконечно усталые, засыпают, раскинув руки.
Быстро печатаю – 50 знаков в минуту? Не так быстро. Можно я стану его секретаршей, брошу свою приятную бессмысленную работу и буду проводить с ним круглые сутки? Беверли, это ее любезный голос отвечает по телефону: «…вышел пообедать, мне, по крайней мере… передать?» Он говорит, она из Квинса, и еще, что «им больше платят на Манхэттене, зачем иначе им тащиться сюда из Квинса». Мое сознание вяло отмечает его слова. И я ничего не отвечаю, но равнодушный, жесткий тон, которым он это говорит, отзывается у меня в животе и между бедер: «Конечно, приходится им больше платить, зачем иначе…» Безликие девушки из Квинса или откуда-нибудь еще, они совсем как я. Я – одна из них. Но любит он МЕНЯ, и МОЯ голова лежит на сгибе его локтя, для МЕНЯ он раскуривает сигарету, осторожно щурясь, и вставляет между моих губ – мой рот приоткрыт и ждет, что он еще в него вставит. Язык, капли вина, свой член, большой палец, кусочек горького шоколада, два пальца или четыре, половинку жареного гриба, язык и снова член. Для МЕНЯ он раскуривает сигарету, огонек которой светится в темноте между моих губ, и наши влажные бедра прилипают друг к другу, и он произносит, тихо, неспешно: «Как иначе заставить всех этих Беверли притащиться из своего Квинса?»
Еще пятнадцать минут, и пора работать. Он так уверенно это произнес, как будто знал, что мне нужно делать, хотя не мог этого знать. «Если не начнешь работать…» Из живота поднимается медленная, сладостная судорога, бедра становятся липкими. Вчера, когда наш ужин подошел к концу, из соседнего окна послышалась дурацкая песенка: ребенок пел весело, шумно, не попадая в ноты. Я крикнула: «Что за надоедливый мальчишка там шумит?» Он засмеялся. Ребенок не услышал меня. …что-то странное, не вяжется совсем с нашей эпохой… Эпоха – семидесятые, середина лета. Не вяжусь с ней я.
К тому времени, как абсолютная предсказуемость каждого моего оргазма стала в моей голове свершившимся фактом, мое тело, конечно, уже давно к этому привыкло. Ошибки быть не могло – этот человек обладал надо мной властью. Каждый раз, когда он возбуждал меня, я кончала – как искусно сработанная заводная кукла. Я давно забыла, каково это – быть не в настроении, не хотеть секса, как будто со мной этого никогда не случалось, как будто я только читала в книгах, что такое бывает. Дело было не в моей ненасытности, а в неизбежности реакции. Он делал то, что делал, и я в конце концов, всегда, без исключения, кончала. Вариации возможны были только в прелюдии.
Я выхожу из туалета, где только что торопливо причесалась, помыла руки, накрасила губы. Повернув за угол и быстрым шагом направляясь в свой офис, я слышу, как одна из коллег отвечает на телефонный звонок. Сейчас 18:15, пару минут назад у меня закончилась деловая встреча. Стоит мне только добраться до своего стола, взять кейс и выйти за дверь, как звонит мой телефон. «Это тебя, радость моя», – произносит веселый голос – это тоже мой коллега, с которым семь лет назад у нас завязалась крепкая дружба после непродолжительного романа, мы начали работать здесь в один и тот же день. Раздается щелчок, и линия переключается. «Пора уже, давай, отель“ Челси”, комната номер…» – «Я даже не знаю, где это», – говорю я. «Ты как будто только что с вокзала». – «Я живу в этом городе столько же, сколько и ты». – «Я знаю, милая, но в этом и проблема – ты в нем по-прежнему не ориентируешься». – «Ориентируюсь, – возражаю я. – Я не обязана знать адреса всех дешевых гостиниц…» Я склонилась над столом, волосы свисают по бокам, как шоры у коня. Я держу трубку левой рукой, а в правой – карандаш, который медленно и аккуратно выписывает крестики вокруг надписи «отель Челси», нацарапанной на картонной обложке блокнота. Овальный венок из маленьких ровных иксов завершен, и я обвожу карандашом первую букву слова «отель», раз за разом. На моем лице застыла улыбка, и голос в трубке доносится обрывками: «…никогда не слышала… не останавливалась?.. любой в Нью-Йорке… достопримечательность. Полчаса».
Водитель такси никогда не слышал об отеле «Челси». Ему удается отыскать адрес в изорванной в лохмотья книге. (Она представляет собой набор разрозненных листов, которые уже не держатся под обложкой, усеянных масляными пятнами и таких грязных, что я удивляюсь, как ему вообще удается что-то на них разобрать.) Ехать недалеко.
Маленький вестибюль заставлен разрозненными предметами мебели, а стены покрыты пыльными картинами, каждой из которых, кажется, не больше двух десятилетий. Кроме меня и портье за стойкой в дальнем конце вестибюля, здесь только женщина, которая сидит на черной скамье с подушками из искусственной кожи, поставленной под прямым углом к камину. Ее изборожденное морщинами лицо кажется маской на крошечной, будто усохшей голове. Высокие каблуки туфель усеяны зелеными блестками. Спущенные клетчатые носки обнажают белые изящные икры, как у юных танцовщиц; в серую твидовую юбку заправлена футболка с логотипом «Никс», на шее висит шнурок с чем-то вроде собачьей бирки. Она читает комикс про Человека-паука, на коленях лежит толстая библиотечная книга – «Птицы Южной Америки». Я с сожалением отворачиваюсь, чтобы не глазеть.
Я выхожу из крошечного лифта в пустынный мрачный коридор и осторожно опираюсь на узорную кованую решетку перил. Вниз уходят ряды лестничных пролетов, кажущиеся в тусклом свете бесконечными. Я резко откидываюсь назад, разозлившись на саму себя. Конечно, там много пролетов, говорю я себе, это 12‑й этаж. …Я стараюсь ступать легко, но мои шаги все равно громко отдаются стуком каблуков по каменному полу. Перед тем, как открыть нужную дверь, я делаю глубокий вдох и чувствую облегчение, когда можно наконец отгородиться от тишины и зияющей пустоты лестницы.
На сей раз никаких свертков на кровати, никакой записки. Крючки из дешевой мелочной лавки, напоминающие те, на которые у себя дома я вешала всякие памятные мелочи, усеивали стены, как жирные мухи, – стены, кстати, давно пора было красить. Белые квадраты под крючками еще больше подчеркивают серость окружающей обстановки: казалось, что кому-то пришлось спасаться бегством отсюда, спешно бежать, и не было даже времени собрать вещи – едва успели сдернуть со стены семейные портреты в дешевых рамках. Мертвый таракан лежит на краю раковины рядом с краном и второй, поменьше, – возле сливного отверстия в ванной.
Я присаживаюсь на одноместную кровать, накрытую рыжим шерстяным покрывалом, и матрас подо мной резко проваливается вниз. Я прислоняю кейс к ноге и, вместо того чтобы спустить с правого плеча ремешок сумки, сильнее прижимаю ее к себе локтем и левой рукой цепляюсь за ремень.
Наконец раздается звонок. «Разденься, – говорит он. – В верхнем ящике лежит шарф, завяжи глаза». В ближнем левом углу ящика аккуратно сложен широкий и тонкий белый платок с узором из маленьких розовых цветочков по краю: я получила его в подарок от друзей на день рождения года три назад. Я снимаю темно-синюю футболку и льняные брюки – я уже отвыкла раздеваться сама, собственными руками.
Дверь открывается. Он запирает ее за собой и, сложив руки на груди, прислоняется к косяку. Я чувствую, как моя улыбка замирает на лице, бледнеет и стремительно тает. Он делает три шага, отделяющие его от кровати, рывком сдергивает покрывало и простыню с моего тела, с кровати и дает мне такую пощечину, что я падаю вбок, раскинув руки. На мгновение я перестаю понимать, что происходит. «Только не плачь, – произносит он вкрадчиво. – У тебя еще будет повод. Это ведь было совсем не сложно сделать».
«Жуткая комната, – говорю я. – Невыносимо было бы сидеть здесь в одиночестве и ничего не видеть». – «Ты, похоже, мало что можешь вынести. Ты вообще что-нибудь в состоянии сделать в мое отсутствие?» – «Я не знала, что…» – «Давай уже. Надоели разговоры».
Я складываю шарф и кое-как стягиваю его на затылке. Он просовывает палец между моей бровью и шарфом, потом еще два пальца; развязывает шарф и переделывает узел. Полоска света из-под нижнего края повязки исчезла. Слышно шуршание целлофановой упаковки, треск рвущейся бумаги, щелчок его зажигалки, и сигарета оказывается у меня во рту. Он складывает мою левую ладонь так, чтобы в нее могла поместиться маленькая пепельница – я чувствую прикосновение холодного стекла. Выкурив две сигареты, я откашливаюсь, открываю рот – но тут раздается стук в дверь. Его шаги по деревянному полу, он отпирает дверь, тихие голоса. Второй голос такой же низкий, как у него, но чем-то отличается – женщина? «Вовремя…» – произносит он, дальше я не могу разобрать: «Хорошо, тогда…» и «…приступай».
Следующие десять минут на меня снова надевают одежду – женщина, теперь я в этом уверена: она постоянно касается меня грудью, большой и мягкой на ощупь. Я все время чувствую неясный запах духов: сладкий, но не приторный; не слишком чувственный, но с явственным оттенком мускуса; и еще вербены. У нее длинные ногти, она ниже меня, она недавно выпила виски, а после прополоскала рот. У нее жесткие волосы, целая копна, они тоже постоянно касаются моей кожи.
Я пытаюсь представить, что за одежду она надевает на меня. Трусы маленькие, из какого-то скользкого материала, резинка немного натирает там, где заканчивается лобок. Она застегивает у меня на голенях молнии высоких сапог. Мои ступни выгибаются – у сапог высокий каблук и толстая платформа. Юбку она натягивает мне через голову и застегивает сзади. Я сминаю ее между большим и указательным пальцами – материал холодный и скользкий, как у резинового дождевика – винил: на мне виниловая юбка, которая заканчивается на уровне кончиков моих пальцев (мои руки свисают по бокам). Бюстгальтер. «Наклонись, солнце, – произносит прокуренный голос игривым заговорщическим тоном. – Давай-ка сделаем, чтоб было красиво». Я наклоняюсь вниз, и она поправляет мне грудь – берет каждую в ладонь, сжимает, притягивает одну к другой и засовывает снизу и по бокам по куску ваты. Когда она позволяет мне выпрямиться, я ощупываю часть, которая выступает из тугого кружева: груди прижаты друг к другу, обычно у меня это бывает только, когда их касаются мужские руки. Мысль о том, что у меня теперь такой экстравагантный бюст, заставляет меня рассмеяться. «Что смешного?» – спрашивает он. «Посмотри только, – отвечаю я. – Представь себя на моем месте. В отеле, с повязкой на глазах, кто-то засовывает твою грудь в узкий лифчик, за который с 12 до 18 лет ты бы душу продала, но мама не разрешила бы. Представь себе эту картину и скажи потом, что тебе не смешно». – «Понимаю», – произносит он.
Тем временем на меня надето что-то вроде майки. Без рукавов, заканчивается в паре сантиметров от пояса, а начинается там, где моя грудь скрыта жестким кружевом. Виниловая мини-юбка, размышляю я, майка, из которой все вываливается, сапоги на платформе – да я проститутка.
Времени решить новую загадку у меня нет. С глаз снимают повязку. Передо мной в тусклом угасающем свете громоздится гигантский светловолосый парик в духе Долли Нортон, венчающий лицо с густо накрашенными глазами и глянцево мерцающим темно-коричневым ртом. Черная прозрачная майка с вырезом, обнажающим огромный бюст в кружевном лифчике; лиловая виниловая юбка до середины бедра, лакированные сапоги – это мой близнец: мы, в своих одинаковых нарядах, как соперницы в каком-то непонятном конкурсе. Я молчу.
Каждый из нас неподвижен. Только когда я сажусь на скрипучую кровать, сформулировав наконец вопрос, он произносит: «Сделай остальное».
Остальное – что занимает почти полчаса – это парик, такой же, как у нее, и щедрый слой косметики: баночки, тюбики и кисти она извлекает из позолоченного ящичка, а тот, в свою очередь, из недр огромной сумки. Несмотря на все усилия, ей не удается приклеить к моим векам накладные ресницы. Я никогда этого не делала и не могу ей ничем помочь – мои веки каждый раз начинают истерически трепетать. Тогда она покрывает мои собственные ресницы комьями туши, дает высохнуть первому слою (хлопочет между тем над моими веками с баночкой переливчатых зеленых теней) и накладывает второй, потом третий. Сильно нажимая, она обводит мои губы коротким твердым карандашом, а потом заполняет пустующее пространство своей темно-коричневой помадой и покрывает густым слоем «вазелина». Немного ударов и уколов своей огромной расческой по моему парику, и она произносит, довольная своей работой: «Пора посмотреть, что получилось, дорогая, зеркало там». Я бросаю взгляд на него. Он сидит на единственном в комнате кресле, закинув ногу на ногу, руки в карманах. Он молчит. Я медленно иду к двери в ванной, на которой висит зеркало: узкая косая трещина на нем ограничивает равносторонний треугольник в верхнем левом углу.
От того, что я увидела в зеркале, обычно отводят глаза, находясь в компании, или бросают быстрый и незаметный взгляд, если уверены, что их никто не видит: проститутка с Восьмой авеню. Не очаровательная ночная бабочка из парижского кафе, как в «Нежной Ирме», но жуткая, грубо размалеванная уличная нью-йоркская шлюха, в дешевом парике и с ухватками свободолюбивых 60‑х, готовая одновременно обслужить клиента и обчистить его бумажник; женщина, которая в сюжете об очередной облаве в шестичасовых новостях закрывает лицо пластиковой сумкой.
Я оборачиваюсь к ним… «Я не могу даже развернуться и уйти, – думаю я, – не в таком же виде…» Мы трое смотрим друг на друга в этой жалкой маленькой комнате: проститутки-двойняшки и расслабленно откинувшийся в кресле чисто выбритый человек в темно-синем костюме в тонкую полоску, накрахмаленной розовой рубашке и галстуке в маленький белый горошек. «Ты прекрасно выглядишь, дорогуша», – говорит одна проститутка другой. «Я плачу тебе не за то, чтобы ты разговаривала», – дружелюбно отзывается человек в кресле. «Тебе что, не нравится? – настаивает проститутка. – Ты разве не так хотел?» – «Ты же не из спортивного интереса это делала, – говорит он, так же любезно. – А этот наряд не стоил и трети того, что ты за него запросила». – «Сложно, между прочим, найти шмотки, которые совпадали бы точь-в‑точь, да и с размером проблема…» – «Всем хочется поболтать, кроме меня», – произносит человек. «Раздень меня. И сегодня можешь не торопиться, у нас полно времени. А ты сядь и смотри: у профессионала можно набраться опыта, тебе есть чему поучиться».
Я как будто приросла к этому куску истертого пола перед дверью в ванную. Она начала раздевать его (я никогда не заходила дальше верхней пуговицы на рубашке) привычно и умело, как мать раздевает маленького мальчика, чтобы искупать, а тот слишком устал после дня, проведенного на улице, и просто стоит и ждет, когда она наконец бросит на пол грязную одежду, опустит его в ванну, а потом – пижама и спать.
Он ложится на спину и говорит (глядя не на меня, а на женщину рядом с ним): «Быстро села в кресло, хочешь, чтобы я за тебя это сделал?» Я машинально иду на другой конец комнаты и сажусь. Машинально смотрю, как она залезает на продавленную кровать, как опускается на колени у него между ног. Я не могу сдержать дрожь, даже плотно сдвинув колени и прижимая костяшки пальцев к зубам. Юбка колом задирается наверх, обнажая черный треугольник трусов и ее зад. Несколько секунд меня занимает только безупречная белизна ее кожи, а сознание отмечает с удивительной объективностью и даже с вежливым изумлением, какие интересные формы могут принимать подобных размеров ягодицы. Пышные желтые кудри ее парика откинуты назад и возвышаются между ее лопаток, нависая облаком там, где сходятся его ноги. Сначала слышны только сосущие звуки, потом он делает резкий вдох и издает стон. Мне хорошо знаком этот звук. Я воображала, что он принадлежит только мне, что это как выигрышный лотерейный билет, как поощрение, комплимент моему таланту и умению… Мои прижатые к щекам кулаки покрылись серыми разводами потекшей туши. Ее рука у него между ног, голова опускается и поднимается долгими неторопливыми толчками. «Да, вот…» – шепчет он и потом: «Господи…»
В моем кулаке выдранный клок желтой мочалки, вся копна соскальзывает назад, и я отбрасываю ее за спину, запуская обе руки в ее тонкие светло-каштановые волосы с отчетливыми прожилками серого. «Что за…» Она подскакивает; мешанина тел, и он уже сидит на краю кровати, перекинув меня через левое бедро, правым зажав мои колени; левой рукой он приковал мои запястья к пояснице. Он задирает скрипнувший винил и говорит: «Передай мне ремень», просовывая палец между моей кожей и эластичной тканью и спуская жесткую резинку трусов мне на бедра.
Я стискиваю зубы – мне в новинку ощущение слепой ярости и злости. Не буду, не буду, пусть бьет меня, не останавливаясь, я звука не издам… Учительница во втором классе говорит угрюмому мальчику, который выше и крупнее всех нас – когда он роняет карандаш или даже ничего особенного не делает: «Пусть твой отец положит тебя к себе на колени, спустит штаны и научит уму-разуму». Она говорит это беззлобно, и становится жутко от беспечности ее тона; раз в неделю волна смущенных смешков поднимается в притихшей классной комнате, и 28 детей склоняют головы над партами с непреодолимым чувством стыда, который они сами не смогли бы себе объяснить. Я не вспоминала об этой учительнице и о чувстве разложения и удушья, которое она во мне пробуждала, с тех пор, как в третьем классе перешла в ведение грубоватой мисс Линдли. А теперь вот омерзительная картина во всей своей полноте. Она унизительнее всего того, что он делал со мной до сих пор. Все остальное – быть прикованной к кровати, скрючиваться на полу в наручниках и цепях – нежные ласки по сравнению с этой принудительной близостью двух тел, когда висишь вот так, задом кверху, будто на блюде, слушая, как кровь с шумом приливает к голове…
И конечно, в конце концов я издаю громкий вопль. Он останавливается, но не отпускает меня. Прохладной ладонью он осторожно поглаживает мою кожу, пальцами прослеживая линии от ремня; ладонь нежно проскальзывает между моих бедер, от коленей и выше, и снова вниз, и опять, медленно, вверх. «Дай мне“ вазелин”, – произносит он, – и держи ее руки». Он раздвигает мне ягодицы и пальцем надавливает на анус; ладонь у меня между ног, один скользкий палец легко входит между сомкнутыми губами. Я напрягаю каждую мышцу. Я пытаюсь сосредоточиться на желтых спиралях, которые вращаются у меня перед глазами на черном фоне плотно сжатых век, я стискиваю зубы, ногти впиваются в ладони. Отчаяние сильнее, чем в первый раз, когда он ударил меня. Я не вынесу, только не так, пожалуйста, не надо… Мое тело начинает поддаваться под медленно нарастающим давлением, вынуждающим меня жадно изгибаться на его ладони. «Ты думаешь, что знаешь, чего тебе хочется, милая, – почти шепчет он мне на ухо, – а все равно делаешь то, чего хочет твоя п…да» – яростный толчок. «Заткни ее», – говорит он, и мой рот накрывает ладонь, пахнущая духами, в которую я впиваюсь зубами, сильно, как только могу. Теперь у меня между зубов скомканный шарф, и кто-то крепко держит его, тяжело дыша у меня над правым ухом. И снова у меня во рту ничего нет, его руки ласкают меня – на сей раз мое тело уступает гораздо быстрее. «Пожалуйста, я не вынесу, пожалуйста, дай мне кончить» сменяется после очередного толчка простым «пожалуйста…» – Меня швыряют на кровать, всхлипы, заглушенные подушкой, кажутся далекими даже мне самой, меня касается язык. Подушки больше нет, надо мной его лицо, но язык все еще там, внизу, исторгает из меня стоны. Моя голова у него на плече, он растянулся рядом во всю длину своего тела, крепко прижав меня к себе рукой, пальцы приложив к моим губам, она сидит на нем верхом. Мы с ней совсем рядом друг с другом, мы смотрим друг другу в глаза, когда он кончает.
Я еду в метро, сижу в углу вагона. Прошло всего два месяца, чуть больше девяти недель, вот уже два месяца, как я потеряла контроль над собой. Напротив меня – мальчик, кудри падают на круглый лоб, рубашка расстегнута, в руках он неподвижно держит раскрытую книгу. Я неподвижно смотрю на него, мое тело кажется мне вязким, текучим. Он тоже смотрит на меня, пару раз пытается улыбнуться. Я сжала руки на коленях, одной ладонью обхватив другую. Я смотрю без улыбки. Я сознаю свою новую власть – и мальчик через проход от меня тоже. Не новая, конечно, даже, наверное, древняя, просто я никогда о ней не подозревала; власть уходить.
Я схожу на станции Вест Форс. Мальчик вытягивает шею. Открывает рот, когда я оглядываюсь на него, резко вскакивает, неловко бросается вперед, но двери уже закрылись.
Парнишка в метро тоже почувствовал это, через меня. Это, наверное, сочится из моих пор. За последние два месяца я каждую ночь узнавала о себе что-то новое, и подводное течение становилось сильнее с каждым часом; руки прижаты к кровати над головой, прерывистое дыхание, и в голове тикает: «Что-то новое». Новая власть: уязвимость, порочная разве что в силу своей безусловности, и тем не менее естественная, как трава или как асфальт в Нью-Йорке. Уходить. Возьми меня, все что угодно, сделай это, все, что угодно, возьми меня, все, что хочешь, убей меня, если захочется этого. Но только сначала привяжи меня. Посмотри, мои глаза закрыты, на моей щеке следы твоих пальцев, влажные волосы лежат там, где упали, когда голова откинулась на подушку. А лучше расскажи мне сначала, как будешь бить, расскажи шепотом, пристегни наручники к ножке стола и корми меня, скорчившуюся на полу. Я буду брать тебя в рот между кусочками печеной трески и жареной картошки, а ты – медленно приставлять стакан с вином к моим губам, пока оно не потечет по языку. Мои глаза закрыты, и тебе приходится определять, как близко поднести бокал, на меня нельзя рассчитывать. Вино течет по подбородку, и никто не вытирает его, а дальше, и одному богу точно известно, что будет дальше: толстые шрамы и сдавленный крик – в первый раз. Ты касаешься шрамов, я смотрю, как твой член снова растет, я смотрю, как ты касаешься шрамов, и чувствую, как он снова растет, мы не отрываем глаз друг от друга.