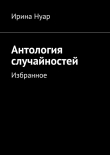Текст книги "Гентианский холм"
Автор книги: Элизабет Гоудж
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава IX
1
Доктор не принадлежал к числу тех людей, которым нравится баловать молодежь, но тем не менее он уложил Захарию в постель и продержал его там несколько дней. Захария особенно не возражал, так как стоило ему пошевелиться, как сразу появлялись боли в ногах. К тому же ныла голова, и он ощущал общую разбитость и такую дикую усталость, о какой и не подозревал раньше. Он лежал неподвижно и часто спал, просыпаясь только тогда, когда его будил Том Пирс, тыча юношу своим большим крючковатым пальцем в ноющую грудную клетку и пихая ему под нос поднос с едой и питьем, или когда приходил доктор осматривать его ноги.
Несмотря на сонливость, Захария постепенно стал свыкаться с тем, что его здесь окружало. Странно, но обстановка не смущала его, не казалась ему чужой. Он почти узнавал ее. Такое бывает, когда человек хочет и способен стать частью того, что существует вокруг него. Изнуряющая, казавшаяся бесконечной борьба, во время которой он пытался отогнать от себя чужие страхи, довлевшие над ним, наконец-то закончилась. Теперь все его устраивало, ему не от чего было отшатываться в ужасе. Каждый нерв в его теле, измученный постоянным напряжением, наконец-то получил отдых и расслабился.
Его комната, небольшая по размерам, располагалась как раз над крыльцом дома. Кровать оказалась низкой, узкой и жесткой. Мебели почти не было, не говоря уж о картинах – голые выбеленные стены. Но зато вокруг была необычайная чистота, а грубые белые простыни пахли розмариновым кустом, на который они вывешивались для просушки. На открытом окне висели сине-белые занавески с шахматным узором, и в комнату свободно врывались все сельские звуки, будь то шелест ветра в ветвях деревьев, шум дождя, удары церковных курантов, стук лошадиных копыт, петушиное кукареканье и квохтание куриц или, наконец, смех сельских ребятишек.
Дом содержался в образцовой чистоте, и даже запахи здесь были какие-то чистые: аромат свежеиспеченного хлеба, антисептиков доктора, табака, желтого мыла или мастики, которой Том Пирс натирал полы.
Том Пирс тоже был по-своему замечательным человеком. Достаточно было бросить на него мимолетный взгляд, как сразу становилось ясно, что он был моряком раньше, оставался сейчас и останется им до конца своих дней. И только из любви к доктору Крэйну он вот уже который год соглашался топтаться на суше. Это был настоящий морской волк, редкий, почти вымерший сейчас тип. Про таких в газетах пишут: «Каждый волосок с его головы – канатная нить, каждый зуб – гвоздь марлиня, каждый палец – рыболовный крючок, а кровь – старая добрая стокгольмская смола!»
У него были по птичьи круглые и яркие голубые глаза, светившиеся на сморщенном, чисто выбритом лице, красноватый и рябоватый нос и большой смеющийся рот, в котором недоставало половины зубов. Этот рот всегда походил на полумесяц рожками вверх, когда старик пребывал в добром расположении духа, что бывало весьма часто. Он до сих пор одевался, как моряк: длинные и свободные расклешенные книзу синие штаны, синяя куртка-безрукавка с латунными пуговицами и канареечного цвета жилетка. Он заплетал волосы косичкой и ходил валкой походкой бывалого моряка.
Захария считал, что Том Пирс принадлежит не прошлому, а настоящему, ибо добродушие, в которое старик был погружен, словно вишня в сахар, относилось к нынешней жизни, а не к той, морской. На других кораблях, возможно, у кого-нибудь и получилось бы стать таким же жизнерадостным, но только не на корабле Захарии. Поэтому юноша проникся к Тому Пирсу симпатией, которая не оставалась безответной. Во времена своей службы Том был канониром и присматривал за «господчиками», поддерживал в порядке их одежду, всячески возился с ними. В нем сидел прирожденный материнский инстинкт. Он получал удовольствие, ухаживая за Захарией, и называл его «молодым джентльменом».
Но однажды вечером Захария неожиданно проснулся и обнаружил, что у него совсем не болит голова и окончательно прояснилось сознание. Некоторое время он лежал неподвижно и размышлял. Он знал, что доктора сейчас нет дома, а Том работает в саду, прямо за окном. Наконец Захария принял на кровати сидячее положение, осторожно откинул одеяло со все еще болевших ног и опустил их на пол. В ночной рубашке доктора с великим множеством всевозможных оборочек он выглядел довольно комично.
– Том! – крикнул он. – Куда ты дел мою одежду?
– Одежду?! – переспросил Том из сада и презрительно сплюнул. – Те лохмотья, в которых ты у нас появился, ты называешь своей одеждой?! Этим тряпками я даже кухонный пол драить побрезговал бы! Одним словом, мы их сожгли.
– Мне надо подняться. Что я надену?
Звук ритмичных ударов заступа перестал доноситься из окна, и наступила пауза. Захария ясно представил себе замершего Тома, который стоит и задумчиво скребет рукой затылок. Затем в доме послышались тяжелые шаги старика. Он сразу поднялся в свою комнатенку на чердаке и через пару минут появился оттуда с черным полотняными вещевым мешком, перекинутым через плечо.
– Глупо было бы наряжать тебя в одежду доктора. У него короткие ноги и широкие плечи, а ты, бедолага, похож на чучело, что ставят на огороде наши голодранцы. Длинный, тощий, кожа да кости… Вот тебе мои лучшие наряды – в них я бывало ходил на берег, когда еще не был таким толстым и служил во флоте. Не всякому я доверил бы это, не всякому позволил бы щеголять в моих костюмах, но тебе даю и даже горжусь, что в этом будешь расхаживать ты…
Он развязал свой мешок и вывалил на постель юноши целый ворох поистине удивительных вещей. На корабле Захарии служили задавленные нищетой люди. Им было все равно, что одевать. Что находилось в сундуке у эконома, то и натягивали. Захария даже не подозревал о том, что можно собрать такой блестящий гардероб, если во время увольнений на берег тратить свои деньги не на выпивку и женщин, а на хорошую одежду. Старик, видно, служил долго и обладал изрядным вкусом. Чего у него только не было! Белые парусиновые штаны, полосатые сине-белые штаны, красная рубашка, рубашка в крапинку, жилет в крапинку, полосатый жилет и жилет из пурпурного кашемира. Синяя куртка, желтая куртка. Чулки из прекрасного белого шелка, черные башмаки с огромными серебристыми пряжками. Низенькая шапочка, какие бывают у матросов, с черной ленточкой и гордым названием «Агамемнон», выведенным на ободке. Крашеная соломенная шляпа с ленточками, касторовая шляпа, шотландская беретка и меховая шапка. Три больших платка: красный, желтый и зеленый, чтобы обертывать их вокруг головы на манер тюрбана. И еще два платка из прекрасного черного шелка, которыми повязывались вокруг шеи.
Захария ошеломленно-восторженно смотрел на все эти сокровища.
– Адмирал Нельсон нас баловал, – ностальгически улыбнулся Том. – Ладно, парень. Ну-ка, примерь чего-нибудь.
Но Захария находился в таком смятении чувств, что не был способен сделать выбор самостоятельно. Том стал одевать его, как мать одевает своего ребенка. Он дал Захарии белую рубашку с открытым воротником а-ля Байрон, завязал на шее платок из черного шелка и нарядил его в белые парусиновые штаны, пурпурный жилет, синюю куртку, белые шелковые чулки и башмаки с пряжками. Все это богатство висело на Захарии, как на вешалке, но ремень хорошо стянул этот наряд у пояса, не давая ему свалиться. Затем Том отполировал до блеска башмаки и долго рвал волосы бедного Захарии расческой доктора, – отчего у юноши вновь разболелась голова. Одевание заняло минут пятнадцать и показалось старику Тому весьма утомительным занятием. Но результатом он был удовлетворен.
– Вид у тебя пока еще жалкий, но по крайней мере ты стал похож на джентльмена, – сказал старый моряк. – Я накрою ужин в столовой.
Захария, шатаясь, спустился в кабинет доктора, сел на стул и, глядя в окно, стал ждать хозяина. Он был в этой комнате всего один раз – в день приезда в этот дом, но тогда он находился в таком состоянии, что не смог осмотреться как следует. Теперь юноша внимательно оглядывался по сторонам, задерживая взгляд на корешках книг, на гравюрах с портретами известных людей. Казалось, он физически впитывает в себя чистоту, аккуратность и покой, царившее здесь. Он снова вспомнил те слова, которые так изумили его несколько дней назад. «Я готов назвать его своим сыном», – сказал тогда доктор Крэйн.
Он услышал, как к дому подъехала бричка. Том вышел к ней, распряг Эскулапа и повел его на конюшню. Затем послышались твердые шаги доктора в холле. Дверь открылась, и он вошел в кабинет. Захария с бешено колотившимся сердцем встал со стула и поклонился этому человеку. Доктор мягко положил свою руку юноше на плечо.
– Здравствуй! Что это ты вдруг вскочил?
– Я уже могу ходить, сэр, – кротко ответил Захария.
– Хорошо. Пойду переоденусь и вымою руки, а потом будем ужинать. Едва не опоздал к столу, а есть хочу, как хороший охотник после удачного дня. После еды поговорим. Кстати, ты совсем неплохо выглядишь в одежде Тома!
Том был доволен, что предложил Захарии свои наряды. По такому случаю грех было не предложить. Он поставил четыре зажженные свечи на стол красного дерева в обшитой деревом столовой, две свечи на каминную полку, и принес отменный ужин. Доктор надел свой лучший синий сюртук со свежим цветком в петлице, нацепил монокль и открыл бутылку мадеры и портвейна. Во время ужина разговор велся, в основном, о политике и искусстве. Захария изо всех сил старался не потерять нить беседы, но мадера мгновенно ударила в голову, а портвейн в ноги, и юношу едва не сморило.
Свет свечей, отражавшийся в дереве, блеск столового серебра и роскошная белоснежная скатерть пробудили в его сознании воспоминания о доме в Басе. Возникшие перед его мысленным взором образы были настолько яркими и живыми, что им тут же овладело чувство ностальгической тоски и стало невыносимо трудно унять дрожь в руках. Но он напрягал плечи, стараясь говорить ровно и надеясь на то, что доктор, поглощенный разговором и едой ничего не заметит.
На самом деле доктор все прекрасно видел. Перед ним сидел дружелюбный и общительный юноша. Несомненно, умный, с пылким, хоть и расстроенным сознанием. Он был достаточно развит для того, чтобы постичь один из основных философских постулатов: «Я хорошо знаю, что ничего не знаю». Доктор видел, что юноша чем-то расстроен и тщетно пытается скрыть это. Он смотрел на Захарию и чувствовал ту же радость, которую испытал в тот день, когда крошка Стелла встала у него на крыльце и требовательно попросила рассказать ей о Тригейусе. Тогда он чувствовал в ней что-то особенное. Она показалась ему куском удобного ковкого металла, которому можно придать самую совершенную форму. И он был счастлив стать кузнецом. В случае с Захарией было нечто большее… Он чувствовал, что способен утолить жажду Захарии, а Захария способен утолить его жажду. Доктор боялся думать о том, что у этого мальчика, возможно, нет отца, хотя в этот день, когда он подобрал его после поединка, доктор был почему-то уверен в этом.
В жизни доктору довелось пережить много лишений из-за своего физического безобразия. Но тягчайшим из всех была невозможность жениться и испытать счастье отцовства. Он отлично помнил, словно это было только вчера, ту муку и отчаяние, которые он испытал, когда одна, а затем и другая женщина с отвращением отвергли его предложения. В те дни даже просто видеть детей уже было для доктора страшным страданием, настоящей пыткой.
Доктор поморщился, обнаружив, что пролил вино. Захария такой оплошности не допустил. Значит, юноша на самом деле контролирует себя лучше, чем он, несмотря на то, что очень легко, как видно, поддается воздействию спиртного.
Они снова перешли в кабинет, где Том зажег свечи и развел в камине огонь из веток яблони и сосновых шишек, которые давали приятный лесной аромат. Старый моряк также не позабыл подвинуть стулья поближе к камину. Захария подошел было к жесткому стулу, но доктор заставил его сесть на мягкий.
– Я привык к голой деревяшке, – объяснил он и начал набивать свою трубку. Приминая табак, он улыбнулся одними губами, вспомнив о том смешном аскетизме, которому с таким отчаянием предавался в юности. – Я держу свое тело под строгим контролем. И оно мне подчиняется.
Жесткие стулья, соломенные тюфяки, простая пища, вода, вместо вина, попытки отрешиться от всего телесного, к чему подталкивает природа, и двигаться непрерывно к духовному, интеллектуальному. Что ж, он выиграл эту схватку с природой. Все чувственные страсти он сумел-таки в себе перебороть, все, кроме одной – желания иметь сына. Впрочем, эту страсть нельзя было назвать целиком чувственной. В ней было что-то от вдохновения художника, от бескорыстной Христовой любви.
«Чем привлек меня этот мальчик? Какой чертенок сидит в нем и так манит меня?» – думал доктор.
Что-то было в Захарии такое, что задевало и душу доктора и его сердце.
Доктор закурил, выпустил изо рта дым и стал смотреть на юношу. Головокружение и легкое помутнение, вызванное небольшим стаканом мадеры и наперстком портвейна, улеглось. Самочувствие Захарии заметно улучшилось. Хорошая еда и тепло от камина приободрили его. Но он не мог расслабиться на этом мягком стуле. Он был весь напряжен. Сидел, сцепив на коленях руки, пытаясь выдавить из себя какие-нибудь слова. Наконец, он смог произнести их:
– Спасибо вам, сэр, за вашу доброту. Я уже совсем поправился и больше не имею права злоупотреблять вашим гостеприимством.
– И куда же ты думаешь отправиться, мой мальчик? – спросил доктор. – У тебя есть дом?
– Нет, сэр. Но я вполне способен найти себе работу. Я уже находил раньше…
Он произнес последние слова почти с вызовом, отчего доктор улыбнулся. Ему понравилось это упрямство.
– Да, находил. На мельнице, не так ли? Но знаешь, мне кажется, что эта работа не совсем для тебя, и поэтому я тебе хочу сделать одно предложение, Захария. В моем холостяцком доме много свободного места. Общество молодого человека мне по душе. И Тому тоже. Оставайся у нас. По крайней мере, до тех пор, пока нам не удастся подыскать тебе занятие поприличнее работы на мельнице. И потом ты сам сказал, что у тебя нет дома. Попробуй рассматривать мое жилище в качестве своего временного дома. Думаю, у тебя получится. Родители твои живы?
Он задал свой вопрос как бы мимоходом, небрежно пуская перед собой кольца дыма. На самом деле никогда еще он не ждал ничьего ответа столь тревожно и страстно. Волнение переполняло его. И когда Захария отрицательно покачал головой, доктор едва не закричал от радости, хотя понимал, что речь, возможно, идет о преждевременной смерти прекрасных людей.
– В таком случае, можешь считать меня своим отцом до тех пор, пока будешь нуждаться в моей помощи.
Захария весь напрягся. Значит, тогда, несколько дней назад, в кабинете высокого господина, он не ослышался… Он покраснел до корней своих волос. В горле что-то разбухло и мешало дышать. Захария сидел на своем стуле, боясь взглянуть в глаза доктору, и только судорожно сжимал и разжимал пальцы.
Вместе с тем он понимал, что должен посмотреть на доктора. Должен сказать что-нибудь. Он медленно поднял на мужчину глаза, их взгляды встретились, и в это мгновение доктор Крэйн понял, что за чертенок скрывается в Захарии… Сотни раз в своей профессиональной практике доктор видел этот взгляд человека, избавлявшегося от страхов и вздохнувшего с облегчением. Но никогда еще доктор не видел этого взгляда таким обнаженным.
– Не надо меня благодарить, мальчик, – легко проговорил он. – Мне это необходимо так же, как и тебе. Думаю, мы с тобой прекрасно уживемся и утрясем все неясности. Ты можешь рассказать о себе, что считаешь нужным и когда захочешь. Можешь вообще ничего не рассказывать, – как тебе понравится. Тебе придется жить с ворчливым врачом-холостяком, но я, по крайней мере, буду уважать твою скрытность и сдержанность.
– Я хочу рассказать вам все, сэр. И немедленно, – проговорил Захария. – Вам лучше знать все до конца.
– Что ж, хорошо, – сказал доктор, откинулся на спинку своего стула, закинул ноги на каминную решетку и, как это умел только он, весь превратился в вежливое внимание.
Захария заговорил. Поначалу как бы с неохотой, спотыкаясь через каждое слово, но потом все более уверенно, так как видел, что доктор воспринимает его рассказ, составляя в голове на основе его отрывочных фраз более или менее цельную картину, по которой позже можно будет вывести свое суждение. Захария придерживался, в основном, голых фактов, стараясь не преувеличивать жестокости людей и собственных страданий, не жалея себя и пытаясь оправдать доверие доктора.
– Я… дезертировал, – проговорил он в конце, сделав после первого слова мучительную паузу, которая сказала доктору все то, что он уже и так знал: чертенок Захарии в честной схватке победил его.
Только в двух местах из своего рассказа Захария как бы споткнулся. Интуитивно доктор почувствовал, что юноша что-то не договаривает. Что-то случилось с Захарией в часовне и на холме Беверли. А, может, он просто не умел это описать?.. Если так, то лучше пусть никогда и не пытается описать эти случаи, в которых был приобретен первый юношеский опыт, эти пробные предчувствия вечных ценностей… Пытаться облекать это в слова – значит, смешить народ. Однако это, видимо, были самые важные события для становления его личности и его судьбы.
И еще один раз во время своего рассказа Захария проявил некоторую сдержанность. Он не мог честно рассказать доктору о том, что значила для него Стелла. С одной стороны, она казалась слишком драгоценным сокровищем, чтобы разменивать на нее простые человеческие слова. С другой стороны, Захария едва сам понимал, что же все-таки произошло между ним и Стеллой.
Все же доктор понял юношу. И не просто понял, а проникся с той минуты глубоким уважением по отношению к Захарии. Он понимал, что юноша, который мог так влюбиться в еще по сути совсем девочку, не относится к тем, для кого любовь – временная глупость. Точно так же все было и с ним самим в молодости. Теперь он вспоминал об этом с мрачной гримасой на лице. Первой его любовью была взрослая женщина. Это было безумное увлечение. Тогда юный Крэйн совсем потерял голову. Вспомнив об этом, он вспомнил и о том, как горевала о Захарии Стелла. Должно быть, она до сих пор скучает. Юноше, видимо, удалось произвести на нее самое глубокое и серьезное впечатление. Возможно, настолько серьезное, что уже ничто в жизни не сотрет его из памяти Стеллы.
«Позвольте мне не препятствовать браку истинных душ».
Доктор решил сделать для детей все, что от него могло зависеть. Но в то же время он понимал, что сейчас, в пору опасностей и войны, в жестокую эпоху слабые ростки любви легко могут быть вырваны обстоятельствами с корнем, так и не успев зацвести…
Захария наконец закончил свой рассказ. Доктор вздохнул, переполненный отцовскими чувствами и, прежде всего, отцовской любовью.
Захария тоже был встревожен, ожидая реакции доктора на свой рассказ. Но это была другая тревога. Молчание старика он расценил, как его отношение к тому, что Захария дезертировал. Что делать, если доктор вдруг велит ему возвратиться во флот?.. В голове у юноши царила настоящая сумятица. Как и тогда в часовне, весь он внутренне преисполнился потребностью бросить вызов:
«Я не могу, сэр! Честное слово, не могу вернуться туда! Это невозможно… Я физически не вынесу этого! Понимаете, физически не вынесу!..»
О, Господи, неужели он выкрикнул эти слова вслух?.. Он изо всех сил сцепил руки. На висках выступили капельки пота.
– Ты уже придумал, Захария, чем теперь будешь заниматься? – мягко спросил доктор.
Захария заметно расслабился. Слава Богу, значит, у него хватило ума не выкрикнуть те слова вслух.
– Да, сэр. Я хотел бы стать пастухом на хуторе Викаборо.
Доктор Крэйн был изумлен. Этот умный мальчик хочет быть работником на ферме?.. Впрочем, возможно, ему лучше знать, как занять себя в сложившихся обстоятельствах. Доктор чувствовал, что, отводя овец попастись на холмы, Захария, возможно, найдет себе покой и исцеление. Он очень нуждается в этом, ибо впереди его неизбежно ждет еще не одна схватка со своим внутренним чертенком.
– Но насколько я понял, Захария, ты уже предлагал свои услуги фермеру Сприггу, которые тот с негодованием отверг, так ведь?
Захария улыбнулся. Он был так рад, что доктор не стал требовать от него возвращения во флот, что почувствовал даже легкое головокружение.
– Да, сэр. Но тогда я был одет, как настоящее чучело.
– А сейчас в этом наряде Тома Пирса ты похож, если честно, на какую-то заморскую и экзотическую птицу.
– Может быть, сэр… – осторожно начал было Захария.
– Хорошо, дружок. Завтра мы с тобой поедем в город и оденем тебя так, чтобы ты смог произвести на отца Спригга самое благоприятное впечатление. В новом одеянии ты пойдешь туда и снова попытаешь счастья. А теперь, как личный врач, я настоятельно рекомендую своему пациенту вернуться в постель, хотя, как отец, мог бы говорить здесь с тобой до полуночи.
Захария поднялся, посмотрел на доктора, попытался найти какие-то слова благодарности, но не смог и только пробормотал:
– Спокойной ночи, сэр.
С этими словами он поклонился Крэйну и вышел из комнаты.
Доктор Крэйн еще некоторое время неподвижно сидел на своем стуле. Глаза и лицо юноши все еще живо стояли перед его мысленным взором. Наконец он вышел из оцепенения, улыбнулся и сделал глубокую затяжку. Он чувствовал, как удовлетворение и довольство растекается по всему его телу. Капризной судьбе иногда приходит в голову эксцентричное желание положить человеку на рану немного целебного бальзама. Причем ощущения настолько приятны, что человек радуется самому существованию этой раны, ибо без нее не было бы и бальзама…
Доктор думал, что если бы он и получил возможность иметь родного сына, то единственным его желанием было бы, чтобы тот во всем походил на Захарию… Не каждый отец может похвастаться таким ребенком…
Впрочем, доктор Крэйн не верил в капризную судьбу. Он был убежден в том, что жизнь человека – это искусно сотканный узор, в котором нитка боли всегда сплетена с ниткой радости…
2
Вот уже несколько дней на хуторе Викаборо было не все благополучно. Обстановка медленно накалялась и наконец взрывоопасность ее достигла критической точки. Все это было связано с упрямством Джека Крокера, помощника старины Сола. Работа их состояла в том, чтобы боронить на воловьей упряжке фермерские поля. Для того чтобы животные шли веселее, работники должны были им петь. Сол вытягивал «работную» песню басом, а Крокеру полагалось подпевать ему тенором. Беда была в том, что Джек пел всегда фальшиво. Хуже было то, что он и не пытался исправиться. Самое обидное заключалось в том, что у мальчишки был прекрасный музыкальный слух. «Капли бренди», например, он насвистывал, что твой певчий дрозд. А когда он затягивал «Испанские леди», – песня посвящалась свиньям, которых разводили на ферме, – шум на старом лугу стоял просто оглушающий.
Однако песня «для плуга» не привлекала его ничем. Он говорил, что от нее у него болит живот. Джек был земным человеком до мозга костей, поэтому, когда Сол клал руки на плуг и поднимал свое морщинистое лицо к небесам, затягивая песню, Джеку действительно становилось не по себе. Он говорил, что эта песня выворачивает ему кишки. Дух его восставал против этого, и он либо вообще отказывался подпевать Солу, либо по своему детскому злорадству специально фальшивил. Вообще это был невыносимый мальчишка. До корней волос он был пропитан городским духом и плотскими устремлениями. Он часто говорил, что бросит хутор и уедет в Плимут, где устроится на работу к дяде в мясницкую. Отец Спригг всегда отвечал на это:
– Ну и катись с глаз долой, чертенок!
Однако Джек никуда не катился. Он говорил, что на хуторе его держат поросята. Действительно, с ними он обращался весьма ловко. Должно быть от того, что здорово походил на них характером. Отчасти это обстоятельство не давало ему бросить ферму. Но основная причина была в другом. Джек, как и Спригт, как и все девонширцы, был в душе очень оседлым человеком. Он относился к тому типу людей, которые сегодня живут, как жили вчера, и завтра будут жить, как живут сегодня. Каждая перемена воспринималась им как перемена к худшему.
В отличие от отца Спригга Сол сносил все выходки Джека с удивительным терпением и добродушием. За исключением этой истории с «работной» песней. Тут его гнев во много раз превосходил гнев отца Спригга. Отец и матушка Спригг, Мэдж и Стелла даже тревожились, видя, как беснуется в такие минуты Сол. Все-таки старик… А вдруг что случится?..
– Ничего, я чувствую, что скоро эта беда как-то разрешится, – говорила, успокаивая себя, матушка Спригт.
В середине октября, в одно прекрасное утро, эта проблема действительно разрешилась. Причем навсегда и как нельзя лучше.
Тот памятный борцовый турнир проходил серым спокойным днем, за которым наступила ветреная ночь и дождливое утро. Затем наоборот подули суховеи, и наконец к середине октября полуакровое поле на склоне холма Таффети оказалось как раз в том состоянии, когда его можно боронить и потом сеять там овес на осенний урожай.
Красивые быки, – Моисей и Авраам, – были запряжены в такой же красивый плуг, сделанный за два десятка лет до этого плотником с Гентианского холма, работником, который славился на всю округу своим мастерством в подобных вещах. Быки, старик и мальчишка Джек отправились на холм Таффети, провожаемые взглядом матушки Спригг и Мэдж. Взгляды их были преисполнены самых мрачных предчувствий, так как всем было видно, как прыгают в глазах Джека злорадные бесенята и как насупился Сол. Все это не предвещало ничего хорошего.
Стелла тоже заметила все это, но ничто не могло испортить ее чудесного настроения, и сердце девочки пело, словно птица. Целую неделю она не выходила из дома из-за дождей и простуды. Дожди миновали, простуда прошла. Утро сегодня было просто замечательное. Итак, душа ее пела, а сама Стелла не ходила, а пританцовывала на носках, помогая матушке Спригг заправлять постели. Потом в глазах у нее сверкнули искорки безумной радости, а на щеках появились очаровательные ямочки. Ей надоело изображать из себя благопристойную леди. Она схватила подушку отца Спригга, набитую гусиным пухом, швырнула ее на середину спальни и сделала на ней стремительный кувырок.
– О, Господи! – пораженно выдохнула матушка Спригг.
В это же самое время Захария как раз шел вверх по склону холма от деревни в сторону хутора Викаборо. На нем был не пестрый, но хороший костюм: брюки, кожаные гетры и пальто из грубой ворсистой шерсти. Волосы его были коротко пострижены, а на груди был расстегнут ворот одной из рубашек Тома. Шел он легко и быстро, что-то беззаботно насвистывая под нос. Но на самом деле он был отнюдь не так уверен в себе, как хотел показать. Когда он в последний раз уходил из Викаборо, то дал себе слово, что вернется. Именно это он сейчас и делал. Только не рано ли? Заслужил ли он это возвращение за такой короткий срок?
Наконец Захария достиг вершины холма, где тянулся длинный забор, обозначавший границу земли отца Спригга на севере. Он прошел в ворота, и прямо перед ним открылась долина Викаборо. На запад тянулись болота, на восток – море. Он смотрел на все это сверху вниз, как любили, бывало, смотреть Стелла и Сол.
В последнее время погода посуровела, западный ветер был прохладным и гнал по небу облака, словно стадо белых барашков. Тени их проносились внизу по фермерским угодьям. Но красота была все такая же ослепительная, как и прежде. Захария стоял на месте, полной грудью вдыхая животворящий ветер, и чувствовал, как прохладные его струйки забираются ему под одежду, ласкают кожу. На душе было так хорошо, что юноша не удержался от громкого восторженного крика.
О, Боже, какое раздолье, какая свобода!.. Как хорошо кричать от радости, когда тебе этого хочется. Как хорошо чувствовать, что тело вновь наливается здоровьем и силой. Как хорошо карабкаться вверх по склону на крепких и ловких ногах с уже полностью зажившими синяками и ссадинами. А если радость эта мимолетна, так что же? Надо жить настоящей минутой, как живут чайки, надо кричать от счастья, как кричат чайки, приветствуя солнце и ветер.
Стайка чаек как раз пронеслась вниз над соседним холмом.
Крылья птиц блестели на солнце, а ветер подхватывал их крик, который парил волнами над землей, то громкий, то тихий, сливаясь с другими звуками – мелодией льющейся песни и позвякиванием сбруи воловьей упряжки. Захария прислушивался к доносившейся до него песне. Эта мелодия казалась настолько созвучной со всем, что его окружало в ту минуту, что сначала он подумал было, что это часть природной музыки, и ее создает не человек, а ветер, солнце и земля. Ему показалось, что эта мелодия гармонично сливается из огромного множества звуков: лепета ветерка, шелеста древесных крон, шевеления трав и шепота перекатывающихся по земле опавших листьев.
Захария стал медленно спускаться по холму, и мелодия стала нарастать, приближаться. Она заворожила его, погрузила в благоговейное молчание и покой. Эффект был совсем такой же, как от хоровых песнопений и звона колокола Санктуса, который он слышал в детстве, отстоявшем от сегодняшнего дня, казалось, на целую вечность.
Впереди показался еще один забор. Из-за него и доносилась эта божественная музыка. Захваченный ее очарованием, Захария медленно, словно лунатик, шел вперед, ничего вокруг себя не видя. Вдруг в стройную гармонию ворвался фальшивый звук, который вспорол ее словно кинжалом. Захария вздрогнул. Музыка прервалась, и тут же послышались отчаянные ругательства. Это внезапно, но быстро опустило замечтавшегося юношу на землю. Он бегом бросился по тропинке, которая вела к воротам в заборе. Захария запрыгнул на ворота, и глазам его открылась забавная картина. Он перекинул через забор ноги, уселся поудобнее и стал от души хохотать, невидимый на своем месте участниками комедии, которая разыгрывалась на его глазах.
Перед Захарией раскинулось поле, полувспаханное упряжкой быков, которые тянули за собой большой плуг. Быки в данную минуту стояли на месте. Рядом с ними стоял старик работник, сутулый и изогнувшийся точно карликовое дерево.
На смуглом от загара морщинистом лице болтался клочок грязной седой бороды, словно лишайник на коре яблони. Старик лупил по мягкому месту мальчишку, которого как в тисках зажал между ног. Ярость словно омолодила старика. Удары обрушивались на мальца с удивительной силой, на которую внешне этот старикашка казался неспособным. Звук ударов перекрывался громкими проклятьями, которые заглушали даже жалобное нытье жертвы.