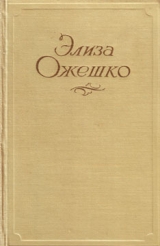
Текст книги "Юлианка"
Автор книги: Элиза Ожешко
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Но как-то вечером в трескучий мороз девочка оказалась в безвыходном положении. Гладильную мастерскую заперли раньше обычного, Юлианка даже не заметила – когда; к музыканту она стучалась, но он, как видно, не слышал – спал или, может быть, не в силах был подняться, чтобы отпереть; до окна токаря она не могла дотянуться, а скамейку, на которую она становилась, чтобы постучаться, убрали, так как ее заносило снегом. Она бродила от одной квартиры к другой, по колено в снегу, съежившись, дрожа и плача от холода. Так она дошла до флигелька, где жила прачка, и, не думая уже ни об Якубе, ни об Антке, постучалась. Она стучала изо всех сил, потом стала дергать дверную ручку.
– Кто там? – спросила прачка.
– Юлианка, – ответила девочка.
– Боже милостивый! Мороз-то какой! Девочка замерзнет! Анка, открой ей скорей!
Засов отодвинулся, и двери мрачной каморки открылись. Из угла спросонья заворчал Антек:
– Впустила все-таки подкидыша! А если он придет? Что тогда?
Прачка промолчала, и Анка прикрикнула на брата:
– Молчи! Закрой глаза и спи! Если отец придет, я спрячу ее.
– Куда спрячешь? За метлой не поместится! Выросла.
Анка не стала больше пререкаться и, взяв Юлианку за руку, подвела к своему тюфяку.
– Ложись со мной.
Наступившую тишину нарушил голос Анки:
– Мама!
– Ну что еще?
– Я положу возле себя грязное белье, если отец придет, я прикрою ее, чтобы не было видно.
Прачка что-то пробормотала, а Анка собрала ворох белья и придвинула поближе к постели – на случай опасности. Потом все заснули.
Этой ночью Якуб не пришел. Рано утром обе девочки проснулись одновременно и уселись на тюфяке. Анка была на голову выше Юлианки; светлые волосы ее, распущенные как всегда, упали на плечи сиротки, смешавшись с ее черными кудрями. Обе девочки были бледны, на обеих были одинаковые грубые холщовые рубашки. Увидев друг друга в ярком свете морозного солнечного утра, они переглянулись и обнялись… Через час Юлианка выходила из дома прачки с двумя печеными картофелинами, но попавшийся ей на дороге Антек вырвал их у нее из рук и забросил далеко в снег. Сжав кулачки и грозя, обидчику, который был уже далеко, Юлианка что-то яростно зашептала, а потом отправилась искать свои картофелины.
Выпадали дни, когда люди были заняты больше обычного или удручены заботами, больны или чем-то расстроены, и тогда Юлианка не могла обратить на себя их внимание; научившись отгадывать по лицу настроение людей, она и сама старалась не попадаться им на глаза. В такие дни она шла к старой Злотке и молча усаживалась на пороге лавчонки. Старуха относилась к ней ровно: не слишком нежно, но зато всегда жалела ее. Иногда она давала Юлианке булку или баранку, а если было холодно, впускала к себе в лавку и показывала, как согреть озябшие ноги над горшком с раскаленными углями, над которыми и сама грела свои ноги в синих чулках.
Однажды под вечер, когда Юлианка сидела в лавке, забившись в угол, вошел Антек с двумя товарищами-подростками, лет двенадцати – тринадцати. В тот вечер они держались особенно развязно и нахально. Больше всех шумел оборванный мальчишка в дырявых башмаках. Он подталкивал кулаками товарищей и был, очевидно, вожаком и атаманом. Подойдя к прилавку, уставленному бутылками и дешевыми закусками, он залихватски сказал:
– Ципа, водки! По полшкалика на брата!
Злотки не было в лавке, она куда-то вышла. Ее заменяла за прилавком внучка, четырнадцатилетняя девочка с туповатым лицом; она поставила перед мальчишками три рюмки водки. Они выпили; кровь бросилась им в голову, лица стали багровыми. Антек поперхнулся и плюнул.
– Еще по полшкалика! – крикнул атаман, бросив на стойку два пятиалтынных.
– Не буду я, – пробовал отказаться Антек, – мама расстроится…
– Пей! – закричали товарищи.
Они снова выпили, покатываясь со смеху; потом стали гримасничать, кривляться, плевать на пол: как видно, они вошли во вкус и важничали оттого, что удалось выпить.
– Ципа, еще по половинке!..
Из лавки они вышли шатаясь и что-то бормоча. В это время вернулась Злотка и накинулась на внучку:
– Зачем детям водку даешь! Не знаешь, что я детям водки не даю да еще как следует отчитаю, если попросят! Глупая девчонка! На тебя ни в чем положиться нельзя!
– Подумаешь! – огрызнулась Ципа. – А что в этом толку? Если мы не дадим, они пойдут в кабак напротив и там получат водку! Лучше уж нам заработать!
Немного погодя Юлианка ушла из лавки. Проходя по двору, она заметила, что у ворот кто-то лежит. Девочка узнала Антка. В первое мгновение ей стало страшно – как всегда, когда она видела мальчика. Юлианка сначала отпрянула, затем остановилась немного поодаль, не спуская с него глаз. Пьяный Антек спал мертвым сном. Рубашка на груди у него была распахнута, куртка испачкана, голова и ноги лежали в грязи.
– Ну и напился! – промолвила тихонько девочка и подошла поближе, понимая, что сейчас он для нее не опасен, потом прошептала: – Вот теперь-то я тебе колотушек надаю!.. Исколочу!
При мысли о предстоящей мести Юлианка громко рассмеялась. Сжав кулачки и наклонившись к мальчику, она продолжала:
– Вот когда ты на себе почувствуешь, что это такое! Вот как стану я тебя бить, так ты узнаешь, каково это… Натерпелась я… сколько синяков ты мне наставил… а теперь от меня получишь… уж я тебя измолочу, исщипаю, исцарапаю…
У Юлианки горело лицо, глаза сверкали в темноте, губы дрожали. Она все еще сжимала кулачки и уже готова была опустить их на неподвижно лежавшего Антка, как вдруг опомнилась… У нее, очевидно, мелькнула какая-то мысль, она боролась с собой.
– Простить! – шептала она. – Старая пани говорила: «Прости!»
Она раздумывала:
«Если я сказала старой пани: „прощу“, значит надо простить».
И потом опять:
«А хорошо бы сейчас поколотить его…»
Но кулаки постепенно разжались. Девочка вздохнула.
– Нет, – сказала она, – я прощу. Может, я еще увижу когда-нибудь старую пани и скажу ей: «Я простила Антка, не стала его бить!» И она обрадуется…
Склонив набок голову и приложив палец к губам, она еще долго над чем-то думала, потом, внезапно решившись, сказала:
– А еще я помолюсь за него, чтобы он был хорошим и не огорчал свою маму.
Она опустилась на колени. Какое странное зрелище! Покинутый всеми ребенок, в сумерках уходящего дня, на коленях перед пьяным подростком, молит вполголоса, сложив ручонки:
– «Отче наш, иже еси на небесех, да приидет царствие твое!»
В ту пору Юлианке исполнилось семь лет, но на вид ей можно было дать меньше; она росла медленно. Быстро отрастали у нее только волосы, обрамлявшие густыми смоляными локонами маленькое худое личико с бледными губами и огромными угольно-черными главами. Одета она была в старую длинную юбку, которая не покрывала босых израненных ног; из-под старой, полинявшей кофты, когда она распахивалась, виднелась грязная рубашка. Вид у девочки был жалкий, неопрятный, но густые волосы и замечательные глаза, глядевшие на мир с несвойственной ее возрасту задумчивостью, привлекали внимание посторонних людей.
Часто покупатели Злотки, увидев сидевшую на пороге лавчонки девочку, спрашивали:
– Чей это ребенок?
И Злотка равнодушно отвечала:
– Общий!
– Как это «общий»?
– Ничей!
– Общий и ничей! Что же это значит?
На запавших губах старой еврейки мелькала мимолетная печальная улыбка. Покачивая головой, она глубокомысленно изрекала:
– Если ребенок ничей, то должен быть всех, а ежели он всех, то, стало быть, ничей!
Покупатели разводили руками, так и не проникнув в смысл Злоткиной загадки, и тогда ее внучка, придурковатая Ципа, презрительно улыбаясь, объясняла:
– Она подкидыш! Найденыш!
Юлианка всегда внимательно прислушивалась к этим разговорам, а люди, расспрашивавшие о ней, услышав объяснение Ципы, кивали головой в знак того, что теперь им все понятно.
Но однажды…
* * *
Стояла холодная ясная осень. В бакалейную лавку вошла женщина среднего роста, худощавая и стройная, в поношенном суконном пальто, в старой шляпе с выгоревшим, измятым цветком. У нее были большие голубые глаза, маленький рот и лоб в морщинках, над которым вились еще совсем по-молодому очень светлые волосы. Злотка встретила ее любезно:
– Наша новая жиличка! Дай бог счастья, дай вам бог счастья в новой квартире!
– Спасибо, милая, – ответила покупательница и попросила несколько фунтов сахару, пачку чая и немного керосину для лампы.
Лавочница, отвешивая и отпуская товар, завела, по обыкновению, разговор с покупательницей.
– Вы к нам надолго? – спросила она.
– Как бог даст, мне хотелось бы подольше пожить здесь…
– А уроки вы уже достали?
– Достала несколько. Но если вы услышите случайно, что кому-нибудь нужна…
– Знаю… знаю… мне два раза повторять не надо… Я-то уж не забуду… А мебель, которую я рекомендовала взять напрокат, понравилась вам?
– Хорошая, очень хорошая, мне лучшей и не надо…
– Что говорить! Брать мебель напрокат – дело не очень выгодное. Лучше бы, конечно, внести деньги сразу и купить!
– Конечно, милая, я это прекрасно понимаю, но где взять деньги? Попозже, со временем может быть, я смогу…
– Дай бог! Я вам добра желаю, но сомневаюсь, чтобы сейчас можно было достать уроки… Очень уж много учительниц у нас в городе.
Голос у худощавой женщины с увядшим лицом и светлыми волосами был тихий и мелодичный. Разговаривая с еврейкой, она все время украдкой поглядывала на сидевшую на пороге Юлианку. Взгляд ее выражал растерянность.
– Чей это ребенок? – спросила она, понизив голос.
Старуха ответила, как всегда:
– Общий!
– Общий?
– Ничей.
Ципа, переливавшая керосин в маленький бидон, вставила:
– Это подкидыш! Найденыш!
– Подкидыш! – чуть не вскрикнула женщина, и лицо ее зарделось до самых корней льняных волос. Но тут же, овладев собой, она спросила как бы между прочим:
– Давно нашли этого ребенка? Вы, верно, не помните?
– Как не помнить! Нашли как раз в тот год и в тот месяц, когда я выдавала замуж внучку… а она уже семь лет замужем… Значит, ребенка этого нашли семь лет тому назад… осенью… рано утром…
Женщина взяла у Ципы бидон с керосином. Она казалась уже совершенно спокойной, только руки у нее слегка дрожали.
– Кто нашел девочку? – спросила она.
– Нищенка. Ее уже нет в живых. Жила здесь, у нас во дворе, здесь и померла…
– А как зовут девочку?
– Юлианка……
– Почему ее так назвали?
– Юлианой звали нищенку, которая ее нашла. Она ее и в костел крестить носила и просила, чтобы ей дали это имя.
Женщине уже вручили покупки: чай, сахар, керосин, но она не уходила и расспрашивала равнодушным тоном:
– А кто ее кормит?
– Кто же в состоянии ее кормить? Здесь все люди небогатые, у самих детей хватает… Вот она и живет где попало…
Женщина устремила неподвижный взгляд на полки с разноцветными коробками с сигарами и папиросами, потом, простившись со Злоткой, вышла из лавки.
Она даже не взглянула на Юлианку, проходя мимо. Девочка тоже не обратила на нее внимания – она привыкла к подобным расспросам и к тому же была занята тем, что старалась укутать подолом дырявой юбки посиневшие от холода ноги.
Час спустя Юлианка увидела кучку детей, которые собрались во дворе напротив старого дома и глядели на что-то, задрав головы и разинув рты. Девочка остановилась немного поодаль и тоже посмотрела наверх. Тут и у нее раскрылся рот от изумления и глаза засияли восторгом. На самом верхнем этаже большого дома, еще выше, чем гладильная мастерская, в зиявший раньше пустотой проем вставили окно. Его деревянные некрашеные рамы были распахнуты, ветер колыхал белую зубчатую занавеску, за которой висела клетка с канарейкой. Занавеска, а еще больше пение канарейки привлекли внимание ребят. Юлианка не спускала глаз с окна, и, когда дети разошлись, она все еще стояла на месте. Тогда в окне показалась женщина, которая час назад была в лавке, и поманила Юлианку.
Девочка не сразу поняла, что это относится к ней, но женщина с явным нетерпением снова помахала ей рукой, не переставая напряженно всматриваться в ребенка. Юлианка сорвалась с места и с нескрываемой радостью помчалась бегом к старому дому, так как приглашение в гости было редким и необыкновенно счастливым событием в ее жизни.
Дом Юлианка знала прекрасно. По полусгнившей лестнице она миновала гладильню и, поднявшись на верхний, незаселенный этаж, прошла через несколько пустых комнат без окон и дверей и остановилась у ветхой, неплотно закрывавшейся двери, которую она осторожно и робко приоткрыла.
У порога ее ждала та самая худощавая, бледная женщина, но уже без пальто и шляпы, в узком черном платье, с толстой светлой косой, уложенной вокруг головы. Сейчас, впрочем, она не была бледна, щеки ее горели ярким румянцем. Как только девочка переступила порог, она схватила ее на руки. Глядя на эту женщину, трудно было поверить, что у нее хватит сил поднять семилетнего, хотя и тщедушного ребенка. Она казалась слабой, хрупкой, но в эту минуту, как видно, руки ее обрели силу и цепкость. Не выпуская девочки из объятий, она уселась вместе с ней на старом продавленном диванчике, и на лицо Юлианки посыпался град горячих поцелуев и слез. Льняная коса расплелась, и волосы окутали девочку так, что она, кроме огромных влажных и блестящих голубых глаз женщины, уже ничего не видела. Юлианка ничего не понимала. Она была удивлена и ошеломлена, чуть не задохнулась в страстных объятиях женщины, и, надо признаться, ее это не особенно тронуло. Первый раз в жизни ее так горячо целовали, так плакали над ней. Когда женщина успокоилась и, немного отстранив от себя Юлианку, стала вглядываться в лицо ребенка, то увидела, что оно выражало только глубокое изумление.
– Поцелуй меня! – прошептали тонкие, бледные, дрожащие губы.
Юлианка поцеловала ее руку.
– Какая ты худенькая, – шептала женщина, ощупывая руки, ноги, грудь девочки, – худенькая и маленькая для своих лет… У тебя что-нибудь болит?
– Болит, – ответила Юлианка. – А что у тебя болит?
Юлианка показала свои отмороженные ноги, потом, засучив широкий рукав кофты, обнажила руку со следами ожогов, щипков и ушибов.
– Когда я была маленькая, – объясняла она, – на меня упал раскаленный утюг… вот сюда… А это меня Антек исщипал… в сенях, где я ночевала, кирпич свалился вот сюда… вчера… Нет, – поправилась она, – не вчера, а завтра.
Она до сих пор не научилась различать слова «вчера» и «завтра».
Слушая ее, женщина прикладывала руку то ко лбу, то к груди, потом снова ко лбу.
– Ты ела сегодня? – спросила она.
– Ела.
– Что же ты ела?
– Баранку, мне Злотка дала.
– А больше не хочешь?
– Хочу! – отозвалась, оживившись, Юлианка.
В силу обстоятельств, Юлианка быстрее всего отзывалась на ощущение голода: то была ее самая чувствительная струна.
Женщина вынула из низкого шкафчика еду и, усевшись рядом с Юлианкой, не спуская с нее глаз, наблюдала, как она ест; а Юлианка, рассмотрев скромную, но опрятную мебель, канарейку, распевавшую в клетке, белую занавеску, развевавшуюся на ветру, принялась болтать. Женщине хотелось знать, как она жила до сих пор, и Юлианка рассказала, что жила у прачки, когда была маленькой (теперь она считала себя уже большой), и что пан Якуб – повар – выбросил ее ночью на улицу; рассказала и о том, что было после: о доброй старой пани, которая неизвестно куда исчезла, когда глаза не захотели больше служить ей, о больном музыканте, который играет на рояле, о токаре и его жене, об Анке и Антке, – но больше всего об Антке, об этом скверном мальчишке. Вспомнив о нем, она сжала кулачки и гневно сверкнула глазами, но потом задумчиво добавила:
– Все-таки я простила ему… накажи меня бог, если вру… простила и не поколотила его, когда он пьяный валялся у ворот. Потому что старая пани просила: «Прости его», – вот я и простила.
Женщина крепко обняла девочку и, пряча лицо в ее густых кудрях, прошептала:
– Если бы ты могла когда-нибудь и другим простить… Если бы ты могла…
Она поднялась и стала ходить по комнате. Успокоившись, она снова села рядом с Юлианкой. Как видно, долгие тяжелые испытания научили ее сдерживать себя, скрывать свои чувства, и поэтому сейчас она не считала нужным их обнаруживать. Она привлекла к себе девочку и, поставив перед собой, повела серьезный разговор:
– Юлианка, моя дорогая! Пока я здесь живу, я буду о тебе заботиться… Ну что? Ты рада?
Девочка, не говоря ни слова, совершенно равнодушно снова поцеловала ее руку. Таким образом она выразила некоторую признательность, но ни радости, ни нежности не проявила. Все это казалось ей странным, этому трудно было поверить.
Женщина продолжала:
– Но помни: ни в коем случае никогда и никому не рассказывай о наших разговорах, о том, как я отношусь к тебе… понимаешь, Юлианка?
Девочка кивнула головой.
– Никому не говори, что я целовала и обнимала тебя. Помни: никому! И если я случайно скажу что-нибудь такое… Так вот: что бы я ни говорила – тебе ли, сама ли с собой, или во сне – не повторяй этого никогда! Понимаешь, дитя мое? Никому ни слова! И никому не говори, если назову тебя моей девочкой, моим ребенком…
Она умолкла на мгновенье, словно у нее захватило дух. Но она справилась с собой и сохранила спокойствие и даже суровость.
– Ты должна слушаться меня во всем, а если не послушаешься, то погубишь… причинишь и мне и себе много горя. Ну что, будешь слушаться?
– Буду, – ответила девочка, внимательно прислушивавшаяся к ее словам.
– Слушайся меня! И тогда я сошью тебе новое теплое платье, куплю башмаки, буду каждый день кормить обедом и научу многим интересным вещам… А молитвы ты знаешь?
– Знаю… Старая пани научила…
– Господи, воздай ей за это! Господи, защити ее! Господи, пошли ей год счастливой жизни за каждое слово молитвы… – торопливо зашептала женщина дрожащими губами. – А ты умеешь что-нибудь делать.
– Чулки вязать старая пани выучила, да я, наверно, уже забыла…
– Я научу тебя разным рукоделиям… А теперь слушай, как ты должна меня называть… Меня зовут Янина, называй меня панна Янина!
– Панна Янина, – повторила девочка.
– Хорошо! Так помни о том, что я сказала. А сейчас я пойду в город… я домашняя учительница… я учу маленьких детей… вот я и пойду на урок… я буду каждый день уходить, а ты оставайся здесь; не ходи в этот грязный двор, не ходи к этим людям, не проси ничего… тебе ничего не надо… ты будешь сыта и одета. Оставайся здесь. Можешь быть спокойна, никто чужой сюда не зайдет… и вор не придет… ему здесь делать нечего! Смотри на птичку, – это канарейка. Ее подарила мне моя последняя ученица, потому что я очень привязалась к этой птичке… Что поделаешь! И к птичке можно привязаться. Потом ложись спать; вечером я вернусь…
Она надела старое суконное пальто и шляпу с цветком, поблекшим и помятым, как ее лицо. Сейчас, после тяжелого разговора с девочкой, ее нежное, тонкое лицо казалось постаревшим и измученным.
Янина ушла. Оставшись одна, Юлианка принялась разглядывать птичку. Она слушала ее пение, а потом, приподняв голову, чтобы лучше видеть канарейку, начала подпевать ей; и этот дуэт длился до тех пор, пока Юлианка не устала. Тогда она принялась степенно, с некоторой, правда, робостью, расхаживать по комнате, заглядывать во все углы и рассматривать вещи. Вещи эти не представляли собой ничего необыкновенного, но все же некоторые из них произвели на Юлианку сильное впечатление. Она долго, со всех сторон, рассматривала старый, ветхий диванчик, перебрала по очереди все лежавшие на столе книжки, попробовала выдвинуть ящик стола, вытащила его, а потом долго вдвигала обратно, и по ее сиявшему лицу видно было, что это занятие доставляет ей большое удовольствие. Затем она уселась на полу против небольшого самовара и, глядя на его блестящую поверхность, заснула.
Спала она до тех пор, пока не открылась дверь. Янина не вошла, а вбежала в комнату. Лицо ее светилось радостью. С порога она протянула руки к девочке, проснувшейся, но продолжавшей сидеть на полу.
– Ну, что ж ты меня не встречаешь, не целуешь? Ты мне не рада?
Девочка медленно приблизилась к панне Янине и робко поцеловала ее руку. Лицо Янины омрачилось.
– Какая ты холодная! – прошептала она и затем, зажигая лампу, сказала: – Пойдем, я научу тебя ставить самовар.
А про себя подумала: «Я и сама-то не очень хорошо умею…»
Вечер прошел в разговорах с ребенком… Когда настало время ложиться спать, Янина спустила с колен Юлианку и сказала:
– Ночевать у меня нельзя, люди подумают, что я тебя совсем к себе взяла, и еще могут догадаться… могут много неприятностей мне причинить… Днем ты будешь здесь, а спать тебе придется в другом месте. Ты всем говори, что я не оставляю тебя ночевать, потому что… да потому что у меня тесно; скажешь, что я всегда велю тебе уходить вечером… Смотри, непременно говори так!.. Но где же ты будешь спать?
Янина долго раздумывала, потом взяла лампу и пошла осматривать нежилой этаж дома. Она нашла уголок, защищенный выступом стены от ветра, проникавшего сквозь незастекленные окна.
– Вот тут я и устрою тебе постель, – сказала Янина.
Она наскоро соорудила сенничок, положила на него одну из своих тощих подушек, а вместо одеяла дала Юлианке старый теплый платок.
– В морозы я буду брать тебя к себе, а когда тепло – спи здесь… Только, – добавила она, – не говори никому, что я тебе постель дала… Помни, никому не говори!
Прошел месяц, а может быть, и больше; однажды, когда панна Янина пришла после уроков домой, Юлианка бросилась к ней, обняла колени и стала страстно целовать ее ноги. Девочка не привыкла выказывать нежность; то была одна из тех струн, которые медленно пробуждались; но стоило этой струне хоть однажды затрепетать, как в душе ее вспыхнуло с огромной силой чувство, и она припала в слезах к ногам и груди того, кого полюбила.
Вместе с панной Яниной в жизнь Юлианки проник первый луч счастья; отблеском его светилось лицо, на котором заиграл румянец; оно сказывалось и в движениях, становившихся смелее и уверенней. Юлианка долго не появлялась ни во дворе, ни в одной из знакомых квартир. Повидимому, ее туда и не тянуло: в комнате панны Янины и на всем огромном незаселенном этаже было достаточно простора и можно было найти немало предметов для игры и забавы. Но однажды, в начале зимы, девочка появилась внизу у входных дверей, в дешевом, но теплом платье, в чулках и грубых башмаках, а волосы ее, аккуратно причесанные, были перевязаны лентой. Увидев Юлианку, дети, игравшие во дворе, подбежали к ней и стали рассматривать ее наряд. Анка трогала рукой ленту, она не могла оторвать от нее глаз, босоногая дочка портного глядела на башмаки. Только на Антка Юлианкин наряд не произвел впечатления. Он стал издеваться над ней:
– Глядите, глядите! Тоже мне барышня нашлась! Кто ж тебе дал все это? Может быть, твоя мама вернулась или отца ветер с поля принес? Не поможет тебе красивое платье: как была подкидышем, так подкидышем и осталась!
Юлианка вспыхнула, глаза у нее засверкали гневом. Но она ничего не ответила, потому что в это время выплетала ленту; затем молча протянула ее Анке. Анка так и подскочила от радости и сразу же принялась вплетать ее в косичку, а Антек, кривляясь и гримасничая, принялся снова издеваться над Юлианкой.
– Глядите, вот так принцесса! Подарки раздает!
– А помнишь, как у нас за метлой жила, картошку под скамьей ела?
У Юлианки сжимались кулаки. Казалось, она вот-вот бросится на него. Однако она только вытянула шею и показала ему язык: в такого рода мести ей было трудно себе отказать. А потом, испугавшись, она пустилась бежать со всех ног к лестнице, которая вела в комнату панны Янины.
Антек и его товарищи хотели было погнаться за ней, но у них не хватило духу. Они не осмеливались врываться в комнату учительницы: все жильцы невольно признавали, что панна Янина стоит выше их, – оттого ли, что она носила шляпу, оттого ли, что в окне у нее висела клетка с канарейкой или еще отчего-то.
– Она детей учит, – говорили они, – значит, образованная, и обхождение имеет вежливое!
Но самые достоверные сведения об образовании, полученном этой бледной, худенькой женщиной, имела старая Злотка; сведения эти были почерпнуты от самой панны Янины. Как-то, сделав свои обычные покупки – немного сахару и керосину, – панна Янина спросила:
– Ничего новенького для меня нет?
Злотка отрицательно покачала головой.
– Я у многих спрашивала, – ответила она, – узнавала, но никому не нужно… У нас в городе сейчас страх как много учительниц… больше чем детей… А разве вам мало уроков, которые у вас есть?
– Мало, очень мало… на жизнь не хватает… Мне много не платят.
– Почему же? Я знаю, что учительницы получают большие деньги за те знания, которые в своей голове имеют.
Янина отвернулась и снова стала разглядывать полку с разноцветными коробками сигар.
– В том-то и беда, – сказала она, – в том-то моя большая беда, что знаний у меня очень мало… – И, не отрывая пристального взгляда от полки, добавила: – Я всегда учила только самых маленьких… начинающих… и мне всегда платили очень мало… да и, по правде говоря, платить больше не за что…
Злотка безнадежно развела руками:
– Раз так, ничего не поделаешь!
Вечером, вернувшись из города, Янина не обняла, как обычно, Юлианку. Оттолкнув ее, она опустилась на стул и погрузилась в глубокую задумчивость, теребя дрожащими руками края черной поношенной кофты.
Удивленная, огорченная, девочка подошла к ней, но она снова оттолкнула ее, прошептав:
– На горе мое ты родилась… да и на свое…
Янина весь вечер сидела неподвижно, не проронив ни слова. Юлианка тихо всхлипывала. Но наутро, когда Юлианка проснулась в своем углу за выступом стены, она увидела склонившуюся над ней панну Янину. Улыбаясь, она поцеловала ребенка в лоб.
– Поди подмети комнату, – сказала она.
Она поручала девочке подметать каждое утро комнату, ставить самовар, топить печку и стелить постель; глядя, как девочка с трудом справлялась с непосильной работой, Янина говорила с глубокой печалью:
– Мне хочется, чтобы из тебя хоть хорошая служанка вышла!
По вечерам Янина учила девочку закону божьему, чтению и шитью; иногда она бывала необычайно ласкова, а подчас требовательна, нетерпелива, раздражительна.
Если бы кто-нибудь видел, как она поминутно вскакивала со стула, металась по комнате, обнимала и целовала девочку, отталкивала ее, била по рукам за малейшую ошибку в чтении или шитье, хваталась за голову и что-то быстро и бессвязно бормотала, – он мог бы подумать, что она близка к помешательству. Но она быстро овладевала собой и, скрестив на груди руки, сжимала тонкие губы. И тогда казалось, что эта женщина готова ценой любых страданий и мук добиться своей цели.
Как-то весной, когда всюду открылись окна и двери, Янина зашла к токарю. У порога она задержалась в нерешительности. Увидев ее, хозяин оставил работу и приветливо с ней поздоровался, а его жена растерялась и в изумлении уставилась на нежданную гостью. Но, опомнившись, она тут же велела Кахне подать табурет. Панна Янина села. Она, казалось, была еще более смущена, чем хозяйка.
– Мне хочется познакомиться с вами, ведь мы соседи, – сказала она, чтобы оправдать свое посещение.
Жена токаря ответила, что каждый день видит из окна, как панна Янина уходит в город и возвращается домой.
– Почему вы никогда не возьмете с собой девочку? – спросила она. – Ей, бедняжке, не плохо бы на свет, на людей поглядеть.
Янина густо покраснела.
– Какую девочку? – спросила она с деланым удивлением.
– Да сиротку, которую вы приютили.
– Что вы? Она вовсе не живет у меня! – уверяла Янина. – К чему мне это… Конечно, когда я вижу, что она голодна, я кормлю ее… из жалости… только из жалости… Если ребенку нравится быть со мной, не стану же я гнать его, мне она не мешает. Но я не собираюсь ее опекать.
Токарь с женой недоумевали: зачем она с таким жаром отрекается от того, что они считают добрым делом.
– Жаль, – сказал после паузы токарь, – а мы уж думали, что бедная девочка нашла, наконец, человека, который будет о ней заботиться, покуда она мала… Вырастет, так уж сама справится, а вот пока мала – как ей быть? Милостыню просить, а потом, сохрани бог, воровать?..
Едва заметная дрожь пробежала по рукам и лицу Янины.
– Что вы, – сказала она, – что вы… Я не прогоню девочку, пока в состоянии кормить ее и учить. Но какое мне собственно до нее дело? Жаль ее, конечно… Но я еще сама не знаю, сколько времени здесь проживу; а может быть, если мне придется уехать, вы воспитали бы ее… вместе со своими детьми?
Она бесконечно робела, и в голосе ее – как ни старалась она казаться спокойной – слышалась мольба. После некоторого раздумья токарь ответил:
– Признаюсь, мне это самому не раз в голову приходило и с женой я советовался, но люди мы небогатые… у нас шестеро детей. А уж если б я решился взять сиротку, то ни в коем случае не согласился бы, чтобы ей в моем доме плохо жилось. И одеть ее надо прилично, и кормить хорошо, и работе какой-нибудь обучить… На все это понадобились бы немалые деньги – значит, в ущерб моим детям. А я считаю, что нехорошо помогать одним за счет других. И потом, осенью мы уедем… А когда будем жить далеко отсюда, на другом конце города, ее горе нам глаз колоть не будет.
Янина слушала потупившись и, сказав еще несколько малозначащих слов, ушла. Весь вечер она проплакала.
Однажды, в середине лета, она возвратилась из города с большим букетом цветов. Она не понесла его к себе, а, проскользнув незаметно вдоль стены бокового флигеля, положила на подоконник к учителю музыки.
Всю зиму он не подходил к роялю, так как почти не вставал с постели; сейчас он играл. Услышав шаги за открытым окном, он хрипло спросил, не отрывая рук от клавишей:
– Это ты, пташка?
Обернувшись и увидев стоявшую за окном женщину, он удивился. Как и все жильцы дома, он знал Янину в лицо.
– Какие красивые цветы! – воскликнул он, с трудом приподнимаясь. – До чего ж вы добры! Цветы – моя страсть!
– Цветы прислала вам сиротка, – тихо сказала женщина.
– Как ей живется? Бедное прелестное дитя! Мне хотелось бы повидать ее!
– Я пришлю ее к вам, – обещала панна Янина.
Музыкант хотел еще что-то сказать, но тяжелый приступ кашля помешал ему. Поднимаясь по лестнице старого дома, панна Янина шептала:
– И на него надеяться нечего. Ему недолго жить!.
Осенью люди стали поговаривать, что учительница, как видно, больна, так как еле ходит и очень плохо выглядит. Но Янина не была больна, ее, повидимому, угнетали какие-то тяжкие заботы, тяжкие скорей всего потому, что сил у нее было мало.
Однажды она пришла к Злотке не за покупками, а просто поговорить.
– Ах, милая, – сказала она, – какое несчастье, что я не могу получить уроки. Я уже и шитьем занялась, но все равно очень туго приходится!
– Не беда, – утешала ее Злотка, – как-нибудь проживете! А потом, может, легче станет!
– Я не привыкла к такой нужде, – продолжала Янина. – Когда умер мой отец – он был чиновником, а при нем я ни в чем не нуждалась – я жила в разных домах… Жалованье получала очень маленькое, хватало только на то, чтобы скромно одеться, но условия были всегда хорошие; кто держит гувернантку, у того и обед каждый день есть, и стакан чаю, и теплая комната. Я избалована, и мне трудно все это терпеть.








