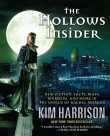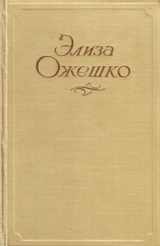
Текст книги "Низины"
Автор книги: Элиза Ожешко
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
II
Покинув фольварк в Лесном, Кристина снова пошла в темноте по грязной дороге, но уж гораздо медленнее. Для чего ей было теперь спешить? Она возвращалась с тем, с чем шла туда час назад. Ничего она не добилась, и поэтому походка ее отяжелела и она сгорбилась.
Стало еще темнее. Ветер крепчал, пошел частый мелкий дождь. Среди голых, черных полей дорога из Лесного в Вульку, обсаженная деревьями, казалась длинным оврагом; над ним из-за угрюмых туч не светила ни одна звездочка, а в глубине его медленно брела женщина, одинокая и совсем маленькая в этом мраке и пустоте.
– Такая и доля моя, как гэтая ночка! – вполголоса произнесла она, и казалось, что ветер, пролетавший в ту минуту через дорогу, подхватил эти слова, со стоном понес их на пустые поля и кружил их там, шелестя, как сухими листьями, вздыхая и охая. Раз, когда он слишком громко застонал, женщина перекрестилась.
– Во имя отца, и сына, и святого духа… – прошептала она.
Быть может, она подумала, что в ночном мраке простонала чья-нибудь кающаяся душа. Ветер все сильнее рвал ее сермягу; платок, покрывавший голову, так промок, что струи воды лились с него за уши и на шею. Из-под босых ног брызгала жидкая грязь.
Пройдя три версты, отделявшие Лесное от Вульки, женщина увидела маленький красноватый огонек, мерцавший среди совсем темных домов Вульки.
– О, еще не спят! Может, дитятко захворало! – прошептала она.
Кристина сошла с дорога и несколько минут пробиралась по вспаханной полосе под стеной не то овина, не то хлева, перелезла через какой-то невысокий забор и, сократив себе таким образом дорогу, очутилась у двери хаты, в единственном крохотном оконце которой светился тот огонек. Эта хата служила жильем для семей четырех батраков. Предполагалось, что в распоряжении каждой семьи должна быть комната с небольшим чуланом и отдельным входом. Но в Вульке было восемь батраков, а такая хата – одна. Управляющий имениями был расчетлив, и ему не хотелось строить еще вторую. Давно еще, на так называемой «сессии» экономов, собиравшейся под его председательством по субботам, он как-то спросил Бахревича:
– Что делать? Строить в Вульке второй батрацкий дом или не строить?
Муж Мадзи прекрасно знал характер своего начальника. Поразмыслив минуту, он ответил:
– Не надо строить, ясновельможный пан. Для чего строить?
– А как же иначе?
– В каждом помещении поселится по две семьи.
– В самом деле? А они разместятся?
– Ой-ой, еще как. Разве им нужны какие удобства? И действительно разместились. Что им оставалось делать? Батрак есть батрак, нужда заставляет им быть – здесь ли, там ли, не все ли равно.
В Вульке в некоторых отношениях было не хуже, чем в других местах, а с жильем не везде обстояло лучше. Некоторые, поразборчивее, поработав с год, уходили из Вульки, другие же оставались здесь и по нескольку лет, в зависимости от обстоятельств и возможностей. Ясюк работал тут уже давно, и ему приходилось жить вместе то с той, то с другой семьей. За год до этого к нему на квартиру перевели молодого батрака Антоська и его мать Кристину. Переселили их сюда от другого батрака – Максима, потому что тот называл Антоська не иначе как ублюдком, а жена его не раз таскала Кристину по горнице за волосы, припоминая ей все: и какой она была и откуда взялись ее сыновья. Ясюки же были люди спокойные и умели уживаться со всеми. Они даже подружились с Кристиной и ее сыном, может быть потому, что мать молодого батрака не только первая никогда ссор не заводила, но если даже задевали ее – отмалчивалась. Детей же Ясюков она крепко полюбила и, помогая их матери, присматривала за ними бескорыстно, словно за своими родными.
Отворив дверь горницы, она произнесла:
– Слава Иисусу!
– Во веки веков, – ответили ей три мужских голоса и один женский.
Что же это была за комната? Просторная, но очень низкая, с закопченными до черноты стенами и потолком, с глинобитным полом и одним маленьким оконцем, сквозь худую раму которого проникал холодный мартовский ветер. Бахревич был прав, заявив: «Разве им нужны какие удобства?» Ведь можно было заткнуть щели, чтобы божьи ветры не залетали в хату. Однако никто этого не сделал. Может быть, времени не хватало, а может быть, все так сжились с этими божьими ветрами, что перестали их замечать, и они никого не беспокоили. Достаточно просторная, горница, однако, казалась страшно тесной; во-первых, потому, что она была очень уж низка, а во-вторых, набита домашним скарбом и множеством всякой утвари. Тут стояли скамейки, столы, ткацкие кросна – их было двое, – лохани, корыта, ведра, горшки, мялки, трепалки и гребни для расчесывания льна, мотовила, бочонки с квашеной свеклой и капустой, мешки с картофелем, зерном, мукой и т. д. Угол комнаты занимала печь с черным, как бездна, устьем, с припечью, лежанкой и подпечком. С печи свисали четыре босых детских ножки, высунувшихся из-под грубых рубашонок, под печью спали три курицы и петух, а на лежанке под домотканным одеялом лежала женщина; время от времени она худой, темной рукой покачивала люльку из лозы, подвешенную к потолочной балке на толстых пеньковых веревках. В люльке спал новорожденный ребенок. Женщина была жена Ясюка, еще слабая после недавних родов.
Обычно она не позволяла себе такой роскоши и за рождение на свет нового жильца не вознаграждала себя столькими днями отдыха. Полежит, бывало, день-другой – и все. И если даже она вставала не для всякой работы, то хотя бы для того, чтобы начистить картошки, приготовить пищу и присмотреть за старшими детьми. Но на этот раз она похудела, побледнела и чувствовала слабость дольше обычного. Кто знает почему… Может быть, просто так, по воле господа бога, а может, и потому, что во время тяжелых и долгих родов знахарка, вызванная из ближайшей деревни, на минутку, на одну только минутку, подвесила ее к потолочной балке вниз головой. «Чтобы ребенок в животе распрямился», – объясняла она. Ребенок, видимо, действительно распрямился, потому что родился на свет здоровым и невредимым, но мать не могла прийти в себя и все еще лежала. А поскольку вторая хозяйка ушла из дому, то ужин сильно запаздывал. Ясюк и Антосек, вернувшись с поля, которое они пахали до вечера, принялись сами стряпать. Но прежде чем заняться ужином, тот и другой напоили и накормили лошадей, на которых работали, убрали на место плуг, поругались немного возле дома с другими батраками из-за какой-то вязанки сена. Перед горящим в печи огнем стоял и время от времени помешивал в горшках деревянной ложкой Антосек, пригожий парень со светлой, как лен, гривой и живыми голубыми глазами.
Ясюк, широкоплечий крестьянин с темной растительностью на загорелом лице и темными сметливыми глазами, сидел за столом, беседуя с гостем, который резко отличался от него своей внешностью. Крепкий, коренастый Ясюк казался неповоротливым и вялым. Сгорбившись и широко расставив локти, он изредка посматривал на гостя, и его глаза глядели из-под густых нахмуренных бровей мягко, но как-то недоверчиво. Гость, наоборот, был сухощав и подтянут. Дряблое, бледное лицо с длинным носом и острой бородкой заросло короткой седеющей щетиной. Быстрые серые глазки глядели смело, даже нагло; порою в их блеске отражались жестокость и алчность. На его куртке из желтоватого сукна, совсем другого покроя, чем крестьянская сермяга, блестели металлические пуговицы и вдетая в петлицу бронзовая медаль.
По его прямой, гибкой фигуре, по выражению глаз и покрою одежды можно было с первого же взгляда узнать в нем отставного солдата.
Приход Кристины не прервал беседы Ясюка с гостем. Ответив ей «во веки веков», они больше не обращали на нее внимания. Она кивнула головой сыну, который ответил ей таким же кивком, и встала перед печью. Красный блеск пламени залил ее с головы до ног и осветил ее высокую и все еще стройную, но худую и изнуренную фигуру, черные от грязи ноги, сырую одежду, пряди растрепанных седеющих волос, падавших из-под мокрого красного платка на обветренный, изборожденный морщинами лоб. Это был лоб шестидесятилетней старухи, тогда как ей было не больше сорока. Такие же морщинистые, поблекшие щеки приняли какой-то оранжевый оттенок. У нее были большие, черные, огненные глаза и бледные, но прекрасно очерченные губы, которые открывали в улыбке ряд белоснежных зубов. На этом увядшем лице они казались нетускнеющими жемчужинами молодости, напоминанием о некогда статной красавице Кристине. Опершись подбородком на ладонь одной руки и поддерживая ладонью другой ее согнутый локоть, она стояла перед пылающей печью и пристально глядела в огонь. В рисунке ее небольшого рта, в складках морщинистых щек, в этом пристальном взгляде была беспредельная скорбь.
Светловолосый паренек, помешивавший в горшке похлебку, заправленную салом, поглядев на мать, спросил:
– Ну, как там, мама?
Не меняя позы и не отводя устремленного на огонь взгляда, она ответила:
– Ничего, сынок. Пойдет наш Пилипчик на край света, и не увидят уже его наши глаза. Видно, нет нам, бедным людям, никакого спасения.
Антось вздохнул и покачал головой. В люльке запищал ребенок, и Кристина встрепенулась. О том, чтобы просушить свою одежду и согреть промокшие ноги, она и не подумала. Быстро подойдя к лежанке, она склонилась над больной. Они пошептались о чем-то, и больная со стоном повернулась лицом к свету. Кристина вынула ребенка из люльки и поднесла его к груди матери. Потом присела на край постели у шелестящего сеном изголовья больной и, сложив руки на коленях, прислушалась к разговору Ясюка с гостем. Перед ними стояла бутылка с водкой и оловянная чарка. Потчуя друг друга, они после каждой опрокинутой чарки почтительно кланялись, приговаривая: «На здоровье!» Впрочем, выпили они немного. Ясюк не был пьяницей, гость же, хотя его покрасневший нос и выдавал пристрастие к горячительным напиткам, теперь был целиком поглощен разговором и с жаром убеждал в чем-то Ясюка. С недопитой чаркой в руке, выпрямившись и впиваясь в лицо батрака возбужденно бегающими глазами, он говорил:
– Ей-богу, Ясюк! Будь я на твоем месте, давно бы уже сидел в своей собственной хате, ел, пил и ни о чем не заботился. Разве уж так хорошо живется на батрацком хлебе, что ты дозволяешь дядьке на твоей земле хозяйствовать?
Батрак медленно покачал темноволосой головой:
– Ой, и хорошо же! Каб моим врагам так хорошо было! А что поделаешь? Я еще мальчонком был, когда злые люди меня обидели, известно, сирота я, без отца. Как помер отец, так дядька тут же всю землю и усадьбу на свое имя переписал. «Меня, говорил, комиссия хозяином сделала, значит и вся земля моя, а брат у меня за батрака был, и сыну его, значит, ничего не принадлежит». Люди советовали мне в суд подать, так он такого себе гадвоката нанял, что как начал тот брехать, так и добрехался до всего, чего ему надо было. А я, значит, без всего оказался и из хозяйского сына батраком стал.
Он махнул рукой и, налив в чарку немного водки, кивнул гостю.
– За твое здоровье!
– А что делать? – продолжал он дальше. – Что с воза упало, то пропало. Над сиротою бог с калитою! Мы с женой и детьми с голоду не помрем… Тесть сто рублей приданого дал… Богатый… огородник… Дал бы и больше… «Как будет у тебя, Ясюк, за что кусок земли купить, еще, говорит, сто рублей дам». Вот, может, господь бог всемогущий пошлет, так и куплю… То жена заработает, то от жалованья останется… так кое-какие деньжонки есть…
– И много? – спросил отставной солдат.
Хитрая усмешка промелькнула по лицу крестьянина.
Скрытность и осторожность взяли в нем верх над вызванной водкой болтливостью.
– Сам не знаю, – полусерьезно, полушутливо ответил он, – может, много, может, немного, а есть-таки…
– Ну, а гэта ж земля, что украл у тебя дядька, так вот и пропадет?
– А что поделаешь? – вздохнул Ясюк. – Может, моя правда была, а может, и его правда была, пускай нас бог рассудит.
– Ой, и дурень же ты! – с удивительной рьяностью и силой закричал солдат. – И ты думаешь, что все уже кончено, припечатано и пропало? Молчишь и терпишь! А разве ты теперь не можешь тоже нанять себе гадвоката и дядьку, за свою обиду в суд призвать? Разве один он мог иметь гадвоката? А ты не можешь? А? Я твое дело с дядькой, как свои пять пальцев, знаю. Ей-богу, эти его домогательства ничего не стоят, и давность еще не прошла. А гапелляция на что? А зерцало в палате на что? Э!
Он поднял указательный палец кверху и покрутил им в воздухе.
– Ей-ей, – продолжал он, – ты, небось, палаты и не видел. А я видел. Бо-ольшая такая зала, как церковь, а в ней стол, красным сукном покрытый, а за столом сидят ясновельможные паны в шитых золотом мундирах и судят…
– Шитых золотом… – повторил Ясюк, с таким интересом слушавший речь гостя, что даже рот у него приоткрылся.
– А ты как думал? В таких сермягах, как твоя? Золотом сверкают… и на столе зерцало стоит.
Тут он, желая выразить почтение, склонил голову. Ясюх вздохнул.
– Перед царским зерцалом, перед красным столом, перед ясновельможными панами, что так и сверкают золотом, стоят гадвокаты и говорят… Так и так, ясновельможные судьи, говорят они, так и так, говорят… а суд молчит и слушает… Слушает, слушает, а потом встает и выходит…
– Выходит! – повторил Ясюк таким тоном, точно жалел, что уже кончилась прекрасная и занимательная сказка.
– Ну да, выходит; так что ж, что выходит? Идет себе в другую комнату, чтобы поговорить о том, что гадвокаты набрехали. А потом обратно. Все встают, и самый главный из суда, его превосходительство, громко читает по бумаге: «Иск Ясюка Гарбара признать справедливым: от дяди его, Павлюка Гарбара, землю и усадьбу отобрать и отдать Ясюку».
При таком неожиданном заключении Ясюк Гарбар поднял голову, и угрюмые глаза его загорелись.
– Эге, – проговорил он, – если бы оно так было…
– А почему не быть? – с притворным хладнокровием возразил отставной солдат. – Стоит тебе, Ясюку, захотеть, и будет… Я бы тебе такого гадвоката раздобыл. Он так пишет, что сам министр диву дается, а как начнет брехать, так суд рот разинет и слушает, слушает…
Ясюк заметно оживился.
– Да не тот ли, что ведет тяжбу грыненских мужиков с Дзельскпм?
– Он самый, а ты его видел?
– Как-то издали видел. Проезжал я раз с сеном через Грынки и видел, как он с грыненскими перед корчмой разговаривал. С виду вельми мудрый…
– Ого-го! – подтвердил гость. – Я же тебе, Ясюк, говорю, что как напишет, то сам министр диву дается.
– Должно быть, и вельми богатый. На животе золотая цепь болтается…
– Еще б не богатый!.. И как ему богатым не быть? Народ к нему, как в костел, валит… И за какое дело ни возьмется, так завсегда выиграет, ей-богу завсегда…
– Завсегда? – удивился Ясюк.
– Завсегда, – подтвердил гость, – такая уж у него голова. Скольким людям помог, ой-ой-ой! Каждому поможет… Какая б у кого беда ни случилась, только ее в свои руки возьмет – так она счастьем и обернется…
Батрак глубоко задумался и лишь спустя долгое время чуть приподнял голову.
– Послушай-ка, Миколай, – начал он, понизив голос, – а гэтай гадвокат очень дорогой?
Микола сдвинул седые брови и, перебирая в воздухе пальцами, что-то стал бормотать. Видимо, производил какой-то арифметический подсчет.
– Да нет, не очень, – громко заявил он, – пять процентов берет… не больше, спаси бог, сроду не больше пяти процентов…
– А что это такое?
– Такая плата, – разъяснил Миколай, – плата, какую ему уж надо дать. Без этого невозможно. Как он тебе скажет: «Ясюк, дай мне за это дело сто рублей», – значит, дай ему сто рублей… И это будет пять процентов с той значит, суммы, о какой ведется тяжба. Вот! А когда он тебе скажет: «Ясюк, дай деньги вперед», – значит, дай вперед, потому что, если не дашь, он и глядеть на тебя не станет. И на что ты ему? Разве он у таких, как ты, дела ведет? Но дорого он с тебя не станет брать… Пять процентов, и все. Но уж это обязательно… Без этого нельзя… Что ты ему, брат или сват, чтоб он твое дело даром вел?
Было видно, что Ясюк всем своим существом силился уразуметь эти речи, но всего смысла их понять не мог. Может, и понял бы, если бы не слово «проценты».
Эти проценты были для него совершенной загадкой, но вместе с тем казались чем-то очень важным и внушали еще большее доверие к уму Миколая, в который он и раньше верил.
– Значит, – сказал он, – идти к нему с просьбой о той, значит, земле, которую у меня дядька забрал, и сразу же денег сколько-нибудь снести?..
– Почем я знаю? Может, пять процентов от той земли это будет рублей двадцать… а то и тридцать…
– Пусть будет десять… – начал торговаться батрак.
– А пойдешь ты к нему завтра? – с разгоревшимися глазами допытывался солдат. – Он завтра чуть свет из Лесного выедет и в грыненскую корчму заглянет, чтобы с тамошними крестьянами сговориться… Если ты, Ясюк, придешь туда, я тебя порекомендую, ей-богу порекомендую. Ты мне не чужой, я тебя вот каким знал. Ты из Грынок, и я из Грынок, когда я в солдаты уходил, ты вот каким был…
Как видно, расчувствовавшись, он вытер пальцами нос и, вынув из кармана шинели красный ситцевый платок, провел им по усам.
Крестьянин задумался. Одной рукой он теребил свои густые жесткие темные волосы, другая неподвижно лежала на столе. Опустив голову, он раздумывал и колебался. В нем боролись противоречивые чувства: любовь к спокойствию и давняя, теперь снова проснувшаяся, обида на дядю, боязнь выпустить из рук деньги и страстное желание вернуть утраченную землю.
Но вот на столе появилась коврига черного хлеба и миска дымящейся похлебки с салом. Антось принес из чулана хлеб и большой нож с деревянным черенком, а Кристина, перелив похлебку из горшка в миску, поставила ее на стол. Положив возле миски четыре деревянные ложки, она скрестила под грудью руки и, словно окаменев, пытливо глядела в лицо Миколая. Ясюк нарезал хлеба, Антось с ложкой в руке нетерпеливо ждал, чтобы старшие подали знак приступать к еде. Кристина же все стояла, пристально глядя на отставного солдата. Тот засмеялся.
– Что с тобой, Кристина? – шутливо опросил он. – Ты чего уставилась на меня, точно в первый раз увидала?
Не сводя с него глаз, она медленно и задумчиво проговорила:
– Не в первый раз я тебя вижу, Миколай… Не чужой ты мне, так же как и Ясюку. Ты из Грынок, и я из Грынок, все мы из Грынок, только я бедной сиротой была, и никто меня никогда не пожалел. Так сжалься хоть ты надо мной, Миколай… Помоги, спаси. Слушала я, слушала, – что ты говорил Ясюку. Если тот большой адвокат ему помочь может, значит и мне может… если он всех спасает – значит, и моего Пилипчика спасет…
Она замолчала; выражение глаз ее из пытливого стало молящим. Мужчины уже ели похлебку. Миколай, немного поломавшись, также принялся за еду. Сидя очень прямо, он медленно подносил ложку ко рту и, проглотив еду, пахнувшую прогорклой приправой, всякий раз тыльной стороной левой руки вытирал рот и усы. Поглядывая на Кристину, он жалостливо покачивал головой.
– Ох, и беда же с твоим Пилипком! – сказал он. – И так уж нелегко молодому солдатику, когда его от материнской юбки оторвут да в строй поставят. «Равняйсь! На плечо! К ноге! Направо! Налево! Кругом марш!» А тут, помилуй господь, он ногу не так, как надо, поставил… подскакивает фельдфебель и кулаком в зубы…
Слова муштры Миколай выкрикивал грубым голосом, сдвигая брови, и энергичным жестом поднимал к голове ложку, с которой стекала похлебка. Как только он принимался кричать со строгим видом, Кристина начинала быстро мигать и морщины у нее на лбу болезненно вздрагивали. Антось замирал с ложкой у рта и, глядя своими наивными глазами на солдата, тихонько вскрикивал:
– О господи!
– Тяжела, тяжела жизнь молодого солдатика, – продолжал отставной солдат, – но там, куда посылают твоего Пилипка, еще хуже будет… Я там был и знаю. От мороза у меня кожа слезала и в животе застывало. Что проглотишь – так все в чистый лед и обращается. В лазарет меня клали… шесть месяцев желтой лихорадкой болел и таким желтым стал, ну прямо подсолнух… а вышел оттуда… родная мать бы не узнала… Так и с Пилипком твоим будет, Кристина, а может… еще хуже; я-то крепкий и здоровый был, так еще выдержал, а как он щупленький, то и не выдержит… ей-богу, не выдержит!
Кристина, принявшись было за еду, застыла с ложкой в руке, а лицо ее окаменело от ужаса. Внезапно, застонав, она бросила ложку и обеими руками схватилась за голову. Она закачалась из стороны в сторону, склоняясь до самой скамьи, и заголосила:
– Боже ж мой, боже! Боже ж мой, боже!
Антось перестал есть. Стоя над горюющей матерью, он повторял:
– Годзи, мама! Годзи! Годзи!
Он не прикасался к ней и ничего больше не говорил, кроме этих слов, которые он повторял все настойчивее и жалостнее.
– Годзи! – грубо сказали Ясюк и Миколай, а Миколай добавил:
– Эх, глупая, глупая баба! Чего ты стонешь и плачешь и понапрасну к господу богу взываешь? Господь бог послал тебе счастье. Такого послал тебе пана, что спасет твоего Пилипка. Ты только меня попроси, чтоб я тебя порекомендовал. А стоит ему только захотеть, и твоего Пилипка оставят поблизости, ей-богу оставят и, может, даже на зимние квартиры в Грынки пришлют…
Кристина вскочила, точно ее приподняла чья-то крепкая рука, выпрямилась и в мгновение ока приникла к Миколаю.
– Отец милостивый, братец родненький, порекомендуйте меня и помогите упросить того пана.
Говоря это, она целовала локоть отставного солдата, и казалось, вот-вот начнет целовать его колени.
– Ну, ладно! – воскликнул Миколай, и в его серых глазах блеснул огонек. – Но, – добавил он, – пять процентов заплатить надо, без этого нельзя… пять процентов. Ну, ежели, баба, у тебя есть деньги…
– Есть, милостивец, есть, братец! Потом и кровью заработала, двадцать лет для сыновей своих и на смерть себе копила… Те, которые для Антоська, оставлю, а что для Пилипка – отдам; пусть ему на избавление пойдут… Работала я, надрывалась, жала, полола, нанималась куда попало, на всякую работу, кожу с рук обдирала, постное ела, босой ходила и все для них откладывала.
Как бы в подтверждение того, что у нее от работы кожа с рук слезала, она протянула к лучине, горевшей в расщелине печи, свои маленькие руки, исхудалые и черные, как вспаханная земля, с искривленными пальцами, покрытыми мозолями от серпа, коромысел, От рытья земли и другой геркулесовой работы, выполняемой в течение девятнадцати лет. А тому, что за эти два десятка лет она ела только постное и не истратила лишней копейки, поверить было нетрудно, потому что даже в этот студеный мартовский вечер ее ноги были прикрыты лишь слоем грязи.
Миколай, окинув фигуру этой нищенки взглядом, который можно было бы назвать саркастическим, скривил рот.
– Сколько же у тебя может быть денег? – небрежно спросил он. – Небось, и на пять процентов не хватит.
Кристина, видимо, испугалась: он, пожалуй, заподозрит, что у нее нет денег, и откажет в своем покровительстве. Она ударила себя кулаком в грудь.
– Есть, – закричала она, – ей-богу, есть! Хватит!
– Ну, а сколько у тебя есть?
Скрестив руки на груди, она заговорила:
– О, я скажу тебе, Миколай, все. Как ксендзу на исповеди скажу… Сто рублей у меня есть для Антоська, сто рублей для Пилипка и сто рублей для себя, на погребение… чтобы, когда помру я, сыночки меня в красивом гробу похоронили, с ксендзом и хоругвями… Жила я в тяжкой беде, так пусть хоть похоронят меня сынки в богатстве… и нищим деньги раздадут и ксендзу дадут – на заупокойную обедню, и на могилке моей крашеный крест поставят. Вот что у меня есть: тяжелым трудом я скопила. Постное ела, босиком ходила, на работе надрывалась и скопила. Сама скопила. Никто мне, кроме бога, не помогал.
Она начала свое признание неохотно, только под угрозой потерять покровительство Миколая, но при последних словах выпрямилась, увядшее лицо ее просветлело и как бы помолодело, черные глаза засияли. И что было удивительно – в них сияло чувство гордости.
– Сама работала, сама скопила. Никто не помогал, – повторяла Кристина.
Когда она, выпрямившись, сверкая глазами, простодушно, с тихой улыбкой глядела на мужчин, это была уже не изможденная нищенка, не червь, попранный и придавленный, а человек, чувствующий свое достоинство.
Миколай смотрел на нее с удивлением. Тот психологический момент, когда расцветала и росла гордая душа этой женщины, не привлек его внимания, да он и не способен был понять его. Миколая изумили услышанные цифры. На лице солдата мелькнуло выражение радости.
– Ну, баба, женись я на такой, как ты, всем светом ворочал бы теперь. А мою чертовку угораздило бросить меня да еще детей на моей шее оставить… Возвращайся домой солдат, а жены твоей и след простыл! Где она теперь, гэтая моя Марыська, где?..
На минуту забыв о Кристине, он тряхнул головой, и влага затуманила его серые глаза. Видно, и у него в груди, где-то на самом дне, просыпались иногда воспоминания и его порою посещала тоска…
Однако недолго сокрушался отставной солдат о том, что, вернувшись домой, не застал в хате своей Марыськи. Теперь его горячо занимали дела ближних.
– Ну, – сказал он, – так приходи завтра и ты вместе с Ясюком к грыненской корчме.
Ясюка точно вдруг разбудили.
– Да ведь я, – начал он, запуская руки в темную гриву, – я сам еще не ведаю… то ли идти, то ли отказаться…
Но с лежанки послышался слабый, кроткий голос:
– Иди, Ясюк, иди… Не отказывайся от панской милости… Попытайся, может присудят тебе землю и кончатся наши невзгоды… Ой, горе мое, что такая я слабая… Сама бы пошла и в ноги тому пану поклонилась. Иди, Ясюк, если бога боишься, иди! Я болею, может помру скоро, так хоть, помирая, знать буду, что ты перестал есть батрацкий хлеб и что дети…
Она не кончила. Так была слаба, что голоса не хватило. Застонала только и позвала Кристину, чтобы та взяла у нее ребенка и положила в люльку.
Ясюк поглядел с минуту в ту глубокую темноту, откуда заговорила с ним жена и где тихонько пищал новорожденный.
– Ну, – сказал он, вставая, – ладно, пойду! Будь что будет! Возьму с собой немного денег. Может, господь бог смилуется и вознаградит…
Миколай просиял.
– Вот и ладно! – воскликнул он. – Так выпьем!
– Выпьем! – повторил Ясюк, стараясь, видимо, громким голосом и энергичными жестами заглушить в себе остатки колебаний и тревоги.
– За твое здоровье!
– На счастье!
– Пей, Кристина!
Взяв из рук Ясгока чарку и отвернувшись, она заслонила локтем лицо и отхлебнула половину.
– Пей! – настаивал разохотившийся Ясюк.
– Пей да господа бога благодари за свое счастье! – кричал Миколай.
– Не могу, – отговаривалась женщина, – ей-богу, не могу! Никогда не пила я водки, потому что гроши жалела и пьянчужкой сделаться боялась… Что смогла – за здоровье добрых людей выпила… а больше не могу…
Действительно, все знали, что она никогда больше чем полчарки не пила, и потому оставили ее в покое и обратились к Антоську.
– Пей, парень! – выкрикивал Миколай. – Не пойдешь в солдаты, оставили тебя старой матери…
– Пей, – прибавил Ясюк, – за добрую женитьбу и счастливую долю…
Антось, глуповато ухмыляясь, обрадованный, видно, вниманием к нему старших, протянул руку за чаркой.
– Не смей! – крикнула Кристина, встав перед сыном, точно хотела заслонить его от смертоносной пули.
– Пустите, мама! – пытаясь отстранить ее, произнес раззадоренный парень.
– Не смей! – повторила она и так посмотрела на сына, что тот опустил голову и смущенный отошел от стола. А она обратилась к мужчинам: – Сама я не пила и им не разрешала. Сама пить не стану и, пока жива, им не позволю… Они не такие, как у других, они волю матери уважают…
Поза и выражение лица Антоська подтверждали ее слова. Он стоял, опустив глаза, и не помышлял уже о водке. А она продолжала:
– Выросли они у меня не пьяницами, не ворами… Оберегала я их от водки и от всякого греха, как от огня… С малых лет приучала их к послушанию и труду. Видели они, как я горы для них ворочала, света белого за ними не видела, потому и жалели меня и слушались. Вот как я их растила. Сама. Одна. Кроме господа бога, никто мне не помогал.
Ясюк и Миколай не то в знак согласия, не то из уважения кивали головами. Антось приблизился к матери и поцеловал ей руку, а она погладила его по льняным волосам, но тотчас же повернулась к Миколаю. Мысль о том, далеком, которому грозила беда, точно острое жало, пронзила ей сердце. Она снова начала просить отставного солдата, чтобы он походатайствовал за нее перед тем великим «гадвокатом».
– Уж я с Ясюком приду, и чего я с моим бабьим умом рассказать не смогу, Ясюк расскажет.
Миколай поднялся со скамьи и распрощался с хозяином. Они не опьянели от выпитого, но, немного растроганные, обнимались и крепко целовали друг друга в щеки.
Спустя несколько минут в горнице стало совсем темно и тихо. Только из примыкавшего к ней чуланчика, сквозь щели в дверях, пробивался свет и слышался приглушенный шепот. Там на полу перед открытым сундучком сидела Кристина, а за ней стоял Антось с горевшей лучиной в руке, Женщина поспешно отодвинула в сторону скромный запас своей и сыновней одежды и из-под нее, с самого дна сундука, вынула какой-то продолговатый предмет, похожий на узкий мешок, крепко завязанный вверху веревкой. Это был набитый чем-то грубый нитяной чулок. Кристина развязала множество узлов и, вынув из чулка два пожелтевших и почерневших листа бумаги с оборванными углами, почтительно осмотрела их со всех сторон и осторожно, точно они были стеклянные и могли разбиться, отложила в сторону. Это были свидетельства о рождении ее самой и сына и об их правах на этом свете. Не велики и не многочисленны были эти права, но без свидетельств на них они свелись бы к нулю. Как зеницу ока берегла Кристина это сокровище. Кроме того, в чулке оказались ассигнации – однорублевые и, самое большее, трехрублевые, а также серебряные монеты разного достоинства: в десять, пятнадцать и двадцать копеек и даже немного медяков.
Видимо, она складывала в чулок все, что у нее было, – много ли, мало ли, но все, что ей перепадало. За день прополки пшеницы – двадцать копеек, за два дня жатвы – целый рубль, за то, что принесла воды жене наместника, – три копейки, за скирдование – тридцать копеек, за две недели жатвы – две трехрублевки, третья – за то, что три месяца доила арендаторских коров, четвертую и пятую сберегла из батрацкого жалованья Антоська и т. д. и т. д. Когда ей удавалось отложить на завтра из своего ничтожного запаса немного ячменной крупы, картофеля, хлеба и соли, она прятала сбереженный таким образом грош поглубже в чулок. Так, отрывая у себя буквально каждый кусок, она копила девятнадцать лет.
Теперь Кристина пересчитывала ассигнации. Она считала бы долго, если бы не помогал ей сын. Парня, по просьбе матери, учил читать, писать и считать отставной солдат, деревенский всезнайка вроде Миколая. Но читал Антось очень плохо, писать почти совсем не умел; зато считал недурно. Видно, у него были к этому способности, и мать настаивала на занятиях счетом больше, чем на чтении и письме. Общими усилиями они насчитали сто рублей. Кристина подержала их в руке и, глядя сыну в глаза, сказала: