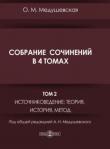Текст книги "Психология войны в XX веке - исторический опыт России"
Автор книги: Елена Сенявская
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 38 страниц)
Официальные установки финского руководства о справедливости их участия в войне полностью согласовывались с общественной атмосферой. Вот как вспоминает бывший финский офицер И. Виролайнен о настроениях общественности Финляндии в связи с началом войны против СССР:
"Возник некий большой национальный подъем и появилась вера, что наступило время исправить нанесенную нам несправедливость... Тогда успехи Германии настолько нас ослепили, что все финны от края до края потеряли рассудок... Редко кто хотел даже слушать какие-либо доводы: Гитлер начал войну и уже этим был прав. Теперь сосед почувствует то же самое, что чувствовали мы осенью 1939 г. и зимой 1940 г. ... В июне 1941 г. настроение в стране было настолько воодушевленным и бурным, что каким бы ни было правительство, ему было бы очень трудно удержать страну от войны"{814}.
Однако, теперь уже советский народ чувствовал себя жертвой агрессии, в том числе и со стороны Финляндии, вступившей в коалицию с фашистской Германией. Великой и Отечественной война 1941-1945 годов была для советских солдат независимо от того, на каком фронте и против какого конкретного противника они сражались. Это могли быть немцы, румыны, венгры, итальянцы, финны, – суть войны от этого не менялась: советский солдат сражался за родную землю.
Финские войска участвовали в этой войне на фронте, который советская сторона называла Карельским. Он пролегал вдоль всей советско-финляндской границы, то есть места боев во многом совпадали с театром военных действий "зимней" войны, опыт которой использовался обеими сторонами в новых условиях. Но на том же фронте рядом с финнами воевали и немецкие части, причем, по многим свидетельствам, боеспособность финских частей, как правило, была значительно выше. Это объясняется как уже приведенными психологическими факторами (оценка войны как справедливой, патриотический подъем, воодушевление, стремление отомстить и т.п.), так и тем, что большая часть личного состава финской армии имела боевой опыт, хорошо переносила северный климат, знала специфические особенности местности. Характерно, что советские бойцы на Карельском фронте оценивали финнов как противника значительно выше, чем немцев, относились к ним "уважительнее". Так, случаи пленения немцев были нередки, тогда как взятие в плен финна считалось целым событием. Можно отметить и некоторые особенности финской тактики с широким применением снайперов, глубоких рейдов в советский тыл лыжных диверсионных групп и др. С советской стороны опыт Зимней войны мог быть использован меньше, так как ее участники были в основном среди кадрового командного состава, а также призванных в армию местных уроженцев.
Таков общий исторический, событийный и общественно-психологический фон взаимовосприятия противников в двух взаимосвязанных войнах, которые, хотя и считаются самостоятельными, в действительности представляют собой эпизоды единой Второй мировой войны на северо-европейском театре военных действий.
Три года продолжались бои на Севере между советскими и финскими войсками – до сентября 1944 г., когда Финляндия вышла из войны, заключив перемирие с СССР и Великобританией и объявив войну бывшему союзнику Германии. Этому событию предшествовали крупные успехи советских войск по всему советско-германскому фронту, в том числе наступление на Карельском фронте в июне-августе 1944 г., в результате которого они вышли к государственной границе, а финское правительство обратилось к Советскому Союзу с предложением начать переговоры.
Именно к этому периоду, связанному с наступлением советских войск и выходом Финляндии из войны, относятся обнаруженные нами документы из Центрального Архива Министерства Обороны.
В первом из них приводятся данные советской разведки о настроениях в финской армии в июле 1944 г., а также выдержки из показаний военнопленного капитана Эйкки Лайтинен. Во втором рассказывается об обстоятельствах его пленения и допросе, но уже не сухим слогом военного донесения, а ярким языком газетного очерка, автор которого – советский капитан Зиновий Бурд. Эти документы предоставляют нам уникальную возможность взглянуть на одно и то же событие глазами двух противников, воевавших на одном участке фронта в одинаковом воинском звании и встретившихся в схватке лицом к лицу.
Для первого документа характерны оба интересующих нас аспекта: и самооценки финской стороны, и сделанные на этом основании выводы советского командования о морально-психологическом состоянии финских войск незадолго до выхода Финляндии из войны (июнь-июль 1944 г.). К этому времени настроения финнов явно изменились, о чем свидетельствуют солдатские письма. Перелом в войне, отступления, в том числе и на советско-финском участках фронта, явно влияли на настроения в войсках. Однако анализировавший документы советский полковник делает вывод, что
"моральный дух финских войск еще не сломлен, многие продолжают верить в победу Финляндии. Сохранению боеготовности способствует также боязнь того, что русские, мол, варвары, которые стремятся к физическому уничтожению финского народа и его порабощению"{815}.
Об этих опасениях свидетельствует выдержка из письма одного неизвестного финского солдата:
"...Больше всего я боюсь попасть в руки русских. Это было бы равно смерти. Они ведь сперва издеваются над своими жертвами, которых потом ожидает верная смерть"{816}.
Интересно, что среди советских бойцов также было распространено мнение об особой жестокости финнов, так что попасть к ним в плен считалось еще хуже, чем к немцам. В частности, были хорошо известны факты уничтожения финскими диверсионными группами советских военных госпиталей вместе с ранеными и медицинским персоналом{817}.
Для финнов было также характерно дифференцированное отношение к гражданскому населению занятых ими территорий по этническому принципу: распространены были случаи жестокого обращения с русскими и весьма лояльное отношение к карелам. Согласно положению финского оккупационного военного управления Восточной Карелии о концентрационных лагерях от 31 мая 1942 г., в них должны были содержаться в первую очередь лица, "относящиеся к ненациональному населению и проживающие в тех районах, где их пребывание во время военных действий нежелательно", а уж затем все политически неблагонадежные{818}. Так, в Петрозаводске, по воспоминаниям бывшего малолетнего узника М. Калинкина,
"находилось шесть лагерей для гражданского русского населения, привезенного сюда из районов Карелии и Ленинградской области, а также из прифронтовой полосы. Тогда как представители финно-угров в эти годы оставались на свободе"{819}.
При этом к лицам финской национальности (суоменхеимот) причислялись финны, карелы и эстонцы, а все остальные считались некоренными народностями (вератхеимот). На оккупированной территории местным жителям выдавались финские паспорта или разрешение на право жительства – единой формы, но разного цвета, в зависимости от национальной принадлежности{820}. Проводилась активная работа по финизации коренного населения, при этом всячески подчеркивалось, что русское население в Карелии не имеет никаких корней и не имеет права проживать на ее территории{821}.
Особенностью финской психологии была большая привязанность к родным местам. Это сказывалось и на характере боевых действий. Так, пленный капитан Эйкки Лайтинен показал:
"...Когда наш полк отходил с Малицкого перешейка, солдаты шли в бой с меньшим желанием, чем теперь, ибо для финского солдата Восточная Карелия является менее важной, чем своя территория. На территории Восточной Карелии солдаты вступали в бой только по приказу. У деревни Суоярви, когда мы уже миновали свои старые границы, солдаты моей роты прислали ко мне делегацию с просьбой приостановить наступление. Это и понятно, т.к. большое количество солдат моей роты – уроженцы районов Ладожского озера, которые хотели защищать свои родные места. Около недели тому назад из моей роты дезертировало два солдата, которые после нескольких дней, однако, вернулись обратно и доложили, что они хотят искупить свою вину в бою. Я их не наказал"{822}.
Вызывают интерес биографические данные этого финского офицера, участника обеих войн, награжденного двумя крестами, первый из которых он получил еще на Карельском перешейке в 1940 году за "доблестную оборону", а второй в 1942 году – за "доблестное наступление". Эти сведения приводятся в статье З. Бурда, где также упоминается жена пленного капитана – военный врач, член шюцкоровской организации "Лотта-Свярд", тоже награжденная двумя крестами{823}.
Поэтому можно доверять свидетельствам этого офицера, с достоинством державшегося на допросе, когда он рассуждает о влиянии "зимней" войны на отношение финнов не только к восточному соседу, но и к идее социализма в целом.
"Мнение финнов об СССР, о социализме, коммунизме за последние 10 лет сильно изменилось, – говорит он. – Я уверен, что если бы 10 лет тому назад солдаты моей роты должны были бы воевать против Красной Армии, они бы все перебежали на Вашу сторону. Причиной тому, что их взгляды теперь изменились, являются события 39-40 годов, когда русские начали войну против Финляндии, а также оккупация русскими прибалтийских стран, чем они доказали свое стремление поработить малые народы..."{824}
Советская пропаганда, как правило, стремилась нарисовать крайне неприглядный образ финского противника. Даже на основании частично описанных выше материалов допроса капитана Э. Лайтинена, судя по которым, он проявил себя как заслуживающий уважения пленный офицер, в красноармейской газете "Боевой путь" в заметке под названием "Лапландский крестоносец" фронтовой корреспондент изобразил его карикатурно и зло. "Трижды презренный лапландский крестоносец", "матерый враг Советского Союза", "белофинский оккупант", "убежденный фашист", "шюцкоровец", "ненавистник всего русского, советского" – такими эпитетами он был награжден, причем даже слово "шюцкор" – то есть название финских отрядов территориальных войск – воспринималось в их ряду как ругательство. Впрочем, финны в своей пропаганде тоже не стеснялись в выражениях, говоря об СССР, большевиках, Красной Армии и русских вообще. В быту была распространена пренебрежительная кличка "рюсси" (что-то вроде нашего "фрицы" по отношению к немцам). Но это и не удивительно: для военного времени резкие высказывания в адрес противника являются нормой поведения, обоснованной не только идеологически, но и психологически.
Следует отметить, что в целом в общественном сознании советской стороны финны воспринимались как враг второстепенный, ничем особо не выделявшийся среди других членов гитлеровской коалиции, тогда как на Карельском фронте, на участках непосредственного с ними соприкосновения, они выступали в качестве главного и весьма опасного противника, по своим боевым качествам оттеснившего на второй план даже немцев. Все прочие союзники Германии не могли похвастать уважением к себе со стороны неприятеля: ни венгры, ни румыны, ни итальянцы, с которыми приходилось сталкиваться советским войскам, не отличались особой доблестью и были, по общему мнению, довольно хлипкими вояками.
По свидетельству ветерана Карельского фронта Ю. П. Шарапова, в конце июля 1944 г., когда наши войска вышли к государственной границе и перешли ее, углубившись на финскую территорию до 25 км, они получили шифровку Генерального штаба с приказом немедленно возвращаться, так как уже начались переговоры о выходе Финляндии из войны. Но пробиваться обратно им пришлось с упорными боями, так как финны не собирались их выпускать. Сравнивая эту ситуацию с положением на других фронтах, ходом освободительной миссии и последующим насаждением социализма в странах Восточной Европы, Ю. П. Шарапов отмечает:
"Мы, те, кто воевал на Севере, относились к этому по-другому. Как только пришла шифровка не пускать нас в Финляндию, мы сразу поняли, что дело пахнет керосином, что нечего нам там делать, – потому что там была бы война до самого Хельсинки. Уж если они в лесу [воюют], и надо было стрелять в затылок, чтобы финн из-за этого валуна перестал стрелять, то можете представить, [что было бы], когда бы мы шли [дальше] и прошли еще 240 километров. Тут и Сталин, и его окружение понимали, что с кем с кем, а с финнами связываться не надо. Это не немцы, не румыны, не болгары и не поляки..."{825}
Среди всех сателлитов Германии, пожалуй, лишь у Финляндии присутствовал элемент справедливости для участия в войне против СССР, который, впрочем, полностью перекрывался ее захватническими планами. Интересно, что мотивация вступления в войну и выхода из нее была практически противоположной. В 1941 году Маннергейм вдохновлял финнов планами создания Великой Финляндии и клялся, что не вложит меч в ножны, пока не дойдет до Урала, а в сентябре 1944-го оправдывался перед Гитлером за то, что "не может больше позволить себе такого кровопролития, которое подвергло бы опасности дальнейшее существование маленькой Финляндии" и обрекло бы ее четырехмиллионный народ на вымирание{826}. Мания величия прошла. А лекарством от этой болезни послужило наше успешное наступление, отбросившее финнов к их довоенным границам.
Исламское общество Афганистана глазами воинов-"афганцев"
Восприятие одной культуры другой никогда не бывает абстрактным: всегда существуют конкретный объект, субъект и ситуация восприятия. Афганская война воспроизвела не такой уж редкий вариант взаимодействия двух принципиально различных культур через военное противостояние, причем ситуация была осложнена тем обстоятельством, что само афганское общество было расколото на две части, одна из которых воспринимала вмешательство СССР в Афганистане как союзную помощь и поддержку, а другая, со временем усиливавшаяся и разраставшаяся, – как агрессию и навязывание силой чуждых порядков.
Проблема "свой – чужой" – всегда центральная во взаимодействии любых социумов, включая социо-культурные образования. Образ "другого" всегда воспринимается через собственный опыт, собственные традиции, психологию и даже архетипы. Чаще всего это происходит отнюдь не дружественно, без излишних симпатий, потому что собственная культура, собственные обычаи в силу человеческой психологии представляются более значимыми, а иногда и самоценными, тогда как к инородным явлениям относятся либо безразлично, либо настороженно. Ситуация, когда носители одной культуры вторгаются в среду другой, используя силу, превращает эту изначально неблагожелательную "нейтральность" в активную враждебность, которая тем сильнее, чем дальше друг от друга отстоят эти культуры. В этом смысле Афганская война классический вариант такой ситуации, причем с обеих сторон.
Однако в советских войсках, вступивших в Афганистан, при всей их общности как представителей "советского народа" с присущим ему на поверхностном, "надстроечном" уровне менталитетом (идеологические стереотипы, внедренные государством), служили люди разных национальностей, вероисповеданий, культур. Отсюда вытекает проблема дифференцированного восприятия афганского общества и его традиций различными субъектами, представлявшими в "ограниченном контингенте" различные субкультуры.
Среди них можно условно выделить три больших категории. Первая – это наиболее близкие афганским народам по культуре и обычаям выходцы из Средней Азии (таджики, узбеки, туркмены и др.). Этническая, языковая и религиозная общность при всем внешнем государственном влиянии создавала в этих случаях основу для восприятия афганской культуры как родственной, хотя и отсталой, застывшей в своем развитии где-то на уровне средневековья. Более удаленной была позиция представителей других народов, также исповедовавших ислам (например, татар, некоторых народов Кавказа и др.), хотя религиозная общность позволяла воспринимать афганскую культуру менее отчужденно и даже видеть в ней какие-то родственные черты. Наконец, позиция наибольшей отчужденности в восприятии была свойственна основной части воинского контингента, которая как раз и характеризовалась максимальными этническими, религиозными и социо-культурными отличиями. Это была ситуационно специфическая позиция восприятия азиатской мусульманской культуры восточными европейцами (славянами, прибалтами и др.).
Конечно, не следует преувеличивать религиозные основы этих различий, потому что шесть-семь десятилетий атеистической советской власти во многом усреднили образ жизни и мышления представителей и различных этносов, и религиозных концессий. Однако не стоит и преуменьшать, так как на уровне базовых традиций, обычаев, бытового поведения и обыденного сознания религиозные корни различных этно-культур в целом были очень сильны. (Об этом, например, свидетельствует ситуация в посткоммунистической Югославии, где при этнической близости населяющих ее народов после десятилетий официального атеизма религия стала главным фактором противостояния в обществе и распада государства.)
Основной интерес для нашего анализа представляет именно позиция третьей категории советских воинов-"афганцев", – и потому, что за исключением начального этапа войны они представляли подавляющее большинство в "ограниченном контингенте", и потому, главным образом, что восприятие это особенно ценно с позиции наибольшей разницы потенциалов "мусульманской" и "христианской" культур.
Следует подчеркнуть несколько важнейших параметров самой ситуации восприятия и ряд вытекающих из нее следствий. Во-первых, это было не "дистанционное" восприятие, при котором в общественном сознании стабильно существует некий набор стереотипов и предрассудков, а непосредственно личностное, действенное, в прямом контакте, следствием чего был конкретный опыт взаимоотношений, а само восприятие было чувственно-образным и эмоциональным. Не случайно значительная часть источников, создававшихся в ходе событий в Афганистане и даже после их окончания, фиксирует прежде всего чувства и переживания участников, а уже потом осмысление и анализ того, что там происходило.
Во-вторых, ситуация восприятия была экстремальной, как всякая война, в особенности на чужой территории. И тут, безусловно, на отношение советских военнослужащих к жителям Афганистана накладывался сложный комплекс чувств: их воспринимали не только как представителей иной культуры, но и как потенциальных или реальных противников, которые могут в любой момент выстрелить, напасть из-за угла, заманить в засаду, захватить в плен, убить. И здесь традиционный стереотип о восточных жестокости и коварстве очень часто находил подтверждение на практике, причем особенно в отношении к иноверцам-европейцам. Один из источников приводит распространенную формулу моджахедов (то есть "борцов за веру", как они сами себя называли), когда они предлагали сдаться окруженным советским солдатам:
"Мусульман, выходи, живой будешь. Шурави, сдавайся, не больно резать будем!"{827}
В-третьих, – и это только подтверждается приведенным выше свидетельством, – поскольку ядром СССР являлись Россия и славянские республики, то фактически и афганскими моджахедами, и советскими войсками война воспринималась как противостояние культур, только одни это открыто формулировали, призывая к "джихаду" (священной войне против "неверных"), а другие под лозунгом интернациональной помощи внедряли в чужую среду свои, чуждые ей идеи.
В-четвертых, важной характеристикой ситуации была ее крайняя противоречивость.. Советский "ограниченный контингент" выступал, с одной стороны, "классовым" союзником "народно-революционной" власти Кабула; с другой, – воспринимался как агрессор многочисленными, разношерстными ее оппонентами, за которыми стояла огромная часть народа. Советские войска вмешались во внутренний политический конфликт, в гражданскую войну, что сразу изменило ее характер: противники центральной власти фактически объявили войну национально-освободительной и повели ее под религиозными знаменами. Факт появления чужеземных солдат исключительно свободолюбивым, независимым афганским народом был воспринят как иностранная интервенция{828}. И чем активнее были советские военные операции в поддержку Кабульского правительства, тем сильнее возрастало сопротивление оппозиции, привлекавшей на свою сторону все более широкие слои населения.
Это не могли не замечать и советские военнослужащие. Отсюда и крайняя противоречивость восприятия ими самой войны и афганского народа. С одной стороны, некоторая романтизация событий как следствие официального лозунга об интернациональном долге, братской помощи афганским революционерам, защите государственных интересов СССР и его южных границ; с другой, личный опыт жесткого противостояния с опасным и жестоким врагом, ведущим партизанскую войну, при отсутствии четкой грани между мирным жителем и душманом. Несомненно, на восприятие войны, а через нее и афганского общества, влиял тот факт, что противниками "народной власти" почему-то оказывались не только "банды моджахедов", но и сам народ – от мала до велика, вне зависимости от "классовой принадлежности". При этом, наверное, стоит говорить об изменении доминанты восприятия – от начальной к завершающей стадии войны. Если в 1980 году советских солдат, положивших конец зверствам режима Амина, встречали цветами, и у них появлялось ощущение того, что им действительно рады (хотя и тогда уже началось внутреннее сопротивление, первые обстрелы, первые жертвы), то к 1989 году таких иллюзий уже ни у кого не осталось{829}.
В-пятых, ситуация восприятия характеризуется и особенностью его субъекта: это были преимущественно военнослужащие, то есть люди на тот момент одной профессиональной категории, хотя среди них находились и солдаты срочной службы, и кадровые офицеры. Кроме того, в абсолютном своем большинстве это была молодежь, попавшая на войну прямо со школьной скамьи. То есть люди, почти не имевшие жизненного и социального опыта, неожиданно оказались в чужой стране, в непривычной и враждебной среде, в экстремальных обстоятельствах. Следствием чего явилась высокая степень эмоциональности в отношении к событиям и к окружающей действительности. Эта особенность отразилась и в источниках – как личного происхождения (письма, дневники, мемуары, устные воспоминания-интервью), фиксирующих такое восприятие, так и в имеющих художественную основу (авторские стихи, песни, солдатский фольклор). В последней категории источников в обобщенной символической форме выражен весь спектр отношений к афганской войне, – и к афганскому обществу, и к самой ситуации войны, и к своему месту в ней. С учетом приведенных выше, а также ряда других параметров и следует оценивать ситуацию восприятия советскими воинами афганского общества, его обычаев и традиций в рамках исламской культуры.
"Что расскажешь о Востоке?
Непривычная страна:
Здесь совсем другие
Боги и другие имена..."{830}
написал об Афганистане Игорь Морозов. А в других своих стихах добавил:
"Здесь сошлись два века в противостоянии
Век двадцатый и четырнадцатый век"{831}.
В самом деле, первое, что бросалось в глаза прибывшим в чужую страну советским солдатам, – не столько восточный колорит и экзотика, сколько ужасающая бедность: убогие глиняные постройки, оборванные, грязные, вечно голодные ребятишки, выпрашивающие "бакшиш" (подарок), нехватка или отсутствие привычных "плодов цивилизации", отчего возникало чувство, что ты отброшен назад во времени. И принятое здесь летоисчисление по мусульманскому календарю символически очень точно отражало самую суть ситуации.
"Что больше всего поразило в Афганистане – это нищета, – вспоминает рядовой С. Фесюн, проходивший службу в 1980-1981 гг. в Кандагаре. – Когда мы приехали, зима была. Снега не было, но ветер, пронизывающий до костей, злой какой-то. Мы, солдаты, в ватных бушлатах и то мерзли. А местные крестьяне в это время босиком ходили. Все их жилища из песка и глины слеплены. Тогда же я увидел, как дерево продают на килограммы, тщательно взвешивая"{832}.
При всей своей бедности афганские декхане, составляющие подавляющее большинство населения, очень трудолюбивы:
"На полях люди работают не разгибая спины с утра до вечера. Почва плохая: песок вперемешку с камнями. Удобрений никаких. И все же два урожая в год снимают"{833}.
Тем удивительнее казалось сочетание этого качества с другими: вороватостью, корыстностью, даже продажностью. Обман при совершении торговых сделок рассматривался как явление вполне достойное. Причем, если в отношении мусульман между собой существовали своеобразные нормы честности, то "надуть" иноверца считалось особой доблестью. Широко было распространено воровство, даже открытое. Так, с проезжающих мимо военных машин афганцы заимствовали все, что легко откручивается. Особенной ловкостью в такого рода делах отличались местные пацаны{834}.
С другой стороны, нельзя было не заметить разительные контрасты местной жизни: Афганистан существовал одновременно как бы в двух измерениях – в темном средневековье и в "просвещенном" XX веке, причудливо сочетая признаки и того, и другого.
"Конечно же, нашей первой точкой оказался базар, – рассказывает рядовой А. Г. Банников, служивший в Афганистане в 1985-1986 гг. – Мы словно попали в века минувшие: декхане в рваных халатах, совсем нет женщин, около дуканов, как бы вмонтированные в стены, на корточках сидели то ли нищие, то ли хозяева этих магазинчиков... Но когда мы взглянули на прилавки дуканов, то убедились, что это век будущий. Наимоднейшие шмотки, которые несколько недель назад были сшиты на какой-нибудь американской или английской фабрике. Рядом с ними беспорядочно лежали японские магнитофоны, телевизоры. Часы всех мастей, духи..."{835} То же можно сказать и об оружии: начиная войну с дедовскими "бурами", душманы вскоре получили и освоили самое новейшее вооружение вплоть до ракетных установок. Средневековое по уровню сознания общество успешно противостояло современной армии, используя против нее как современные средства ведения войны, так и тактику партизанских действий, основанную на вековом опыте и знании местности, тесном взаимодействии боевиков с "мирными" жителями.
Второе впечатление – огромная религиозность местного населения. Для людей, в большинстве своем воспитанных в духе атеизма, подобная атмосфера была особенно непривычна и неожиданна. Вот как описывает свои впечатления рядовой А. Бабак, проходивший службу в Кабуле и Шинданде с 1980 по 1982 г.:
"Что в первое время очень удивляло, так это намаз в мечетях. Пять часов утра, до подъема еще час самого сладкого солдатского сна, а тут вдруг проповедь муллы из громкоговорителей. Жили в палатках – все было слышно. Голос у муллы какой-то жалобный и вместе с тем требовательный. Бывало, даже невольно посочувствуешь: уж больно беспокойная должность у человека. С утра до вечера служит Аллаху"{836}.
Пожалуй, наблюдая скрупулезное соблюдение религиозных обрядов как душманами, так и правительственными войсками (когда, например, посреди боя и "духи", и "сарбозы" дружно прекращали стрельбу и опускались на колени, чтобы совершить намаз), советские солдаты сильнее всего могли ощущать, что это чужая война и как неуместно их вмешательство во внутреннюю жизнь этой страны. Различие культур обусловливало и специфику ведения советскими войсками боевых действий: они были свободны от многих психологических барьеров, характерных для их союзников-царандоевцев. Так, ефрейтор А. Шатров, служивший в Афганистане в 1982-1984 гг., вспоминает, что во время одной операции они
"выловили больше сотни человек из банды, которая основательно трепала наши войска. Правда, нарушили мусульманский обычай – проверили женские покои, которые есть в каждом доме. Бандиты в них и прятались, закутавшись в женскую одежду и паранджу. Афганские солдаты, которые до этого несколько раз "чесали" Самаркандиан, туда не заходили"{837}.
Восточные традиции и религиозный фанатизм проявлялись во всем поведении моджахедов: убить врага и надругаться над его трупом считалось особой доблестью; обычным делом были зверские расправы над пленными; своим за любую провинность рубили головы{838}. Весьма характерно и отношении "духов" к опасности: все они смелые воины, но это смелость особого рода, основанная на исламском фатализме, покорности судьбе, то есть воле Аллаха. Погибнуть в бою, пролив кровь за веру, – значит обеспечить себе пропуск в рай, но при этом они панически боятся бескровной, "неправедной" смерти быть утопленными, задушенными или повешенными{839}. Таким образом, отношение к смерти у них специфически религиозное, идущее от исламских догматов. Для советских "безбожников", воспитанных тем не менее в культуре, имевшей христианские корни, это было весьма непривычное и странное мировоззрение, вызывавшее резкое неприятие.
В свою очередь для душманов "шурави" были не только чужеземцами, вставшими на сторону непопулярной политической группировки, которая, захватив центральную власть, стала нарушать вековые традиции, оскорбляя чувства верующих (закрывались мечети, расстреливались муллы, привлекались к общественной жизни женщины и т.д.){840}. Они были "кафирами" (поборниками иной веры), и война с ними считалась священной, получившей благословение Аллаха. Возможно, именно это обстоятельство наряду с общей психологической напряженностью вызывало в советских войсках вспышки религиозности среди атеистов: у людей возникала настоятельная потребность противопоставить уверенному в своей "праведности" неприятелю нечто равноценное в духовном плане. Идеологические клише, звучавшие на политзанятиях, для этого уже не годились: в реальной обстановке Афганской войны они выглядели беспомощными и нелепыми.
Ислам – не только религия. Это образ жизни и мыслей, ядро целой цивилизации – чуждой и до конца непонятной, отторгающей чужака-европейца. В Афганистане это было особенно заметно, потому что обычаи, характерные для исламского мира в целом, накладывались на тысячелетние традиции народа, который всегда выходил победителем в борьбе с внешним врагом, и любые попытки вторжения на его территорию заканчивались для завоевателей плачевно. В любом кишлаке, у каждого племени, рода и клана существует свое ополчение, так называемая "лашкара". Численность таких отрядов может составлять от десятка до нескольких тысяч человек (в межплеменных формированиях). А так как место погибшего воина по освященному веками обычаю обязан занять сын, брат, любой другой родственник или соплеменник, то
"война с "лашкарой" для любой регулярной армии бесперспективна, если речь не идет о победе любой ценой"{841}.