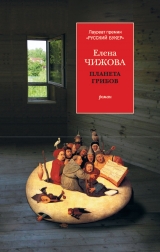
Текст книги "Планета грибов"
Автор книги: Елена Чижова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Подумала: в раю хорошо, никого нет. Только бог с родителями и всякие животные. Гуляй где хочешь. Не то что в этом саду. Не протолкнешься, прямо как в парке Победы. Только в парке одетые, а здесь голые. И вообще какие-то уродцы…
Следующий раз все-таки спросила. Отец ответил: «Они не уродцы. Самые обычные люди, как мы». – «Мы?! А этот?» – ткнула пальцем в какое-то чучело в шляпе: огромное, помесь яйца с человеком, вместо ног сучковатые ветки, вместо тапочек – лодки. «Этот? – отец задумался, будто в первый раз увидел. – Трудно сказать. Каждый понимает по-своему».
Тогда она даже разозлилась. Как это – по-своему! Но он вдруг сказал: «Нам кажется, что мы созданы по образу и подобию. А на самом деле…» – махнул рукой. «Что, что на самом деле?» «На самом деле… – отец остановился в дверях. – Всего намешано: и птичье, и звериное…» – «А рыбье?» – ляпнула просто так, первое, что пришло в голову. «Рыбье? Да-да, особенно рыбье… – он не шутил. Смотрел, будто ее здесь не было. Будто говорил сам с собой. – Вот вырастешь…» Подумала, сейчас снова скажет: вырастешь – узнаешь. Но он сказал: вырастешь, не дай тебе бог узнать.
Смотрела на голых человечков, похожих на личинки насекомых. Если люди такие противные, зачем Бог на них смотрит? Взял бы и раздавил.
В пятом классе подружилась с Веркой Овсянниковой. Верка мечтала стать художницей, занималась во Дворце пионеров. Однажды, когда родителей не было, затащила в отцовский кабинет. «Смотри, какая картина». Верка фыркнула: «Во-первых, не картина, а репродукция, можно сто штук повесить». – «Как ты думаешь, почему Бог им не поможет? Разве ему трудно победить маленьких чудовищ, которые только мучают?» Верка удивилась: «Как это – победить! Ты что, дура? Не понимаешь? Это же – Страшный Суд. Бог специально придумал: чтобы люди грешили, а потом он будет их мучить. Нам во Дворце рассказывали».
Ей казалось, тот страх давно исчез. С тех пор как выросла, привыкла всё держать под контролем.
«Надо наре́зать картошку. Сырая картошка жарится долго…» – но она стоит, забыв о том, что сковородка уже раскалилась. Будто вслушивается, пытаясь понять. Вспомнить, восстановить шаг за шагом: казалось бы, обычная история. Сколько раз, бродя по лесу, сбивалась с дороги… «Господи, ну и что?!» – это же не тайга, километры и километры непроходимого леса…
Выйдя на крыльцо, вглядывается в силуэты деревьев. Трава, кусты… Все, к чему привыкла с детства. «Хватит, – решительно возвращается к раскаленной плитке. – Я – не дикарь. Это дикари боялись леса, населяли богами и духами…» Видимо, что-то осталось, затаилось где-то в глубине, время от времени вылезает наружу. Современный человек, наделенный здравым смыслом, должен уметь справляться.
Белые клубни нарезаны, сложены горкой на чистую тряпку – кажется, бывшее полотенце: первое, что попалось под руку, когда рылась в шкафу. Она промокает тщательно: главное, ни капли воды. Картошка должна быть сухой, иначе не получится вкусной корочки. Это только кажется, будто она готовит простое блюдо. Если не рассчитать времени, грибы выйдут жесткими, картошка – горелой.
Прислушиваясь к шкварчанию картошки, сдергивает с гвоздя тряпку, подхватывает горячую кастрюлю: грибы сварились, теперь их надо слить. Не у крыльца, лучше там, за участком.
Она выходит за калитку. Прижав крышку, наклоняет кастрюлю – коричневая струя льется под дерево. Встряхивает, опять наклоняет, выцеживая последние струйки. Лужа, пахнущая грибами, курится горячим паром. Корни наверняка обожгло, на этом месте останется проплешина. Она усмехается: то, что она сделала, – своего рода месть. Дерево – дитя леса. Держа кастрюлю обеими руками, прислушивается. Лес молчит. «Все правильно, – держа кастрюлю на вытянутых руках, возвращается обратно. – Настоящий дикарь принес бы жертву – в благодарность за чудесное спасение. Мне это не приходит в голову. Значит, человечество движется вперед…»
Если резать на столешнице, останутся следы от ножа. Теперь это не имеет значения. Стол отправится на помойку. Она задирает угол клеенки, правой рукой, которой держит нож, откидывает упавшую прядь: «Ополоснулась, а все равно испарина».
Вытирает лоб, покрытый каплями пота.
Наливает масла на правую сковородку. Выкладывает грибы. Деревянной лопаткой шевелит картошку, уже чувствуя: что-то не так. Картошку уже прихватило. Не иначе барахлит регулятор. «Чертова плитка! Все-таки надо было купить… Снять деньги, вернуться. Но кто же мог знать, что найду этот пень… – от сковородки несет горелым. Похоже, левая конфорка сломалась окончательно. – Плевать на эту картошку, буду есть одни грибы».
Грибы почти что готовы. Осталось добавить сметаны. «Ложку, а лучше – две», – зачерпывает поглубже. Размешивает быстро и ловко. Края вскипают мелкими беловатыми кружевами.
От запаха жареных грибов замирает сердце. Накладывает себе: щедро, с горкой. Подхватив колченогий стул, выходит на крыльцо.
В правой руке вилка, в левой – полная тарелка.
Она закрывает глаза. Жует: медленно и внимательно, словно весь мир сосредоточится на ее зубах, горле, пищеводе. Жареные грибы – наслаждение, одно из самых главных в ее земном саду.
«Как это называется? Отвальная? Поминки?.. В моем случае и то, и другое…» – смотрит на близкие деревья, на лес, который сперва напугал до смерти, но потом задал ей пир на весь мир.
Она передергивает плечами, поворачивает голову: над соседской крышей стоит дым. Конец июля, а топят печку… Интересно, кто у них там: та женщина? Теперь совсем состарилась. Представляет себе худенькую фигурку: ситцевое, в мелкий цветочек. Хотя этого быть не может: ситец столько не живет. А может, и не она, а ее муж. Светлые волосы, худой – черты лица помнятся смутно. Их сын наверняка женился. Жена, дети… Ей нет никакого дела до чужих детей.
«Завтра разберу вещи. Прямо с утра. Потом позвоню антиквару. Договорюсь, чтобы приехал немедленно. Эти, с кадастром, тоже приедут, должны… Все организовано. Теперь пойдет по накатанной, само…» – еще вчера она бы сказала это уверенно, но сегодня что-то изменилось…
На улице страшная жара. Она втаскивает стул на веранду, заходит в дом. Стоит, поводя плечами: нет, не то чтобы холодно, скорее, влажно. Сырость, нежилой дух. «Соседи топят. Может, и мне?.. В сарае должны быть дрова… – с дровами возиться не хочется. Накидывает крючок на дверь. – Просто я отвыкла. В Репине всё больше лиственные. Здесь сплошные ели и сосны. Надышалась фитонцидами, поэтому и знобит».
Растягивается на кровати, чувствуя под головой комковатую подушку: «Все-таки надо было вынести, положить на солнце… – под веками, налитыми грибной тяжестью, плывут деревья. – Это же мой лес: с детства, знала каждую тропинку», – уговаривает себя, понимая, что дело не в лесе, не в воздухе, полном фитонцидами.
Тот листок. Из отцовской рукописи, в которой герой разговаривает со своей Ниной. Утром пробежала глазами, сунула обратно, рывком задвинула ящик. Встает, идет к комоду, дергает: ящик не поддается. «Да-да, я помню… Сломались направляющие». Чтобы добраться, надо вынуть верхний, в котором нет никаких рукописей, только старые тряпки. В ее детстве из тряпок делали макулатуру.
Она садится на корточки, просматривает листок за листком, вот он:
– Нина, Ниночка! Я знаю, мы с тобой – одно целое!… Знаешь, о чем я мечтаю?
Чтобы мы с тобой прожили сто лет и умерли в один день…
Слова, написанные отцом. Идиотские, фальшивые, не имеющие ни малейшего отношения к жизни. Этои есть помрачение, которое терзало весь день: смотрело на нее из леса.
«Может быть, читал при мне?.. Неужели осталось в памяти?..»
Кладбищенский мужик, которому заказала надгробья, специально перезванивал, уточнял. Подтвердила: все правильно, никакой ошибки. Мои родители умерли в один день.
На самом деле отец умер в понедельник, мать дожила до вторника.
Она сглатывает грибную слюну. Окажись на ее месте другая дочь, чьи родители умерли почти в один день, потому что отравились грибами…
Упершись обеими руками, наваливается всей тяжестью. Направляющие хрустят. Проклятый ящик припадает на правый бок, проваливается окончательно. Чтобы вытянуть, надо разобрать всю конструкцию, прибить новые направляющие. «А вот это – без меня…»
Пусть разбираются новые владельцы. Захотят – починят. Но скорее всего, выбросят или сожгут в печке.
«Может, сходить в церковь?.. Договориться, заказать панихиду…»
Полгода назад зашла в Казанский собор. Раньше здесь был Музей религии и атеизма. В детстве ходили с классом: тетка-экскурсоводша рассказывала про инквизицию, демонстрировала орудия пыток. Потом сказала: представляя себе картины ада, люди исходили из того, что сами же и делали, когда терзали своих врагов. Из всей экскурсии запомнила только эти слова.
Темный женский лик, в глазах – суровое умиление.
Отошла и встала в сторонке. Скорее всего, просто растерялась. Даже для нее, быстрой на решения, слишком неожиданный переход: из солнца, заливавшего Невский, в сумрачную полутьму собора. В церкви всегда просят. Стояла, чувствуя неловкость.
Чтобы разговаривать с матерью бога, надо знать правильные слова. У нее не было слов, чтобы высказать то, о чем думала: пусть твой сын построит всё заново, создаст новый мир, в котором любовь женщины не загоняется в рамки чужой жизни… Вдруг сообразила: об этом нельзя, ее любовь – грех. Если не об этом, тогда – о чем? О смерти?.. Но смерть придет и так. Рано или поздно, без всяких просьб.
Старуха, стоявшая рядом, шептала истово. Наверняка знала правильные слова. Темный шерстяной платок. Кацавейка поверх пальто: обтерханная, застегнутая наглухо. Будто нет никакого солнца. Снаружи – зимняя тьма. «Чтобы бог услышал, надо стать такой». Стояла, опустив руки, понимая: у нее не получится, за плечами этой старухи – другая жизнь. Чтобы напялить такую кацавейку, надо забыть о себе: смолоду, в самом начале жизни. «Нет, не то… При чем здесь кацавейка? Я привыкла полагаться на себя. Чтобы превратиться в эту старуху, надо начать заново, перечеркнуть свою жизнь, опыт, привычки…»
Не заметила, как вышли священники. Прислушивалась, не понимая. Точнее, понимая, но только отдельные слова. Будто они читали разрозненные листки какой-то будущей книги: начатой, но так и не законченной. Уже не вслушивалась. Смотрела им в глаза: глаза соотечественников, хоть и одетых в одежды древнего времени. Но разве это что-то меняет? «Их мысли совпадают с моими. Только я не пытаюсь скрыть: спрятать под тяжко вышитыми одеждами. Моя мать всегда вышивала – я знаю: все вышивки несовершенны. Как божий мир… Неужели твой сын сам не видит, что из этого вышло? Миллионы лет сидел на небесах, как на чердаке: небесный отец. Все думали: пишет новую книгу. На самом деле – наброски. Разрозненные листки. Спускаясь вниз, оглашал вслух, проверял интонации на людях, тех, кто готовы слушать с умилением…»
Потом, когда вышла на улицу, подумала: «Атеизм отменили. Остался Музей религии». Обходя крыло колоннады, смотрела на выщербленные колонны. Остановилась, озираясь тревожно, пытаясь найти слова:
«Я – тварь. Тварь должна принимать мир таким, какой он есть. Верить, что он совершенный. Мир – великая книга, написанная миллионы лет назад…» – стояла, нанизывая слова, идиотские, фальшивые, какие бог не может услышать. Как в книгах, стоящих на дачных полках…
Тяжелый день. Просто тяжелый день. Она привыкла к усталости, ежевечерней, которая сводит плечи. Но сегодня – что-то другое. Встает, идет к книжному шкафу.
Книги, выцветшие, будто присыпанные пылью. Протянув руку, берет наугад. Открывает титульную страницу.
Коллеге по писательскому цеху. Прими сей плод темных ночей и светлых дней.
«Феерическая пошлость… Хотя какая разница? Снотворное – почитаю и усну».
Творения коллег по цеху – все с дарственными надписями – отец свозил на дачу. Говорил: в городе читать некогда, не то что здесь, на природе. Эти книги читала она. Иногда спрашивала: «А этот тебе нравится?» Отец мычал неопределенно. Готова поспорить: даже не открывал. Предпочитал русскую классику. На городских полках стояли собрания сочинений. Когда задавали по литературе, спрашивала: «Можно я возьму Гоголя?» После нее отец всегда пролистывал. Искал карандашные пометки, требовал: сотри. Будто галочка на полях кому-нибудь мешает.
«Уж лучше галочки, чем эти идиотские надписи…» – отложив книгу, выходит во двор. Здесь тихо, ни малейшего ветерка. Ни чужих губ, которые о чем-то просят.
Однажды спросила: ты веришь в бога? Отец задумался: «Не знаю, вера – трудный вопрос… Но, с другой стороны, творческий человек должен во что-то верить. Необходим надличный посыл. Без этого ничего не получится. Иногда кажется, будто это – не я, моя рука: пишет, а кто-то диктует…»
Она поднимает глаза, смотрит в небо, затянутое вечерним маревом. Гоголю она бы поверила. Но что это за бог, который движет рукой графомана?
Одергивает себя. «Что я говорю!» Если б священники услышали, наверняка бы решили: в этой женщине разыгрались бесы. Возможно, они и правы, но она должна попробовать. В сущности, с ее стороны даже не просьба, почти деловое предложение. Если бог все-таки есть, он – другой. Не графоман, покровительствующий отцу и его беспомощным коллегам по цеху. Настоящий бог не чужд деловой жилки. В конце концов, однажды решился и сделал.
– Господи, кто тебе сказал, что мир – великая книга? Критики лгут. В качестве дебюта – куда ни шло: опубликовать в каком-нибудь журнале, например в «Юности». Шесть дней – не такая уж большая работа. Почему не попробовать заново? Надо только решиться. В первый раз ты начал со слова. Слова, которые произносят мои соотечественники, лгут. Я – тоже лгу. Иначе невозможно работать. Правду говорят бедные и беспомощные. Но они не знают правды, поэтому тоже лгут… —
* * *
Он выбирается из ванны, снимает с гвоздя сыроватое полотенце. Садится на табуретку. По очереди задирая ноги, вытирает ступни, тщательно, особенно между пальцев.
Нормальные люди начинают с головы. Потом – туловище и руки. Ноги – в последнюю очередь.
«Я не могу стоять с мокрыми ногами», – упрямо, будто мать его слышит.
В топке полыхает огонь. Окрепшие языки охаживают деревяшку, лижут самозабвенно.
Он ощупывает колонку: горячая вода стоит высоко. Ничего удивительного: он привык мыться экономно. Когда прогорит, вода нагреется до самого верха. Хватило бы еще на одного… или двоих…
Торопливо, будто с языка чуть не сорвалось лишнее, натягивает брюки, чистую рубашку: когда тело влажное, это не так-то просто. Комкает грязное белье.
Вьюшку не закрывай, угоришь.– Это уже в спину, можно не оборачиваться, не обращать внимания.
Напоследок пригнув голову, будто поклонившись, выходит во двор.
Пока мылся, совсем стемнело. Но главное, похолодало. Или кажется, после банной жары. Неприятно давит голову. Он останавливается, прислушиваясь: голова будто не своя.
Надо поесть. Это от голода…
Он хочет сказать: «От голода – это у вас».
В Ленинград приехали после войны. Работали, учились, строили дачу… Всю жизнь делали запасы: мука, крупа, макароны, соль, спички. Когда в доме кончался хлеб, отец нервничал, заглядывал в хлебницу: «Посмотри, у нас нет хлеба». Мать всегда покупала с запасом, потом, когда куски плесневели, сушила сухари. Однажды спросил: «Вы голодали в детстве?» Отец испугался: «Голодали? С чего ты взял?»
Если не они, наверняка их родители. Отсюда и страх – где-то в глубине. «Неужели в генах?»
Он задирает голову, пытаясь поймать глазами инопланетный корабль, приближающийся к нашей планете. Капитан знает толк в земной генетике. Вот кому следует задать этот вопрос. В небе пусто: ни летающей тарелки, ни даже луны – серебристого диска или ломтика. Хотя свет откуда-то льется, неверный, очерчивающие самые общие контуры. В лесу что-то шуршит. Звук не то чтобы пугающий, но неприятный. Он усмехается: «Чем не пример генетического страха… Предки верили в духов: кто-то же должен отвечать за урожаи, приносить болезни, обеспечивать порядок в доме, карать закоренелых грешников…» – подобрав черенок лопаты, подпирает дверь.
Покачивает, проверяя придирчиво: «Ничего, это в последний раз. Завтра явится бригадир или кого-нибудь пришлет». Стоит, разминая запястья. Последнее время по вечерам потягивает руки. Весь день за машинкой, стучишь как дятел по клавишам.
А может, дело не в машинке?.. Фантомные боли, остались в наследство. Сколько же они ходили?.. Лет пять. Пока в поселке не пустили водопровод. Каждый вечер от дома до ручья. Вверх-вниз, от сумерек до темноты. Две сильных бессонных тени. По четыре ведра на каждое дерево. По три – на каждую грядку. По два – на куст. Всегда засыпал раньше, чем они ставили пустые ведра: под крыльцо, кверху дном. Шли по ступеням, разминая руки, шевеля затекшими пальцами, – сквозь сон он прислушивался к их тяжким шагам. Никогда не жаловались на боль, может, просто не чувствовали?.. Не ждали милости от природы…
Труд, труд и труд… Для них он был и верой, и истиной, и жизнью. Arbeit macht frei…
Однажды, кажется, в начале девяностых, спросил отца: как ты думаешь, кто первым использовал эту фразу – Труд делает свободным? Отец опешил: как – кто? Фашисты. На воротах Освенцима.
Предъявил фотографию. «Что это?» – отец смотрел недоверчиво. «Это – у нас. На Соловках». Отец замахал руками: «Как ты можешь сравнивать!»
Потом и сам пожалел, что завел разговор. Какое отношение его родители имеют к истории? Свою жизнь они прожили честно.
Он гасит свет на веранде, сняв рубашку, вешает на спинку стула.
Запястья крутит все сильнее: «Распарил. Не надо было так долго. Ополоснуться и выйти… – он подтягивает одеяло к подбородку, чувствуя проросшую щетину. – Завтра побриться. Утром, до того, как придет бригадир…» – Кряхтя, поворачивается на бок. Закрывает глаза. Снова наплывают грибы. Женские и мужские – в зависимости от внешнего вида… Древние культуры относились по-разному. У одних – пища богов, божья плоть. У других – еда мертвецов, хлеб дьявола… Шут его знает, а вдруг какое-нибудь четвертое измерение, куда можно попасть, наевшись грибов: говорят, в некоторых поганках есть особое вещество – сродни наркотику, расширяющему сознание… В русском языке язычников тоже называли поганые…
Грибы исчезают. Теперь всплывает лицо. Женщина, с которой он, раньше говорили, близок.
В данном случае всего лишь пересечение жизненных траекторий – в самом обыденном смысле: раз в неделю, иногда реже, по предварительной договоренности, которая в любой момент может сорваться, поскольку всецело зависит от произвола ее домашнего идола. Обездвиженного, требующего жертв. Время от времени в полумертвом теле просыпаются какие-то нервные рефлексы, похожие на перебои сердца: идол впадает в панику. Дочь вынуждена остаться дома – у многолетнего материнского одра.
Когда удается вырваться, приходит, устраивается на кухне. Заваривает чай. Греет руки о чашку. Он не очень-то вслушивается, относится как к неизбежному. Что-то вроде жертвы, которую обязан принести. Однажды сказала: «Я отвлекаю. Тебе надо работать. Но пойми. Для меня наши разговоры – драгоценность. Иногда мне кажется, это и есть самое важное». – «Разговоры? – переспросил обиженно. – Ты хочешь сказать, что я как мужчина…» – «Нет-нет, – она поняла и заторопилась, – это, конечно, тоже. Но дома мне вообще не с кем…»
Конечно, он может понять. Женщины вообщеразговорчивы.
Месяц назад, ни с того ни с сего, заговорила о доме престарелых. Он напрягся: неужели сдаст мать. А что потом? Что ей взбредет в голову, когда вырвется на свободу? Предложит сойтись? Навострил уши, но, кажется, она говорила о другом. Где-то прочла: в Европе дома для престарелых устроены замечательно. Старики сами туда стремятся: квалифицированный персонал, общение со сверстниками, уход… И главное, на все это им вполне хватает пенсии. «А у нас… – махнула рукой. – У нас вообще…»
Он кивнул, предполагая, что сейчас она перейдет от общего к частному: мать лежит, никаких сил ухаживать. Но она заговорила о каких-то роковых ошибках, которые нельзя исправить: даже вернувшись в исходную точку, отступив назад. Он не понял, но не стал перебивать: пусть лучше об ошибках, лишь бы не о будущей общей жизни.
«Понимаешь, шаг назад – самый прямой путь. Это… как попытаться сделать вид, что никакой ошибки не было. Я давно думаю об этом. Прямые пути – самые опасные», – вопреки словам, ее голос звучал неуверенно, будто она не знала, в какой точке совершила свою роковую ошибку: родилась от этой матери? Или в стране, где нет нормальных домов для престарелых? Или вообщеродилась?
Не стал переспрашивать, но после ее ухода задумался. Осознал как-то очень ясно: ее мать – не идол, рано или поздно умрет. Придется искать слова. Не так-то легко объяснить женщине, почему его устраивает нынешнее положение. В любом случае не хочется ее ранить. Потом, в следующий раз, держался как обычно, но она что-то почувствовала. Последние дни даже не звонила. Или наконец поняла?.. Собственно, поэтому и сказал: да, на месяц, срочная работа, нет, приезжать не стоит. Она бы и так не приехала: три часа туда, три – обратно.
Он дергает одеяло: в том-то и дело, что ничего не поняла. Никогда не поймет. Для нее их редкие встречи – не близость, а отчаянная борьба: с судьбой, пославшей невыносимое испытание, с тоской бессмысленной жизни. «Вернусь, все пойдет по-прежнему. Будет приходить… Сидеть. Вести бесконечные разговоры. Вот именно. Пока не сдохну! – он гасит приступ злости. – Или все-таки решиться и объяснить?.. А что потом? Но где-то же люди знакомятся…»
В прошлом году предложили одну книгу. Он было начал, но отказался: слишком много компьютерных терминов. Герой – лет сорока пяти, почти его ровесник, знакомился в Интернете. В Интернете другие женщины. Нашел подходящее слово: острозубые. Наверняка обманут.
Под животом уже не тлеет. Лежит холодным камнем… В голову приходит еще одна грибная история: про мальчика, который искал себе жену – вбил себе в голову, что его женой станет та, которая съест гриб. Через некоторое время эта девочка действительно является. Мальчик, вообразивший себя будущим мужем, предлагает ей руку и сердце, но тут выясняется, что девочка, съевшая гриб, – его сестра. «Что там дальше?..» – Он пытается вспомнить… не успевает. Проваливается в глубокий сон.








