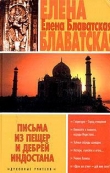Текст книги "Заколдованная жизнь (сборник)"
Автор книги: Елена Блаватская
Жанр:
Эзотерика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
V
Возвращение сомнений
Но затем так же быстро, как и мое отчаяние, явилась реакция. Сомнение закралось в душу, которое и разгорелось немедленно в свирепое желание отвергнуть возможность действительности всего увиденного мною; упрямое решение взирать на случившееся как на пустой, бессмысленный сон, на эффект расслабленного долгим беспокойством воображения. Дух отрицания овладел мною неудержимо. Да, то было лишь лживое видение, нелепый фокус, произведенный с моими чувствами, вдруг представившими мне картины смерти и страдания вследствие целых недель и месяцев моего нравственного и нервного состояния.
– Как мог я видеть все то, что я видел и слышал, в менее нежели полминуты?! – воскликнул я.
Одна только теория о сновидениях, быстрота, с которой вещественные изменения – от коих зависят идеи в наших снах – возбуждаются в гемисферических [25]25
Гемисфера– полушарие. Гемиплегия – половинчатость.
[Закрыть]наростах, может объяснить тот длинный померещившийся мне ряд событий в такой короткий интервал времени. В одних сновидениях может так бесследно исчезать и уничтожаться всякое отношение между пространством и временем. Ямабуси ни при чем в этом неприятном кошмаре. Он воспользовался и пожинает лишь то, что посеяно мною самим; посредством какого-то адского, тайного, одним этим обманщикам известного зелья ему удалось заставить меня впасть на несколько секунд в бесчувственное состояние и вообразить видение – отвратительное и ужасное, но настолько же и лживое!.. Прочь от меня такие мысли! Я им не верю… Еще несколько дней терпения, и в Европу должен отправиться пароход… Завтра же я уезжаю из Киото!
Этот бессвязный монолог я проговорил громко, невзирая на присутствие моего уважаемого друга Тамуры и ямабуси. Последний стоял передо мною в той же позе, когда вручил мне зеркало, и продолжал глядеть на меня, или правильнее выражаясь, глядеть сквозь меня – спокойно и в величавом молчании. Бонза, добродушное и кроткое лицо которого выражало самое искреннее ко мне участие, приблизился ко мне, точно к больному ребенку, и ласково положил свою руку на мою:
– Друг, – сказал он, – вы не должны уезжать отсюда до полного очищения от соприкосновения с низшими духами – дайдж-дзинами и не приняв мер к ограждению вашей души от нападений этих неразвитых темных сил природы. Вы должны позволить нам запереть вход к ней…
Не теряйте же времени и позвольте святому мастеру, стоящему перед вами, очистить вас немедленно.
Вместо благодарности он получил от меня суровый и грубый отказ, поток насмешек над его идеей, что я способен усмотреть в этом видении что-либо кроме пустого сновидения, а в ямабуси – нечто более наглого фокусника.
– Я выезжаю завтра же, даже если бы мне пришлось для этого потерять все мое состояние! – воскликнул я.
– Вам придется раскаиваться целую жизнь, если вы оставите Киото прежде, чем очиститесь от влияния темных сил… А это может быть совершено только этим святым старцем!.. – испуганно уговаривал меня бонза. – Дайдж-дзины всегда настороже у открытых дверей, и они вас одолеют!..
Я прервал его грубым смехом и еще более грубо осведомился о размере платы, должной мною этому «святому старцу» за сделанный им надо мною опыт.
– Ему не нужны ваши деньги, – получил я в ответ. – Он принадлежит к самому богатому в мире Братству; члены его ни в чем не нуждаются, возвысясь надо всем земным, а стало быть, и над жаждою богатства. Не оскорбляйте кроткого и доброго человека, который пришел к вам на помощь единственно из чистого сострадания к вашему горю и с желанием облегчить его…
Но я отказался внимать этим разумным и мудрым речам. Дух гордости и возмущения овладел мною неудержимо, заставил забыть всякое чувство личного уважения и дружбы и довел меня до забвения простого приличия. Счастьем было для меня то, что когда в бешенстве я повернулся к престарелому аскету с намерением выгнать его из дома как обманщика, его уже не было в комнате.
Я не заметил, как он вышел, а позднее вспомнил, что, решившись подвергнуть себя его чарам, сам запер входную дверь на ключ, который и лежал на столике нетронутым. Как мог он выйти? Но в ту минуту я приписал его исчезновение трусливому бегству вследствие того, что я вывел его на чистую воду.
О безумный, слепой, тщеславный идиот! Зачем отказывался я тогда признать могущество ямабуси, как не понял, не осознал я в ту роковую для меня минуту, что с его удалением разрушалось навеки спокойствие целой жизни моей!.. Но я не сознавал в то время ничего подобного. Даже роковой демон, вызвавший всю эту сцену – неизвестность о судьбе любимых, – оказался теперь вполне покоренным более могущественным бесом, хотя и неразумнейшим из всех, – слепым скептицизмом. Тупое, болезненное неверие, упрямое отрицание очевидности собственных чувств и непоколебимая решимость взирать на все видение как на фантазию моего усталого, измученного догадками мозга, овладели мною бесповоротно. Так велико было мое ослепление, что я даже не обратил внимания на благоразумный совет моего старого друга бонзы, советовавшего мне телеграфировать нюренбергским властям о моем скором приезде и, в случае какого-либо несчастия с родителями, просить их приказать присмотреть за детьми. Я отверг совет с полным презрением. Последовать ему равнялось сознанию, что в моем глупом видении могла быть хоть какая-то доля правды, что я допускал возможность прозревать события на другом конце света внутренним душевным зрением (нелепое выражение!), и что в том, наконец, что мне пригрезилось, было нечто более химеры пустого сновидения.
– Мой разум, моя душа, – рассуждал я, отвечая на увещевания бонзы, – что такое все это в сущности? Неужели же мне следует, по-вашему, уверовать наравне с суеверными глупцами, что это произведение фосфора и старого мозгового вещества есть высшая часть самого меня; что оно действует и зрит помимо моих физических чувств? Никогда и ни за что! Так же, как я никогда не смогу поверить в «мудрость» планет астрологии или в «дайдж-дзина». Как я могу признаться в том, будто верю, что Юпитер, Солнце, Сатурн и Меркурий – это действующие силы? И эти достойные силы управляют каждая своей сферой, и эти сферы заботятся о судьбах смертных? Разве могу я всерьез считать, что какие-то воздушные бестелесные образования могли руководить моей «душой» во время этого неприятного сновидения? Да я с отвращением смеюсь при одной только глупой мысли об этом. Я считаю оскорбительным для моего интеллекта и для силы человеческого разума говорить о невидимых существах, о субъективных знаниях и тому подобных сумасшедших суевериях.
Короче говоря, я попросил своего друга бонзу избавить меня от ненужных споров и тем самым сохранить нашу дружбу.
Вот так я безумно и страстно спорил с почтенным японцем, стараясь изо всех сил заставить его поверить в то, что внезапно сошел с ума. Но его поразительное терпение оказалось более чем равным моей глупой страсти. И он еще раз стал умолять меня ради будущего позволить провести над собой определенные и необходимые очистительные обряды.
– По-моему, – продолжал я, перефразируя известное изречение Рихтера, – «все же лучше жить в воздухе, разреженном донельзя воздушным насосом здорового неверия», нежели «в густом тумане глупого суеверия»! Не верю и не хочу верить! – повторял я, – но так как мне становится более не под силу бороться с такою неизвестностью о судьбе сестры, то я и еду в Европу…
И я действительно уехал спустя три дня, не видав более моего приятеля бонзу и даже не простясь с ним. Он, очевидно, чувствовал себя огорченным, быть может, серьезно оскорбленным моими более нежели непочтительными, грубыми и обидными отзывами о человеке, которого он так справедливо почитал; и его последние слова прощания в тот навеки памятный мне вечер были:
– Друг, молю, чтобы вам не пришлось расскаяться в своем неверии и опрометчивости. Да простит и охранит вас благословенная Кван-Он (богиня милосердия) от злых дзинов (духов) – потому что теперь, когда вы напрямик отказываетесь подвергнуть себя очистительному обряду, предлагаемому вам святым ямабуси, более не в его воле охранить вас от дурного влияния темных сил, вызванных вашим неверием и презрением к истине. Простите. Но позвольте мне в час прощания просить, умолять вас выслушать старика, который желает вам добра и хочет предупредить об опасности, убедить вас в существовании вещей, о которых вы до сих пор ничего не знаете. Могу ли я говорить?
– Продолжайте и говорите все, что хотите сообщить, – грубо согласился я. – Но позвольте предупредить вас в свою очередь, что ничего из того, что вы можете сказать сейчас, не заставит меня поверить в ваши позорные суеверия, – добавил я с чувством жестокого удовольствия, которое доставило мне еще одно бессмысленное оскорбление. Но этот прекрасный человек не обратил внимания на новые насмешки. Я никогда не забуду торжественной серьезности его прощальных слов и сочувствующего, полного раскаяния выражения его лица, когда он понял, что все его просьбы бесполезны и его доброжелательное вмешательство только погубило меня.
– Прислушайтесь к моим словам, мой добрый господин, – начал он, – и узнайте, что если этот святой и почтенный человек, который открыл ваше «зрение души», чтобы избавить вас от переживаний, не завершит работу, ваша будущая жизнь вряд ли будет достойна называться жизнью. Ему нужно защитить вас от невольных видений такого же рода. Если вы не согласитесь на это по собственной воле, то останетесь во власти сил, которые будут держать и преследовать вас, доводя до безумия. Знайте, что «развитие дальнего видения» (ясновидение) доступно по собственной воле лишь тому, от кого у Матери Милосердия, великой Квон-Он, нет тайн. Начинающие должны обращаться за помощью к воздушным силам (первоначальным духам), которые по природе своей бездушны и поэтому злобны. Знайте также, что лишь Архат [26]26
Архат( санскр.) – в буддизме Адепт, освобожденный от оков физической материи, исчерпавший земную карму и неподвластный более колесу перевоплощения.
[Закрыть](поражающий врага) подчинил себе эти существа, превратив их в своих слуг, и ему нечего бояться. Те же, кто над ними невластны, становятся их рабами. Нет, не смейтесь в своей великой гордыне и невежестве, но слушайте дальше. Во время видения и в то время, когда внутренние органы чувств видящего направлены на восприятие событий, которые его интересуют, дайдж-дзин полностью овладевает им, если он, как и вы, неопытен, и в это время видящий перестает быть самим собой. Пока человек находится в этом состоянии, дайдж-дзин, который направляет его внутренний взор, надолго делает его душу низкой и подлой, превращая его на этот промежуток времени в существо подобное ему самому. Лишаясь божественного света, человек становится бездушным. Пока он связан с дайдж-дзином, он не будет знать человеческих чувств – ни жалости, ни страха, ни любви, ни милосердия.
– Подождите! – невольно воскликнул я, так как его слова ясно вызвали в моей памяти то равнодушие, с которым я смотрел на отчаяние сестры и внезапную потерю разума, которую она пережила во время моей галлюцинации. – Подождите… Ну нет, это было бы еще большим безумием для меня прислушиваться или искать какой-то смысл в вашей смехотворной истории! Но если вы знали, что это будет так опасно, почему вы посоветовали мне провести этот опыт? – добавил я насмешливо.
– Опыт должен был продолжаться всего несколько секунд и не причинил бы вам никакого зла, если бы вы сдержали свое обещание и позволили провести обряд очищения, – последовал печальный и скромный ответ. – Я желал вам добра, друг мой, сердце мое разрывалось при виде ваших страданий, которые усиливались с каждым днем. Этот опыт безвреден, если его проводит тот, кто знает, и становится опасным, когда последней предосторожностью пренебрегают. Тот самый Владыка Видений, который открыл вход вашей души, должен сам закрыть его, воспользовавшись особой печатью очищения, которая защищает от дальнейших, уже намеренных вторжений…
– Владыка Видений! Вы только послушайте! – вскричал я, грубо обрывая его, – сказали бы лучше: Владыка Обмана!
Его доброе старое лицо стало таким печальным, в нем была такая боль, что я понял, что зашел слишком далеко, но было поздно.
– В таком случае, прощайте! – сказал старый бонза, поднимаясь. И, совершив обычный церемониал вежливого прощания, Тамура вышел из моего дома в молчании, исполненном достоинства.
VI
Я уезжаю, но не один
Несколько дней спустя я отплыл из Японии. Все это время я не видел моего почтенного друга бонзу. Очевидно, в тот последний, навеки памятный для меня вечер он был действительно серьезно обижен моим более чем непочтительным обхождением и оскорбительными замечаниями о человеке, которого он почитал. Мне было жаль его, но колесо страсти и гордыни непрерывно вращалось во мне и не позволяло хотя бы на мгновение почувствовать раскаяние. Что же это было, что заставляло меня так наслаждаться своим гневом? Как только я на какое-то мгновение забывал о предполагаемой обиде, которую нанес мне ямабуси, я тут же словно плеткой подхлестывал свой искусственный гнев. Ведь он совершил только то, что от него ожидали, и то, на что я молчаливо согласился; более того, я сам лишил его возможности сделать для меня больше ради моей же собственной безопасности. Если бы я только поверил бонзе, человеку, которого считал совершенно честным и надежным. Может быть, это было сожаление о том, что моя гордость вынудила меня отказаться от предложенных предосторожностей, или страх раскаяния, который заставлял меня в те долгие часы выкапывать и собирать в кучу малейшие подробности предполагаемых оскорблений, которые были нанесены моей самоубийственной гордыне? Раскаяние, как правильно отметил один старый поэт, похоже на сердце, в котором они рождаются:
…когда в душе печаль и гордость,
Оно, как и анчар, стрелой пронзенный,
Лишь кровью плачет…
Возможно, страх перед чем-то подобным стал причиной моего упрямства и, бросая мне вызов, позволил простить себе ничем не спровоцированные оскорбления, которыми я осыпал моего доброго и всепрощающего друга бонзу. Однако было уже поздно, и вернуть свои слова я уже не мог, поэтому мне пришлось удовлетвориться лишь тем, что я пообещал себе послать ему дружеское письмо, как только доберусь до дома. Глупцом, слепым глупцом, вдохновленным собственным наглым самодовольством, вот кем я был! Я был настолько уверен, что мое видение – результат какого-то трюка ямабуси, что уже злорадно предвкушал, с каким торжеством я напишу бонзе о том, что вполне справедливо отвечал на его горькие слова прощания презрительной усмешкой, так как и моя сестра, и ее семья были здоровы и счастливы!
Но я не пробыл в море и недели, когда случилось нечто такое, что заставило меня невольно вспомнить их! С самого дня описанных мною событий видения (в зеркале) я стал замечать в себе большую перемену, как нравственно, так и физически, но постоянно приписывал ее сильному беспокойству, повлиявшему на мое здоровье и нервную систему. Часто, среди многолюдного общества пассажиров, даже днем, неожиданно и безо всякой к тому причины я внезапно терял на несколько минут сознание об окружающих меня особах и о том, где я находился, и видел себя в других, незнакомых мне местах. Ночи я проводил беспокойно, а когда засыпал, то являющиеся мне сновидения были тяжелые, часто перемешанные с ужасными сценами. Моряком я был хорошим, в том смысле, что не знал, что такое морская болезнь, да к тому же и наше путешествие выдалось необычайным в этом отношении: во все время погода стояла чудесная, а море было глаже всякого пруда. Несмотря на это, со мной часто происходили странные головокружения, и в такие минуты знакомые мне физиономии пассажиров принимали самые безобразные и смешные выражения и даже преобразовывались (в моих глазах) совсем в другие лица.
Так, один хорошо знакомый со мною юный немец вдруг превратился передо мною в своего отца, похороненного нами три года до того на маленьком кладбище европейской колонии в Киото. Мы разговаривали с ним стоя у борта, на палубе, о делах его покойного родителя, когда вдруг голова Макса Грюннера показалась мне покрытой точно беловатой плевою, а сам он – окруженным густым сероватым туманом, который, как бы оклеив его наружно с ног до головы каким-то прозрачным веществом и покрыв все черты его здорового, цветущего лица словно слепком, вдруг сгустился и преобразовался в старую, желтовато-бледную голову, похороненную на моих глазах. В другой раз я увидал возле капитана, рассказывавшего нам историю одного пойманного им и засаженного в тюрьму малайца, вора и убийцу, желтое, безобразное лицо, в котором я мысленно признал последнего. Я никогда не говорил о подобных галлюцинациях: по мере того как они учащались, я чувствовал себя очень встревоженным, хотя и продолжал относить их к вычитанным мною в медицинских книгах естественным причинам.
В одну ночь я был внезапно разбужен громким и пронзительным криком: то был женский голос, жалобный, как у ребенка, полный ужаса и беспомощного отчаяния. Я проснулся и тут же очутился в незнакомой мне комнате, на суше, и свидетелем следующей омерзительной сцены. Молодая девушка, почти еще ребенок, отчаянно боролась с сильным мужчиной средних лет, проникшим ночью с недобрым намерением в ее комнату во время ее глубокого сна. За запертою – на ключ – дверью, я заметил прислушивающуюся старуху, лицо которой, невзирая на его тогда искаженное, почти демоническое выражение, показалось мне знакомым: то была еврейка из моего видения в Киото! Я тотчас узнал и ее, и ее самые затаенные мысли. Она получила много золота за помощь в совершении ужаснейшего преступления и теперь оставалась верной своей роли в этой драме разврата. Но кто же жертва? Проклятие!.. Невообразимый ужас!.. Только позднее, придя в себя, в пароходной каюте, я сообразил тотчас же, что это была моя родная племянница, девочка-сирота, и что я приеду слишком поздно!
Но, как и в первом моем видении, глядя на страшную разыгранную передо мною сцену, я ничего не чувствовал: ни отчаяния, ни сострадания, ни даже простой жалости или отвращения. В такие минуты во мне замирало всякое родственное чувство при виде несправедливости и причиняемого любимым мною особам страдания, замирало все, кроме естественного и столь знакомого всякому честному человеку чувства негодования, овладевающего им, когда он делается свидетелем злоупотребления грубой силой в отношении слабого, беззащитного существа. Я бросился, конечно, к ней на помощь и вцепился в горло распутному, грубому животному.
Я стиснул его шею как в тисках, но, к моему неописуемому изумлению, он, казалось, и не заметил моего нападения, не чувствовал моей сильной руки, даже не обратил на меня внимания! Низкий преступник, видя как бьется, сопротивляясь ему, его невинная жертва, поднял в бешенстве свой мощный кулак и одним ударом, направленным в золотокудрую головку, он поверг бедного окровавленного ребенка на землю. С громким криком негодования, с рычанием защищающей детеныша тигрицы я прыгнул на негодяя, стараясь задушить его. Но тут только, и впервые, я осознал с чувством незнакомого мне дотоле страха, что я был только тенью, старавшейся схватить другую, такую же тень!
Мои пронзительные крики и проклятия разбудили всех пассажиров. Их отнесли к кошмару. Я не старался разубедить их, не повторял никому своих странных видений, но с того самого дня моя жизнь сделалась одним длинным рядом нравственных пыток. Я почти не мог закрыть глаз без того, чтобы не сделаться свидетелем какого-нибудь ужасного события, той или другой сцены страдания, смерти или преступления – в прошлом ли, совершенного в минуту видения, или даже будущего, – как я убедился по проверке позднее. Точно какой насмешливый демон задался целью вынуждать меня проходить через длинный ряд панорам всего самого порочного, омерзительного, преступного и грешного в этом мире слез и страданий. Никогда светлый призрак красоты или добродетели не освещал малейшим лучом своим эти картины горя и мучений, в которых я казался обреченным быть невольным свидетелем. Сцены преступления, смертоубийства, измены и разврата проходили нескончаемой ужасной вереницею в моих видениях, сопровождаемые слышным одному мне хохотом демонов, и я был принужден проводить жизнь лицом к лицу с самыми отвратительными результатами грубых людских страстей, с эссенцией самой материальной земной похоти человека.
Неужели бонза действительно предвидел эти самые страшные последствия, когда он так настаивал на «очищении», говорил о дайдж-дзинах, которым вследствие моего упрямства я оставлял «отпертую в себя дверь»? Бредни!.. Не верю!.. Во мне просто происходит какая-нибудь физиологическая перемена, аномальный беспорядок нервов. Может дома, в Нюренберге, когда я смогу убедиться, какое фальшивое направление приняли мои опасения, – я уже не смел надеяться на отсутствие всякого несчастия, – эти бессмысленные видения исчезнут так же быстро, как они и явились. Лучшим для меня доказательством служит то, что моя фантазия следует постоянно по одному направлению: я вижу одни картины горя и земных страстей в их худшей, самой грубо-материальной форме.
«Если, как вы говорите, человек состоит из одного вещества – материи, основы физических чувств; а его представления с видоизменениями есть просто результат органического устройства нашего мозга, то в таком случае мы должны весьма естественно быть привлекаемы к одному материальному, грубо вещественному, к земному?» – послышался мне во время одного такого рассуждения голос бонзы, прервавший мои размышления и повторявший часто употребляемый им в наших спорах аргумент.
Я вздрогнул, и тот же голос продолжал раздаваться внутри меня с ясностью, превышающей всякую действительность:
«Для человека существуют в природе два рода видений: в области неумирающей вечной любви и духовных стремлений, прямо истекающих из вечной лучезарности; и в области беспокойной, вечно изменяющейся материи, в вещественном свете, в которой так любят нежиться и шалить дайдж-дзины…»