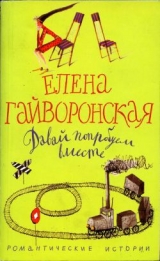
Текст книги "Давай попробуем вместе"
Автор книги: Елена Гайворонская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
12
Троллейбус в это время полупуст. Пожилая кондукторша шумно сморкается в большой платок. Ее глаза слезятся от простуды. Я протягиваю монеты, засовываю в карман клочок бумаги, дающий право на проезд в этом городском транспорте. Отчего-то летом в троллейбусах всегда топят. Причем чем жарче лето, тем сильнее шпарят батареи. А зимой железные коробки неизменно превращаются в стылые гробы.
На остановке напротив стадиона «Локомотив» в заднюю дверь с шумом и смехом забирается компания: трое ребят чуть моложе меня и симпатичная девушка в коротенькой курточке и кожаных брючках в облипочку. Они потягивают пиво. Мороз им явно нипочем. Я смотрю на них, невольно завидуя беззаботности, брызжущему через край юному задору, мальчишеской развязности… Всему, что так скоро и безвозвратно покинуло меня.
Кондукторша подходит к ним. Между ней и высоким рослым парнем, судя по всему лидером, завязывается спор, переходящий в перепалку. Голос парня становится все громче, так что я различаю крепкие выражения. Он нависает над женщиной как скала, осыпая ее отборнейшей бранью. Сжавшись, она подается назад, беспомощно оглядываясь на кабину водителя.
– Я сейчас скажу, чтобы вас высадили, раз вы не хотите платить.
– Попробуй. Я тебе… – Парень добавляет пару разухабистых выражений.
Компания одобрительно гогочет. Девушка громче всех. Почему-то именно этот звонкий, с переливами, женский смех приводит меня в состояние тихого бешенства. Я засовываю кулаки в карманы.
Народ, немногочисленный пассажирский люд, как всегда, безмолвствует, уткнув носы в свои шарфы, воротники, газеты. У пожилой кондукторши мелко трясутся пальцы в рваных перчатках. Я поднимаюсь, подхожу к веселой компании. В упор смотрю на девушку. Она наконец-то закрывает рот, оборвав свой идиотский смех на высокой ноте.
– Эй, – парень толкает меня в бок, – ты чё, неприятностей ищешь? Ща найдешь. А ну, вали…
Он хотел добавить что-то еще, но лишь громко взвыл, потому что в тот самый момент я заломил руку ему за спину. Компания озадаченно попятилась. И лишь девица заверещала тоненько:
– Пусти его, ты…
– Закрой рот, дура. Дома поучишь своего дружка вести себя в общественном месте. А пока он извинится перед кондуктором и купит билет.
Лицо парня искажает гримаса ненависти.
– П-пошел ты… – шипит он, морщась.
– Нет, – возражаю я, – пойдешь ты.
Дверь как раз открывается. Я даю парню хорошего пинка, и он, пролетев через ступеньки, шлепается на тротуар. Следом выпрыгивает девица и, склонившись над кавалером, посылает вслед мне и троллейбусу самые изысканные проклятия.
Я поворачиваюсь к притихшей компании.
– Билеты, – говорю, – живо!
– У нас студенческие… – вытянувшись по стойке «смирно», поспешно рапортуют они.
– А у того урода?
– Тоже…
– Так какого черта? – озадаченно спрашиваю я.
Я действительно не понимаю. Какой особенный кураж в том, чтобы оскорбить и унизить больную пожилую женщину, вынужденную за гроши с утра до ночи наматывать версты в этом дурацком троллейбусе?
Они опускают глаза. И тихонько выползают на следующей остановке.
– Ладно, старики сейчас злые, – вздыхает кондукторша. – Ну а молодежь-то отчего? Ведь с виду здоровые, благополучные, все впереди…
Я не знаю, что ответить. Я слишком много не знаю и не понимаю. Даже того, что прежде казалось простым как подорожник. Я вдруг ловлю себя на мысли, что не испытываю никакой радости от этой долгожданной свободной мирной жизни…
Я не сразу понял, что произошло, когда туманную тишь разорвал оглушительный грохот, переросший в чудовищную какофонию разрывов и бабаханий и над последним БТРом взметнулся огненный столб.
– Началось! – рявкнул Кирилл, хватаясь за автомат. – Все вниз! Вниз, мать вашу! – проорал он снова, бешено вращая потемневшими глазами, мало чем напоминая недавнего спокойно-сурового парня. – Засада!
Я соскочил, неловко подвернув ногу, ткнулся ладонями в вязкую земляную кашицу. К оглушительному грохоту разрывов прибавился сухой пулеметный треск. В полуметре от меня вздыбились, отплевываясь коричневыми комьями, придорожные холмы.
– Господи, – шептал я, прижимая к себе автомат и гранаты, забыв, для чего они предназначены, выплескивая сковавший меня ужас в единственном слове, – Господи…
Я никогда ни во что не верил. Даже в наивные студенческие приметы. Да и сейчас меня трудно назвать истинно верующим. Но я не могу объяснить, отчего в тот момент произносил именно это слово…
– Господи…
– А-а… – вдруг услыхал я справа порывистый вздох, будто кто-то сильно удивился происходящему. Я обернулся и увидел Костика. Привалившись к колесу, он дернулся несколько раз, будто его сводило судорогой, а затем медленно, полубоком, зарылся щекой в грязь. На миг я забыл обо всем, неотрывно глядя на аккуратную, с обожженными черными краями дырочку прямо посреди юношески-угреватого лба, из которой сочилась тоненькая красная струйка, затекая в широко распахнутый глаз, огибая нос и смешиваясь с землей.
– Костик, – прошептал я, тормоша его за плечо, упрямо отгоняя чудовищную мысль, – ты чего? Вставай…
Его полуоткрытые губы быстро серели, будто чужая алчная земля, подобно вампиру, высасывала их живой цвет. Я шарил по карманам в поисках платка, но не нашел и рукавом попытался вытереть эту бордовую змейку, но лишь сильнее размазал кровь по лицу, превратив его в кошмарное подобие индейской маски.
– Костя! – завопил я во весь голос, стараясь перекричать шум войны. – Вставай, так же нельзя!
Но он не отзывался. И я вдруг осознал – мой товарищ мертв. Мы не были слишком дружны, но тогда я впервые ощутил настоящую боль, будто вместе с ним билась в агонии, погибая на грязной земле, часть меня самого. Одна из пуль звякнула о диск колеса в паре сантиметров от моей головы, напомнив: следующим могу быть я. Тогда я оставил Костика. Я уже не думал ни о чем, утратив напрочь эту человеческую способность. Я подчинялся лишь слепому инстинкту выживания, внезапно пробудившемуся во мне. Я заполз за колесо. Оттуда выглянул, но никого не увидел. Только камни да раскидистые кусты вдоль дороги. Это напоминало дурацкий ужастик: местные призраки уничтожали забредших на их территорию людей. Только это не было фильмом… У меня промелькнула чудовищная мысль: все наши убиты. Я остался один… Вжавшись изо всех сил в дорожную грязь, я в каком-то странном оцепенении смотрел, как тонкие солнечные лучи прорезают туман, а в паре метров от меня вдоль дороги растут маленькие желтые цветы…
Вдруг прямо надо мной раздалось глухое «бум-м» и треск загоревшегося брезента. Стало жарко. Воздух вокруг превращался в прогорклый сизый дым, Кашель душил, выворачивал наизнанку, а глаза, казалось, вот-вот выпрыгнут из орбит. Это вернуло меня к ужасной действительности. Я не хотел изжариться под проклятой машиной! Я обернулся на Костика, но увидел только его острые коленки и большие, не по размеру, сапоги, торчавшие из-за колеса. Я не мог оставить его там. Мое сознание раскололось надвое: одна часть, гонимая животным инстинктом, изо всех сил протестовала этому безрассудству – Косте уже не поможешь. Вторая же, упрямая, человеческая, рвалась в черный дым, к тому, что осталось от моего друга. Вонь становилась нестерпимой. Над головой затрещали доски. Задыхаясь, я сделал рывок навстречу солнцу и ветру. В жухлую придорожную траву, ударяясь макушкой о небольшой валун. В сантиметре от моих глаз разбегались в стороны потревоженные муравьи. Исторгнув из легких удушливый дым, я вдавился в землю, всем своим существом растворяясь в ее терпком утреннем испарении. Я хотел слиться с ней, стать ее частью, ее былинкой, букашкой, чтобы юркнуть в трещинку, стать плоским, как камбала, незаметным для невидимого разъяренного врага… Я больше не хотел быть человеком…
И тут я увидел Кирилла. С ручным пулеметом наперевес, полуползком-полубегом он приближался ко мне. В глазах – холодный яростный блеск. Мое сердце готово было выскочить из груди от неожиданно свалившегося счастья. Я не один! Я показал ему на горящую машину и хотел сказать, что Костик убит и остался под ней, а я не стал его вытаскивать… Но не сумел произнести ни слова: горло свело судорогой, я заглатывал горькую пыль, чувствуя, как дергаются, кривятся губы и щеки, и никак не мог остановить этой нелепой мимики.
– Пригнись! – крикнул Кирилл, ударяя меня по затылку так, что снова я ткнулся лицом в колкую траву и крохотные острые камешки. – Возьми себя в руки, мать твою!
Он снова выругался забористо, многоэтажно. И как ни странно, это привело меня в состояние относительного равновесия. Я почувствовал, что могу постепенно двигаться и даже немного соображать.
– Те камни видишь? – Он указал стволом в поросшие редкой зеленью серые глыбы. – Щель между ними? Туда целься, понял? Давай! – И сунул мне в руки мой собственный автомат.
Я покорно кивнул. Получеловек-полузомби, я был готов выполнить любой приказ, лишь бы остаться в живых. Я хотел крикнуть, чтобы Кирилл не уползал, потому что боялся снова остаться один, но он уже растворился средь пыльных кустарников придорожной зеленки. За спиной что-то громко ухнуло. Я догадался: пушка на уцелевшей соседней «бэхе». Ну, слава богу, очухались! В показанной Кириллом щели и впрямь мерцала искорка огня. Вот тогда-то я впервые понял истинный смысл слова «мишень». Мне больше не нужен был мифический образ врага. Он материализовался в зазор меж отвратительными валунами, в тусклый каменный глаз, поразивший моего друга. И я стрелял в него. Тщательно. Прицельно. Как на учениях. У меня были самые высокие показатели…
И тут произошло то, что заставило меня прекратить огонь. Призраки материализовались в людей, одетых, как и мы, в камуфляжную форму. Они бежали к нам, строча из автоматов, что-то выкрикивая. Кто-то падал. Кислый дым горящего «Урала» делал меня невидимкой, и теперь уже я стал для них призраком. Я знал, что тоже должен стрелять. Потому что именно они, а не неведомые злые силы убили Костика, и не только его, и хотят уничтожить меня и всех нас… Они становились все ближе. Живые теплые люди, противники, мишени…
«Давай!»
Я смотрел на них, я уже мог разглядеть их темные от южного солнца лица. Я видел сквозь закопченную траву перепачканный кровью лоб Костика, злобный оскал Кирилла.
«Давай, мать твою!»
Я призывал к себе спасительную ненависть, желая изо всех сил, чтобы мы стали одним целым: я, она и мой автомат, вытеснив впитавшееся с материнским молоком «Неубий»… И почему-то в последний момент, когда, зажмурившись, вдавил всего себя в курок, в положение «очередь», сквозь возобновленную дробь вспомнил начальные слова клятвы Гиппократа… Я вновь распахнул глаза и сквозь травяной частокол смотрел, как, запнувшись на бегу, ставшие мишенями люди падали в желтые цветы…
А потом я услыхал страшный грохот, и неведомая сила расколола на неравные части издевательски голубое небо, стремительно меняя его местами с обломками черной земли…
Едкий аммиачный запах ударил в нос. Я отшатнулся, закашлялся, замотал головой, разлепляя веки. Передо мной, как в замедленной съемке, проплывало лицо Кирилла в окружении закопченных цветов. Кирилл зачем-то показывал мне два пальца и спрашивал:
– Сколько пальцев?
– Десять, – сказал я, отталкивая его руку и пытаясь подняться.
Тупая ноющая боль моментально ударила в затылок, опоясывая виски и почему-то отдавая в правую голень.
Сдерживаясь, чтобы не застонать, я посмотрел вниз. Мой ботинок был разодран сбоку. И в этой прорехе нога – темно-красная от крови. В тот момент я все вспомнил: засада, стрельба, взрыв… Кость не задета. Это я смог понять даже с моими скудными медицинскими познаниями. В аптечке нашел спирт, промыл рану, перебинтовал. Прямо передо мной дымился почти догоревший остов опрокинутого на бок «Урала»…
Все пространство от дороги до смертоносной поросли и камней было вспахано воронками взрывов, усеяно телами и частями тел в окровавленных обрывках камуфляжей. Меж них прохаживались несколько наших из «старичков». Периодически они поднимали за руки и за ноги чье-то тело и тащили в хвост разбитой колонны. Кто-то, склонившись над очередным трупом, шарил по карманам. Кто-то собирал оружие. Алексей просто бродил, всматриваясь в лица погибших, словно кого-то искал и не находил. Меня вдруг замутило и вырвало похожей на земляную кашицу бурой желчью, остатками прогорклого дыма. Топая, пробежал Василий с криком:
– Отправляемся! Есть еще живой водитель?
– Есть… – хрипло отозвался мусоливший погасший окурок Денис и, ссутулившись, побрел в начало колонны.
Я подобрал разодранный башмак, вскарабкался в другой уцелевший «Урал». Следом забрался Гарик. Трясущимися руками он достал странную длинную сигарету, каких я прежде не видел, и, усевшись напротив, отрешенно глядя в никуда замутненным взглядом, жадно раскурил. Под брезентовым сводом стелился муторный сладковатый запах, напоминающий кремационные пары. Залез Огурец, впрямь зеленого цвета. На его поясе не осталось ни запасного «бэка», ни гранат. С неестественно спокойным лицом он произнес, обращаясь ни к кому конкретно:
– К-кам-меру р-разбили. Ж-жаль…
– Какую камеру?! – завопил Гарик, подскочив к Огурцу, хватая его за грудки и судорожно встряхивая. При этом самого его не переставала колотить дрожь, и сигарета прыгала в почерневших губах. – Нас половина осталась! Слышишь ты, придурок?! Половина!
– Заткнись! – фальцетом выкрикнул Огурец, отрывая Гарика от себя и швыряя обратно на деревянную скамейку. – Сам ты придурок! Пошел в задницу!
Как ни странно, Гарик и вправду затих, заслонив лицо руками. Огурец снял с себя автомат, положил рядом. Затем вытащил камеру из сумки и бережно, как ребенка, погладил ее бока. А затем убрал и, достав мятый клетчатый платок, не поднимая глаз, словно устыдившись их влажного блеска, принялся протирать запотевшие стекла очков.
Уже на ходу запрыгнул Кирилл.
– Ты извини, – сказал он мне вполголоса, – за то, что я тебя тогда по затылку треснул. Боялся: выскочишь. Так часто бывает с новичками.
– Наоборот, спасибо.
– На, держи. – Он протянул мне почти новенькие ботинки.
– Чьи они? – зачем-то спросил я сдавленным шепотом.
– Теперь твои. Надевай, а то гангрену натрешь.
– Я не могу…
– Можешь… – Он посмотрел на меня усталым взглядом светло-пепельных глаз, как учитель глядит на неразумное дитя. – Человек вообще поначалу не подозревает, на что способен…
– А где Костик? «– задал я последний вопрос.
– В «Урале». Среди «двухсотых».
Он замолчал и закурил. Моя рука сжимала голенища чужих ботинок, еще хранивших тепло первого хозяина. Его уже не было, а вещь продолжала существовать. И быть может, кто-то воспользуется ею, если вдруг и меня не станет… Зато следом за Костиком я узнаю, какая она – смерть…
«Война скоро закончится для меня…»
Тогда я заплакал. Впервые за много лет. Меня сотрясали рыдания. Я закусил край рукава, чтобы не реветь в голос. Никто не трогал меня, не осуждал, не пытался успокоить. И я за это был благодарен. Я оплакивал наших ребят, с которыми еще вчера мы вместе пили, ели, строили планы… Ставших теперь «грузом 200». Утративших на время, вместе с жизнью, и имена. Они обретут их позже. На могильных памятниках. Те, чьим телам повезет добраться до дома. А остальные останутся лежать под обманчиво ласковым южным солнышком, пока не будут скинуты в овраг и засыпаны чужой жирной, кишащей жадными на мертвечину мелкими тварями землей. Что же будет с их душами, если такие существуют, я не знал…
Я оплакивал и себя, расколотого взрывом на две неравные части. Мои розовые надежды, юношеские иллюзии, родительскую философию о том, что «все к лучшему». Мое завтра, которого может не быть…
Я плакал, а колонна продолжала свой тряский путь. Где-то в горах гремело и ухало, и непонятно было, то ли это эхо войны, то ли летняя гроза…
13
Магазин, где работает Ирка, уже закрылся, но внутри горит свет. Я захожу с черного хода. На нос падает холодная дождевая капля, словно вопрошая: «За каким чертом ты здесь?»
Действительно, за каким?
Как-то на днях я позвонил Ирке. Не знаю зачем. Я солгал бы, сказав, что безумно соскучился, хотел ее услышать… Ни то ни другое. Но все же я позвонил, споткнувшись о ее холодное «Алло?». Она скорее удивилась, нежели обрадовалась моему звонку. Спросила, как дела. Нашел ли я работу. И сколько мне будут платить. Потом минут десять рассказывала о каких-то туфельках, не то Гучи, не то Пердуччи… Я смотрел за окно. Там что-то противно капало. И голос в трубке отдавал мне в висок назойливым туканьем. Зачем я позвонил? Я все еще не был готов к тому, что прежде называл любовью…
Ирка о чем-то спросила, а я не сразу понял. Она повторила раздраженно:
– Когда мы туда сходим?
– Куда?
Оказывается, она говорила о каком-то новом модном клубе. Я ответил уклончиво:
– Посмотрим.
Мне вовсе не хотелось тащиться в клуб и оставлять там ползарплаты за сомнительное удовольствие подергаться на диско с потными, возбужденными великовозрастными тинами. Странно, что когда-то мне это нравилось – грохот музыки, все равно какой, лишь бы погромче, горячие колени, прижатые к моим, шаловливые пальцы на моей… Нет, все не то. Холодно. Как в старой детской игре.
Ее голос засвистел в трубке ледяным ветром. Но мне было наплевать. И я попрощался.
Это было недели две или три назад… Время между «сутками» сливается для меня в одну засвеченную пленку с перерывами на ночные кошмары… Иногда я таскаю снотворное из аптечки. А мама делает вид, что не замечает. Однажды она пыталась поговорить, но я к этому не был готов. И игра во «все в порядке» продолжилась. Впрочем, мне иногда кажется, что все действительно в порядке. Просто я немного изменился, только и всего. Кризис очередного переходного возраста…
– Я устал, – спокойно говорю я. – Было трудное дежурство.
И мама верит мне. Или делает вид.
Иногда звонят друзья. Из той, прежней жизни, жизни до… Их голоса, рассказы, как бесполезный шум, не воспринимаются моим мозгом. Они не кажутся мне теперь ни интересными, ни важными. Я путаю имена и события, отвечаю невпопад на вопросы, потому что не слышу их, и постепенно телефон перестает донимать меня своей пустой никчемностью.
И тогда наступает тишина… Густая, безысходная, тягучая и зловещая, как горный туман. Заставляющая выходить из дома и брести неизвестно зачем, в никуда…
Я двигаюсь бесшумно, как кошка. Не специально. Просто это стало нормой моей жизни.
«Чё ты растопался, как слон? Захотел пулю промеж глаз? «Чехи» не глухие…»
Голоса. Мужской и женский. Женский принадлежит Ирке.
– Ты сказала ему про нас? – спрашивает мужчина.
– Я не смогла… – В Иркином звучат виноватые нотки. – Он пришел так неожиданно. И был таким странным. Мне показалось, у него с головой не все в порядке. Ну, после Чечни… Я побоялась, мало ли чего…
– Ты спала с ним?
– С ума сошел! Как ты мог подумать…
Я шагаю из темноты в прямоугольную камеру торгового зала. Они разом умолкают, резко оборачиваются. Ирка и тот рыжий хлыщ в стильном пальто. Ирка отпрянула, будто увидала призрак. Ее лицо с густо наведенными глазами и кроваво-красными губками в электрическом свете кажется неестественно постаревшим…
И я вдруг понимаю: мне наплевать. Может, у меня и впрямь не все в порядке с головой, но я чувствую себя слишком усталым и постаревшим для того, чтобы разыгрывать дурацкую сцену оскорбленного самолюбия и ревности к давно ушедшему неизвестно чему…
«Как прежде уже не будет. Никогда…»
Я просто выкладываю ключ от Иркиной квартиры на прилавок:
– Всего хорошего, – и выхожу под моросящий полуснег-полудождь, внезапно ощущая облегчение от обретенного одиночества.
Если это была любовь, то я ее больше не хочу.
– Огонь!
Мы засели в окопах возле села с труднопроизносимым названием и лупили по нему из всего подряд. А оттуда палили по нас. Нормальные военные будни. Я уже привык к дикому грохоту войны. К немереному количеству водки, которую, когда привозили, мы вливали в себя, как горючее в автомобиль, чтобы заспиртовать мозг и атрофировать страх, жалость, тоску, отчаяние – все, что нормально и естественно там, но вредно и не нужно здесь. Иначе можно сойти с ума…
Каждая горная деревушка встречала нас ощетинившимися баррикадами, катакомбами черных ходов, опутавших каждый дом, а когда мы все же туда попадали – косыми злобными взглядами жителей, мирных настолько, что лучше лишний раз не поворачиваться спиной. Лично мне привыкнуть к этому было гораздо сложнее, чем к атакам боевиков. Не знаю, кто как, а я все меньше и меньше ощущал себя воином-освободителем, припоминая слова Алексея: «Нечего нам было вообще сюда соваться… Мы для них чужие… Так было и так будет всегда…»
– Огонь!
А потом, может, услышим:
– Вперед!
И тогда уже – кто кого.
Атака… Сердце испуганно екает, когда ты, сжав в руках автоматный ствол, выбрасываешь из зыбкой защиты узкого окопа свое затекшее тело, такое удивительно хрупкое и беззащитное в эти секунды. И ты стараешься не думать о том, что того, кто сидел сейчас рядом с тобой, через минуту может не стать. Не думаешь вообще ни о чем, чтобы не допустить иной мысли, еще более невероятной в ее жути: в следующий момент может не стать тебя…
Я уже знал, что должен выстрелить первым. Иначе завтра для меня может не быть. Но я боялся этого завтра из страха переступить полустертую уже черту, за которой заканчивался инстинкт самообороны и начинался азарт разрушения…
Иногда я думал, что им легче с их фанатичным «Аллах акбар». Аллах дал жизнь, он же взял. Все просто… Эта жизнь– лишь коридор. Все лучшее – после… Но в этом может таиться погибель. Мы, в трех поколениях старательно отлучаемые от Бога, лишь сейчас открывшие его, но так до конца не понявшие и не принявшие, мы цепляемся за свою земную юдоль как за самое большое сокровище. И готовы сражаться за него даже с самим Всевышним…
Я видел смерть. Я видел ее столько, что хватило бы на сотни таких, как я. Но так и не понял до конца, что же она такое… Наверное, это знают лишь те, кто переступил незримую черту, разделяющую два мира – живых и тех, кто был ими прежде… Но никто из тех не вернулся, чтобы рассказать оставшимся здесь, что же нас ожидает там: светящийся тоннель или черная дыра? А быть может, зияющая пустота…
И для меня, пока живого, смерть была страхом. В первую и последнюю очередь. Страхом мучительным, тягучим, животным, унизительным. Сперва не отпускающим ни на миг, позже – притуплённым водкой и временем… И еще он был облегчением. Оттого что сегодня этим вселенским откровением овладел не ты. И стыд за это чувство. За то, что оно мерзко, унизительно, и ты ничего не можешь с собой поделать, и оно приходит снова и снова… Всякий раз после очередного боя. Быть может, остальные испытывали то же самое? Я не спрашивал…
Когда «чехи» начинали сдавать позиции, первыми в селения входили ВВ – внутренние войска. Мы, пехота, – на подхвате. Иначе наших ребят осталось бы еще меньше. Алексей, напротив, ушел в первых рядах. Он искал «кровника». Пять лет назад какой-то подонок украл тринадцатилетнюю сестру Алексея, изнасиловал и продал в рабство в горы, одному из известных наркодельцов, до которого Алексей сумел добраться в годы первой чеченской. Остался сам похититель, по слухам ушедший с Радуевым.
«Джихад».
– Он же русский, Алексей, – удивился я, услыхав от Кирилла это слово.
– Он местный. Живет по их законам. И таких, как он, боятся сильнее, чем всех нас, вместе взятых. Джихад – для «чехов» гораздо больше, чем наш бумажный закон. Проклятые дикари… – Сморщившись, он закашлялся, облизнул пересохшие губы. Нас здорово мучила жажда: на «передке» вечная проблема нехватки воды. – Вот войдем в чертово село – попьем.
– Не говори, – мрачно поддакнул Гарик. – Воюй им, а ни жратвой, ни водой не могут обеспечить, козлы…
Это, по-видимому, относилось к высокому командованию, сидящему где-то далеко, в мирной предновогодней Москве.
– Говорят, какой-то хрен обещал к праздникам все закончить, – пробурчал Денис.
– Ага, а «чурок» предупредили?
– Эх, тоска тут, ребята… – вздохнул Макс. – Хоть бы к Новому году слинять отсюда. В нашем клубе такой тусняк будет…
Хрустальный замок до небес,
Вокруг него дремучий лес… —
напел он в такт орудийному грохоту. – Эх, как только выберемся, всех приглашаю. Выпивка за счет заведения.
– Ловлю на слове, – тут же отозвался Кирилл.
– Огонь! – На пробегающем по окопу Василии новенький бушлат. Трофейный.
Я уже спокойно относился к этому. Мы вовсю уплетали трофейную жрачку. В отличие от доблестных федеральных войск снабжение «бандитов» поставлено не в пример лучше. В их рюкзаках мы находили консервы всех видов и мастей, американские сигареты. У какого-то пижона с изрешеченной пулями головой извлекли бутылку джина. Мы опустошали рюкзак, а труп укоризненно глядел на нас единственным тусклым глазом. Мне сделалось не по себе, но Кирилл, пнув тело ногой, равнодушно заметил, что парень знал, на что шел. У него были документы подданного ОАЭ и фотография, где еще была целая голова и лицо, весьма симпатичное, а рядом скалилась большегрудая красотка.
– Твою мать, – не удержался я. – Кой хрен нес тебя от такой бабы…
– Вероятно, этот. – Кирилл вытащил из внутреннего кармана несколько новеньких хрустящих купюр с портретом насупленного американского президента. Протянул половину мне. Я не взял. Мне было противно. За эти бумажки убили Костика. И не его одного. А завтра, быть может, и нас… К тому же, вспомнил я, это, кажется, называлось мародерством… – Нет. За эти конкретные баксы «чехи» уже никого не уберут, – усмехнувшись, поправил Кирилл. – А мародерство – это у мирных. Здесь – трофей. Эти, кстати, можно брать. Вот у снайперов-хохлов – фальшивки. На фуфель покупаются братья славяне… Не хочешь – как хочешь. – И, равнодушно пожав плечами, забрал доллары себе. А фотографию смял в колючий ком и швырнул оземь.
Перед моими глазами все еще стояла белозубая улыбка фотографической красотки…
– Как ты думаешь, – сорвалось у меня с языка, – после всего этого… у нас не будет проблем… ну, с сексом? – Эта Проблема, несмотря ни на что, частенько будоражила нас, обсуждалась в тесных кружках и казалась порой важнее войны.
Кирилл удивленно заломил брови и посмотрел на меня так, что я почувствовал, как густая удушливая пелена наползает на щеки. Вот уж не думал, что когда-нибудь покраснею, как малолетка…
– Не дрейфь, – фыркнул Кирилл и ободряюще хлопнул меня по спине. – Будет работать лучше прежнего. Верь папочке. Только не тре-пись, где служил.
– Почему?
– Потому, – отрезал Кирилл. – Сам еще не понял? Лучше уж скажи, что полгода отбыл в психушке, да добавь «за идею».
– За какую еще идею?
– Не важно. Хоть за победу коммунизма в отдельно взятом «Макдоналдсе». На экзальтированных дамочек за тридцать это производит неизгладимое впечатление. А малолетки просто торчат. Война же – это грубо, непонятно и страшно. Баб от этого не прет, понял?
Бывало, находили наркоту. Ее забирал Гарик. Его взгляд с каждым днем становился все мутнее. Иногда мне казалось, что в его глазах скоро вовсе перестанут отражаться наши лица. Останется одна туманная пустота. Но я молчал. Как и остальные. Может, завтра он или я будем так же валяться с раздробленной головой… Да и чем несколько официальных поллитровок лучше сигареты с марихуаной? Каждый держался как мог.
– Огонь! – Василий уже охрип.
А с небес светило солнышко. Такое ласковое, что впору раздеться и броситься, зарываясь давно не мытым телом в нежную травяную постель, подставив оголенный тыл под свежий, как женское дыхание, ветерок…
– Твою мать… – закуривая, обронил Кирилл. – Вот вернусь, я нашему жирному борову задницу надеру…
– Кому?
– Полкану, суке продажной. Я же в милиции следаком работаю. Не дал одного бандита отмазать. А шеф наш, полковник Кривенко, за несговорчивость командировочку мне сюда выписал. Ну ладно, он у меня станет и вправду «кривенко». Скотина…
Страшный грохот потряс наш окоп. Земля заходила под ногами, точно началось извержение вулкана. И в ту же секунду воздух разорвал душераздирающий вопль. Макс Фридман бился в конвульсиях на дне окопа. Ниже правого локтя вместо руки у него болтались рваные ошметки кожи, мяса и грязно-бурой ткани…
– Убейте меня! – выкрикивал он, не переставая выть.
Его прижали к земле. Вкололи прямо в обрубок ампулу промедола, потом еще одну. Но он, рыдая и извиваясь, продолжал стонать, размазывая по лицу коричневую грязь:
– Лучше убейте меня. Я же музыкант… Не хочу быть инвалидом…
Ему дали еще успокоительное, и постепенно Макс затих, изредка всхлипывая. Огурец подпихнул под него брезент, а Сайд, гладя по курчавым волосам, проникновенно внушал:
– Неправильно ты говоришь. Надо жить. Ты молодой. Вернешься домой, сделают тебе протез какой-нибудь немецкий… Я по телевизору видел такие. В точности как настоящие… Никто и не заметит…
И все мы дружно поддакивали. Война для Макса закончилась…
Стараясь не шуметь, я захожу домой, запираю дверь, на цыпочках прокрадываюсь мимо комнаты родителей, откуда доносится похрапывание отца.
– Это ты, Славик? – сонно спрашивает мама.
– А кто же? Спи…
– Там на ужин котлеты с картошкой, сейчас встану, согрею…
– Даже не думай. Сам все найду. Спи давай.
У меня и впрямь пробудился волчий аппетит.
Я иду на кухню, лезу в холодильник, нахожу там котлеты с картошкой и с наслаждением уплетаю холодные и запиваю остывшим чаем.








