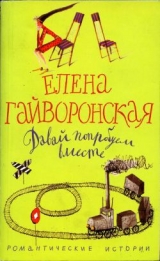
Текст книги "Давай попробуем вместе"
Автор книги: Елена Гайворонская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
3
Я закрываю дверь в свою комнату и остаюсь наедине с собой. Впервые за два года. На стене над кроватью – цветной плакат «Спартака». Когда-то я не пропускал по телевизору ни одного матча. Письменный стол. За ним я делал уроки, готовился в институт, писал шпаргалки. А иногда стихи… Как давно это было… словно и не со мной. Я будто в чужой комнате. Вытягиваю ящик стола и почему-то оглядываюсь, точно боюсь, вдруг войдет настоящий хозяин, парнишка по имени Слава Костылев, и увидит, что я роюсь в его вещах. Тетради, толстые и тонкие. Фотографии. Ошалевший от восторга взгляд из-под щипаной челки, улыбка в тридцать три зуба – это я. Темнокудрая красотка с полными, ярко очерченными губами, томно припавшая к моему плечу, – это Ирка. В самом дальнем углу – презервативы, уже просроченные. Вишневый блокнотик. Раскрываю наугад:
Мне всего восемнадцать, или это – уже?
Мне года мои снятся в крутом вираже.
Да, пожалуй, круче не бывает… Смешно… И немного грустно. Оттого что тот милый наив давно в прошлом и больше не вернется никогда. Сейчас я не смогу срифмовать и двух строк даже под дулом пистолета.
Забрасываю детство обратно в ящик и запираю на ключ. Со стены язвительно скалится Тихонов.
Да пошел ты! – сдираю плакат, швыряю на пол, гашу свет. В незашторенном прогале тоскливо болтается огрызок луны. Блочная высотка напротив изучает меня бойницами своих окон. И месяц продолжает таращиться. Я словно чувствую между лопатками направленный пучок его света. Задергиваю занавески, но и сквозь ненадежную ткань просачиваются тусклые блики и ложатся на пол косыми четырехугольниками. Я раскладываю диван, и он оказывается аккурат напротив окна. Желтые блики скользят по клетчатому покрывалу.
«Если на крыше дома напротив притаился снайпер, я стану идеальной мишенью».
Что за бред?! Здесь нет и не может быть никакого снайпера!
Я сдираю с дивана покрывало и цепляю на окно. Я знаю, что это глупо, но делаю. Помимо воли. Как зомби. Ложусь. Ворочаюсь с боку на бок. Начинает ныть нога. Черт бы ее побрал…
«Если у него система инфракрасного видения, не помогут никакие шторы».
Я вскакиваю, задвигаю диван в правый околооконный угол. Так безопаснее.
Нет! Мне просто хочется что-то изменить. Обстановку в комнате. Зачем я лгу самому себе? Я хочу изменить себя нынешнего на себя прежнего, двухлетней давности… Вот только не знаю как…
«Война закончилась для меня!»
Бум!
Я сжимаюсь, ощетинясь, кручусь на месте, не понимая, что делать и куда прятаться. И только потом соображаю, что это всего лишь шум соседей сверху. А ворот моей футболки уже мокр и холоден от липкого пота.
Стараясь ступать как можно бесшумнее, я иду на кухню. Достаю из холодильника недопитую бутылку, отхлебываю прямо из горлышка. Глоток, второй. И слышу, как стучит мое сердце. Тише. Еще тише… За спиной отчетливые шаги. Моя правая рука делает безотчетный жест, словно пытается выхватить несуществующий автомат.
На пороге стоит мама. В темноте я слышу ее участившееся дыхание, но не различаю лица. И хорошо, потому что она не видит моего. Я прячу бутылку за спину:
– Пожалуйста, не включай свет.
Мы стоим в темноте ц слушаем, как ветер скребет по стеклу беспомощными ветками старого тополя.
– Не стоит этого делать, сынок, – произносит она тихо и мягко.
– Чего?
– Пить в одиночестве. Это не выход. – Она делает шаг, другой и гладит меня по голове, словно я все еще маленький мальчик.
– Я знаю, – охрипнув, шепчу я. – Я не буду…
Ее пальцы продолжают перебирать мои волосы. Мама, милая мамочка, если бы я мог зарыться лицом в твои теплые шершавые ладони и выплеснуть боль, и страх, и невыносимое отчаяние, скопившееся во мне… Но мои глаза, давно разъеденные горячим песчаным ветром, пусты и сухи, и внутри все выжжено и мертво, как на остывшем пепелище родного очага.
Тишина стоит мертвая, зловещая. Именно в такой тишине, в полумраке обожает подкрадываться враг. Но меня не проведешь. Я чувствую его приближение, ощущаю его запах – сладковатую дурь гашиша, вонь пропотевшего тела, немытых ног. Я собираюсь в комок, нащупываю под подушкой автомат. Оконная створка бесшумно открывается…
Он ступает на подоконник, мой враг. Один, за ним второй. Они все-таки нашли меня. Я вижу их полусгнившие лица, изъеденные зеленоватыми трупными язвами и жирными белыми червями. Я выхватываю свой «АК», жму на спусковой крючок в положении «очередь», давлю изо всей силы, чтобы убить их во второй раз. Но они не падают. Они спрыгивают с подоконника и начинают окружать меня, оскалив в сатанинских усмешках желтые зубы, выблевывая тухлые внутренности, протягивая костлявые руки со свисающими оплетками кожи и клоками камуфляжа.
– Ребята! Кирилл! Денис! Огурец! На помощь!
Мертвец бьет меня в грудь, и я, крича и кувыркаясь, лечу в тартарары навстречу гигантскому всепожирающему огню…
Я свалился с кровати. Черт, это всего лишь сон. Дурной сон. Господи, сколько еще мне придется их видеть? Сколько я выдержу? Холодный пот ручьями льет по моим вискам, спине. Я вытираю лоб, брови, ресницы. Мои зубы выбивают дробную чечетку. Я лезу в шкаф, натягиваю старый, пахнущий нафталином джемпер. Достаю сигареты, открываю окно. Сырой колючий ветер бросает мне в лицо клочья разодранных туч…
Что толку ложиться? Вряд ли я снова засну. Я знаю, чего мне для этого недостает. Канонады орудийных залпов… Я выдыхаю порцию сизого дыма прямо в ощерившийся оскал белого месяца.
«Вырастешь – узнаешь…»
Так вот оно, сокровенное знание, первородный грех, проклятие рода человеческого. Война. Любимая детская игра. Самый древний и живучий из всех человеческих инстинктов, передающийся в генах, из века в век заставляющий новые горстки человеческих существ, прикрываясь громкими фразами о свободе, религии, принципах, низвергать самих себя в очередной кровавый ад…
«И вечный бой. Покой нам только снится…»[2]2
А. Блок. На поле Куликовом.
[Закрыть]
Кто это сказал?
Мне снится война.
В Моздок нас доставили на поезде. В допотопной плацкарте с деревянными полками. Пожилая проводница всю дорогу бесплатно поила нас горячим чаем, приговаривая: «Совсем молоденькие…» И уже от этой заботы становилось тошно и страшно до чрезвычайности. Костик лежал на верхней полке, уныло глядя в потолок. Денис таращился в окно. Наверное, думал о жене и дочке. Впервые я почувствовал зависть: почему-то, когда я пытался думать об Ирке, в памяти возникали лишь ситцевые, в сиреневый цветочек, простыни. Из туалета в очередной раз вылез Гарик, пробурчав, что съел какую-то гадость, и выпалил с неожиданной дурацкой мальчишеской бравадой: «Если нас везут на войну, мы покажем этим чурекам!» Я промолчал. На другом конце вагона резались в карты, вяло травили анекдоты, выму-ченно смеялись. В спертом воздухе витала неопределенность, казавшаяся страшнее самой жуткой действительности. Я вдруг почувствовал, как к горлу подкатывает унизительный солоноватый комок, и тихо вышел. В соседнем вагоне едут десантники. Судя по всему, это был не первый их вояж. Они отчаянно грузились водкой и громко ржали. С удивлением я услыхал знакомый голос. Так и есть – проныра Макс. Глядя вокруг осоловелыми глазами, напялив чей-то синий берет, он вдохновенно распевал под невесть откуда взятую гитару, «как упоительны в России вечера».
Я прошел в тамбур. У раскрытого сверху окна курил человек. Вероятно, как и я, искал уединения.
– Не помешаю?
– Воздух общий. – Он слегка подвинулся.
Я нашел сигареты, но никак не мог откопать спички. Наверное, оставил на столике. Незнакомец молча вытащил зажигалку, высек тоненькое пламя. В пляшущем свете огня глаза случайного попутчика казались на удивление светлыми и невыразительными. Я поблагодарил. Он коротко кивнул в ответ. Мы молча дымили. Теперь я разглядел, что этот парень постарше меня. Впрочем, ненамного. Косой пробор негустых пепельно-русых волос над высоким покатым лбом, тонкие брови, нос с небольшой горбинкой, упрямый рот с брезгливой нитью губ, подбородок, разделенный пополам короткой, но отчетливой морщинкой. Он был невысок, даже щупловат, но эта неброская сосредоточенность создавала впечатление человека уверенного и неробкого, спокойно смотрящего в страшное для меня завтра.
– Нас ведь везут в Чечню? – спросил я, хотя уже смутно догадывался, какой будет ответ.
Он усмехнулся зло и устало:
– Да уж. Чечнее не бывает. – И добавил, глядя в пространство, точно разговаривал с кем-то невидимым: – Ну ладно, я. А вы-то, пацаны, на кой хрен там нужны?
– А вы не в первый раз? – поинтересовался я осторожно, боясь нарваться на раздражение.
Он ответил с насмешливой злостью, словно адресованной неизвестному оппоненту:
– Надеюсь, в последний.
Дверь в тамбур хлопнула, несколько десантников вывалили по нужде. Макс продолжал горланить с отчаянным надрывом:
Хрустальный замок до небес,
Вокруг него дремучий лес.
Кто в этот замок попадал,
Назад дорогу забывал…
Мой случайный попутчик поморщился.
– Дурацкая песня, – скривился я в усмешке.
– Пожалуй.
Вновь повисло гнетущее молчание.
– Слава. – Я протянул руку.
Он смерил меня холодным пристальным взглядом, будто решал, достоин ли я его внимания:
– Кирилл.
Я выдержал этот взгляд и пожал протянутую ладонь, небольшую, но крепкую. И невольно ощутил, как моя отчаянная тревожность слегка улеглась, точно под воздействием магнетизма спокойного равновесия этого человека.
Стены высоток напротив начали медленно сереть. Квадратные крыши будто не желали пропускать рассвет. Далеко внизу протарахтел первый автобус. Лязгнула подъездная дверь. Огромный мирный город неторопливо поднимался навстречу новому дню…
4
Днем грязно-серое небо разродилось противным мокрым порошком.
В дверях родного института сталкиваюсь с тем несговорчивым преподом, кому обязан отчислением. Все в том же коротком вытертом пальто, с облезлым рыжим портфелем в руках. Я здороваюсь. Вежливо ответив, он скользит по мне равнодушным неузнающим взглядом: я был всего лишь одним из многих. Я ловлю себя на том, что больше не испытываю к нему ненависти. Он всего лишь выполнял свою работу. И уж конечно, не заслужил того, чтобы загулявший недоросль воображал его немолодую лысеющую голову в качестве мишени. Я вдруг ощущаю прилив стыда за ту дурацкую, почти двухлетней давности, нелепую ожесточенность. Мне даже хочется догнать его и извиниться, но это было бы еще глупее: ведь он ни о чем и не подозревает. Я лишь провожаю глазами его сутулую фигуру, полушагом-полубегом спешащую к троллейбусной остановке.
Полная дама в синем свитере с блестками, что-то жуя, сочувственно слушает мои сбивчивые объяснения на тему, что я хотел бы восстановиться и продолжить учебу. Я немного отвык от нормального изложения и прикусываю язык всякий раз, когда с него готово сорваться нецензурное слово. Узнав, где я служил, дама устремляет на меня туманно-сочувственный взгляд, словно я инвалид детства или болен СПИДом. При этом ее челюсть с мягким двойным подбородком продолжает неспешное отлаженно-меха-ническое движение. Я негромко кашляю. Жрица храма наук, встрепенувшись, произносит «Да-да» и, порывшись в моих бумажках, предполагает, что, скорее всего, в порядке исключения я буду восстановлен на второй курс и смогу приступить к занятиям с сентября будущего года. Она повторяет, что вообще-то это решает ученый совет, но, учитывая мое положение… И вновь глядит так, будто я беременный. Наверное, ей не терпится избавиться от меня, чтобы в спокойной обстановке заняться важным делом поглощения пищи. А у меня и впрямь то ли от духоты, то ли от терпкого запаха ее духов вдруг начинает кружиться голова. И потому, промямлив слова признательности, я выскакиваю прочь.
На улице студенты, полные юношеского задора и беспечности, болтают и смеются на всю округу. Девчонки в коротеньких юбочках над стройными и не слишком ногами… В тонкие нити взъерошенных ветром волос вплетаются мелкие бисеринки снежной крошки. Ребята в куртках нараспашку, вздымаемых ветром, точно паруса. А вон тот, худой нескладный шатен в новеньком, купленном «на поступление» «пилоте»… Почему-то я ускоряю шаг, забегаю вперед, выбрасываю руки, рот сводит в безмолвном крике…
Что я делаю? Кого хочу остановить? Кого предостеречь?!
Тот парнишка удивленно замирает, следом останавливается вся компания. Он действительно чем-то похож на меня… Меня прошлого. Парень недоуменно моргает:
– В чем дело?
Девицы шепчутся, посмеиваясь. Наверное, я похож на слегка обкуренного.
– Извини, – говорю, – обознался.
– Ничего, бывает. – Улыбнувшись, он хлопает меня по плечу, и мы расходимся в разные стороны.
Я остаюсь один посреди припорошенного снегом тротуара. Каждый делает свой выбор. По крайней мере, ему так кажется…
5
Дребезжащий троллейбус отсчитывает остановки. «Пятая Парковая улица». «Восьмая»… Усталая кондукторша продает билеты, и я покорно кладу монету в ее красные негнущиеся пальцы. Прежде здесь не было кондукторов. Билеты проверяли крепкие ребята – рейсовые контролеры. Я знал их наперечет и с задней площадки, готовый в любой момент выскочить вон, зорко наблюдал, не мелькнет ли в толпе садящихся знакомое лицо. Десять сэкономленных бесплатных поездок – возможность прокатить Ирку на «тачке». Каким детством теперь мне это кажется!
«Шестнадцатая Парковая».
Та же, в трещинах и щелях, плохо асфальтированная дорожка. Магазин. Тот же фасад, выкрашенный в синий цвет, изрисованный поверх толстых витринных стекол мерседесно-тойотс-кими знаками. Будто всякий, проживающий на этой окраине, ездит исключительно на крутой иномарке. Та же ступенька у входа. Здесь и впрямь ничего не изменилось.
Я приникаю к стеклу и вижу Ирку. То и дело встряхивая своими роскошными черными кудрями, она не забывает кокетливо улыбаться. Воркует с каким-то узколицым рыжеватым парнем в небрежно расстегнутом и дорогом по виду, стильно укороченном пальто. Я вижу острый ворот серой рубашки, перехваченный темным галстуком. Свитер на Ирке незнакомый. С затейливой бахромой по широкому «хомуту», съехавшему на полуобнаженное плечо. Значит, кое-что все же изменилось – Иркин свитер…
У меня странное чувство: будто все происходит не наяву, а в очередном, самом дурацком сне. Иначе как объяснить, что после двух лет разлуки с любимой я не распахиваю дверь ногой, не врываюсь вихрем навстречу изумленным возгласам, объятиям, поцелуям и всему остальному, столько раз рисованному моим распаленным воображением. Нет. Я стою, приникнув к стылому стеклу, наблюдаю, как моя девушка любезничает с чужим парнем… А внутри меня, там, где должно разгораться всепоглощающее шальное пламя, пусто и холодно, как в покинутом, полуразрушенном доме… А может, я стал импотентом?
Аж в холодный пот швырнуло. Ф-фу, придет же такое в голову… Сейчас я войду, и все будет по-прежнему!
Тихое шарканье ног по асфальту. Я оборачиваюсь. Мимо бредет старик с палочкой, что-то бормоча под нос. Поравнявшись со мной, он произносит негромко, но отчетливо:
– Как прежде уже не будет. Никогда…
– Что?
Старик поднимает голову. Мне кажется, что в выцветших глазах тускло мелькнуло нечто, что могло бы стать разгадкой.
– Улицы совсем не чистят. Безобразие, – скрипит он и, тяжело вздохнув, плетется дальше. Но меня не оставляет ощущение, будто он хотел сказать что-то другое. Да ну, глупость какая!
Я трясу головой, сбрасывая остатки оцепенения, и с непонятной злостью толкаю ногой магазинную дверь.
Первыми с вокзала на грузовиках с брезентовым верхом увезли десантников. Потом очередь дошла до нас. Иногда все кажется продолжением повседневной армейской «зарницы»: постреляем, побросаем – и обратно. Но обернутые войлоком дымчатого тумана горы вдали, собственный автомат, запасной боекомплект – «бэка», пара гранат, нож на поясе и овальный металлический жетон с пятизначным номером красноречиво опровергают эту иллюзию.
Слегка приободрившийся Гарик навел на меня черное дуло и, раздув щеки, изобразил звук выстрела.
– Прекрати! – неожиданно резко одергивает Денис. И этот окрик никак не вязался с его обычной флегматичностью.
– Когда это тебя выбрали командиром? – моментально ощетинился Гарик.
На его плечо опустилась рука.
– Убери.
Я узнал случайного знакомого из ночного тамбура, Кирилла. В его негромком голосе отчетливо слышались металлические нотки, а в холодной глубине светло-пепельного оттенка глаз скрывалось нечто, заставившее подчиниться даже Гарика.
– Это не игрушки, парень. Первое правило войны: никогда не ссорься со своими. Иначе всем крышка. – Отвернувшись, словно сразу позабыв о существовании Гарика, он легко запрыгнул в наш «Урал».
– Пошел ты, – запоздало пробурчал уязвленный Гарик. Но и он, и все мы в тот момент каждым нервом, всей кожей ощутили суровую справедливость слов Кирилла: отныне мы принадлежали к иному миру, где действовали иные законы, и нам только предстояло их постичь. Мы – снова «салаги». Только расплата за неподчинение уже не чистка сортира…
Перед самой отправкой в наш кузов, запыхавшись, кулем ввалился курносый розовощекий парнишка в очках на резинке, какую обычно вдевают в трусы.
– Чуть не опоздал! – выпалил он скороговоркой каким-то тинейджеровски ломким голосом. На фоне общей мрачной суровости его довольная, почти веселая мордашка смотрелась явным диссонансом.
– На тот свет торопишься? – хмуро поинтересовался Гарик.
– Поживем еще маленько, – моментально парировал паренек. И тотчас бодро представился: – Огурцов Александр.
– Огурец, – фыркнул Гарик.
– И так можно, – легко согласился жизнерадостный очкарик и, когда грузовик, яростно завывая мотором, тронулся с места, вытащил из вещмешка любительскую видеокамеру «Сони» и принялся снимать.
– Ты чё, журналист? – недоверчиво спросил Гарик.
– Начинающий, – охотно отозвался Огурец, наводя на него объектив.
У Гарика уныния как не бывало. Он тотчас молодцевато распрямился и скорчил свирепую рожу. Ни дать ни взять – Рэмбо.
Грузовик тащился по дороге, громыхая и лязгая на каждой выбоине. Нас обогнали. Из кузова высунулись загорелые, точно с пляжей Средиземноморья, парни, весело размахивая руками:
– Свежатинку привезли! Э-эй, берегите задницы!
– Свою прикрой! – крикнул в ответ Сайд, и наш грузовик затрясся от одобрительного смеха.
– Боеприпасы повезли, – пояснил Кирилл.
– А нас куда, в Грозный?
– Прямо уж так тебе сразу и в Грозный, – усмехнулся Кирилл. – Туда еще добраться надо.
– А ты уже бывал здесь? – робко спросил кто-то из наших.
Но тот молча закурил, даже не повернув головы в сторону говорившего. И я понял: это еще одно правило – не задавать лишних вопросов. Все, что положено, тебе расскажут. А то, о чем молчат, – узнаешь сам.
Любитель съемок Огурец тем временем высунулся из кузова, перегнувшись через край деревянной загородки так, что едва не нырнул под колеса. Мы с Денисом едва успели втащить его обратно в последний момент.
– Уф-ф, – прошептал Огурец, отдуваясь. В его зеленоватых, увеличенных стеклами глазах, по-детски бесхитростных, впервые прочи-тался легкий испуг, моментально перешедший в искреннюю счастливую благодарность. Он долго тряс руки мне и Денису. Ладошка у него была теплая и мягкая, как у ребенка. Казалось, на него невозможно по-настоящему рассердиться. Что делает этот парнишка на войне? Видимо, та же мысль пришла в голову и Денису, поскольку он хмыкнул и изо всех сил постарался быть деликатным:
– Разве с нестопроцентным зрением призывают… сюда?
– А я сам попросился. – По-детски шмыгнув носом, Огурец поерзал по скамейке. – Я на журфак в МГУ провалился. Мне сказали, что те, у кого есть печатные работы, имеют льготы при поступлении. Вот я и подумал: если все равно служить, лучше здесь, чем бумажки перекладывать. По крайней мере, если в живых останусь, то уж напишу не какое-нибудь барахло – настоящую книгу. Как Артем Боровик про Афган. Читали?
– Ага, – покрутил пальцем у виска Гарик, – настольная книга. При первом же выстреле в штаны наложишь. Толстой.
– Ты за свои штаны беспокойся, – невозмутимо парировал Огурец.
– А твои родители, что они… – подал голос Денис. Возможно, вспомнил о своей крохотной дочке. Наверное, это странно – ощущать себя отцом.
– Они не знают, где я… – Огурец упрямо закусил пухлую нижнюю губу и чуть насупил белесые брови.
Я тогда подумал: может, этот парень и впрямь слегка чокнутый, но мне он понравился своим заразительным юношеским оптимизмом, которого так не хватало мне самому. И еще я немного позавидовал его бесшабашной одержимости, бросающей вызов самому главному из всех инстинктов: самосохранения. Наверное, он придет к нему потом, этот унизительный, отупляющий, животный, но вполне естественный страх. Но пусть это случится как можно позже… Почему-то в тот момент я посмотрел на Костика. Он сидел, затертый в дальний угол, полузакрыв глаза, похожий на озябшего воробья на неудобной ветке. Бледные губы беззвучно шевелились, словно повторяли молитву. Наверное, тогда он ближе всех нас был к неведомому и пока неосознанному, но вполне реальному, земному аду, в огненном жерле которого вскоре нам всем предстояло оказаться. Непонятно, за какие прегрешения…








