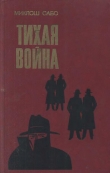Текст книги "Триумф и прах"
Автор книги: Елена Малахова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Для оформления обложки книги использовалась иллюстрация автора.
«Плотское мне больше не угодно. А в блуде вовсе смысла нет, поскольку, выкопав в саду цветы, а место их засеяв сорняками – не вырастит там ничего, кроме травы, такой же, что уже росла там.»
Джеймс Кемелли.
1
Не помню, сколько мне исполнилось тогда. Определённо, я была старше подростка, но значительно моложе возраста, когда в одиночку справляются о нише, уготованной тебе в мире возможностей и несбыточных грёз. Признаться, в те далёкие годы люди виделись мне экраном кинематографа, а их истории – фильмом, воспринимаемым верой на слово. Эта самая вера не давала беспристрастно заглянуть за кулисы правды, открывающие личность тех, о ком рождаются сплетни. Но однажды та невероятная правда полностью изменила мою жизнь.
Случилось это благодаря человеку, чьё имя в творческих кругах нашего времени произносят возвышенно, не скрывая восторга и трепета. Но оно до сих пор не утратило хульной репутации изгнанника рая в глазах светских дам и большей половины мужского общества. Разумеется, мало кто знал его как Джеймса Кемелли; да и гения, подспудного в недрах своеобразной его натуры, в те годы удалось разглядеть не многим.
Пожалуй, первое, что приходит на ум о человеке с прозвищем Сатана, включает в себя безнравственность поведения и притягательную внешность повесы; возможно, избранные души вообразили бы у него вместо глаз горящие угли, а также языки пламени, бьющие из ушей. Но совершенно не таким созерцала Джеймса Кемелли я.
И прежде, чем увидеть Джеймса воочию, я столкнулась с отчаянной критикой семьи Гвидиче и её близкого окружения. Дело обстояло в сентябре. В Италии как раз намечался ежегодный праздник винограда, и мой пожилой дядя Джузеппе взял меня с собой в гости к тетушке Адалии. Вот уже десять лет она справлялась с плантацией в одиночку после того, как овдовела, и дядя с удовольствием навещал её.
День нашего приезда выдался жарким. Безоблачное небо томилось под золотом солнечных лучей. Обед был накрыт в кирпичном обветшалом доме трех этажей, типичном для сельских плантаций винограда. Стол ломился изобилием, коим тетушка славилась на протяжении многих лет. В её итальянской натуре – впрочем, как и в характере остальных участников ужина – присутствовали черты щедрого гостеприимства и почитания древних традиций, одна из которых гласила, что близкие друзья и соседи приравниваются к степени кровного родства. По той самой причине за столом присутствовали не только члены семьи Гвидиче: Антонио (младший из трех сыновей тети Адалии) с женой Доротеей и малыми продолжателями рода: мальчиком Орландо и девочкой Лукрецией; но и Агостина Медичи с дочерями: Летицией и Каприс. Беседа шла оживленная. Говорили о познавательных поездках дяди Джузеппе по Европе, затем обсудили предстоящий праздник. Потом дядя Джузеппе вышел на улицу, желая искурить табаку, а за ним – Антонио, тётя Адалия внесла блюдо с тушенными овощами и передала его по кругу.
Я глядела на неё с любопытством незнакомца. Хоть уважаемая вдова южных районов была старше дяди Джузеппе, она сумела сохранить, как принято выражаться в Италии: «bella figura1». При этом она обладала неприметной наружностью: мелкие серые глаза и такие же серые волосы, гладко зачесанные в пучок, а нос выглядел слишком крупным на фоне аккуратного овала лица. Она получила прекрасное воспитание, и с годами её привычки лишь упрочили свои корни. Потому и впечатление производила суровое. Строгость голоса, присущая ей, останавливала неуместную откровенность собеседника, но мягкость черт лица, удрученного изобилием солнца, зачастую спасала положение.
В отличии от пышнотелой тёти Агостина Медичи выглядела утомленной, высохшей и сморщенной, как курага. Её тонкие губы, а также морщины, обтянувшие кожу густой сетью наглядности, служили намёком на скорую старость. Впавшие, будто Желоб Тонга, щеки её обнажали скулы, а за счёт уродливой худобы платье сидело на ней слишком свободно. Зная в какое болото, отнюдь не красящее женщину, тащит её время, она всячески старалась компенсировать невзрачность лица тяжелым слоем пудры. Без малейшей прозорливости в её темных глазах различалась злоба на всё насущное; и от колкого пронзительного взгляда хотелось спрятаться. Она вперила его в тетю Адалию, севшую за стол, и разговор поменял истоки.
– Уильям Кемелли уже приехал? – холодно спросила Агостина.
Тетя подняла на неё свои выцветшие благородные глаза.
– Нет, он будет только к вечеру. Похоже, поезд задерживается в пути.
– Слава пресвятой Мадонне! – Агостина Медичи совершила крестное знамение. – Нам удалось избежать отвратительного общества и неизбежного скандала!
За нерадивым диалогом двух старшин прослеживалось некое волнение, охватившее присутствующих. Глаза Каприс засверкали, и она силилась скрыть довольную улыбку, но едва ли. Летиция, напротив – была необычайно робкой, и после упоминания об Уильяме Кемелли взгляд её стал до предела смущённым. Тогда я не понимала, что живую реакцию готовых невест на выданье вызвал не синьор Уильям, а другой человек. Я старалась держаться непристрастной, но та атмосфера, что повисла в минуты ужина, натолкнула вопросом излиться наружу.
– Что плохого в обществе этого человека?
С высокомерием взирая на меня, Агостина сделала глоток сухого вина, но не удостоила меня ответом.
– И не спрашивай, Белла… – с открытым пренебрежением вымолвила тётя. – Мало кому приятно об этом вспоминать.
– Верно, Ада! – подхватила Агостина. – Говорят, Уильям вновь привезёт этого мерзкого дьявола!?
Её сухощавое лицо изобразило отвращение, а руки потянулись за салфеткой, уголками которой она промокнула манерно вытянутые губы. Летиция опечалилась, сильнее опуская голову, а Каприс вспыхнула глазами.
– Мама! Прошу, не говори так о нём!
– Не влезай, Каприс! – Агостина заимела оскорбленный вид. – Где твои манеры? Пожалуй, Европа вытрясла из тебя лучшие корни Италии!
В дверях появилась Тереза – чернокожая, пышная, точно взбитая перина, женщина в годах. Она была дочерью торговца полотном, замуж не вышла и работала одновременно на плантациях Гвидиче и дома синьора Кемелли бог знает сколько времени. К числу её прелестей любой бы отнёс широкую бесподобную улыбку: зубы ровные, крупные и белоснежные. Но я бы скорее подчеркнула момент, когда её мясистые щеки во время улыбки или разлитого смеха заслоняли разрез больших, на выкате, черных глаз. Она была немного прозаична, но очень мила в белых размашистых юбках и серой чалме.
Тетя Адалия любезно пригласила Терезу отобедать с нами. Но Тереза поставила блюдо поркетта2 на стол со словами:
– Не желаю участвовать в балагане жалких сплетен. Вы снова судите бедного мальчика, а ведь он наполовину сирота!
– Его никто не судит, Тереза! – деликатно поправила тётя Адалия. – Поступки этого англичанина давно перешли все границы. Вспомни, в том году он испортил половину нашего урожая, когда его беспардонный конь пустился по виноградникам.
– Ничего удивительного, каков хозяин – таков конь! – добавила Агостина, порождая волну смеха, которой заразилась тётя, а Тереза, обиженно всплеснув руками, ретировалась на кухню. Когда смех перестал сотрясать столовую, и несколько минут все молча разделывались с поркеттой, с улицы вернулись дядя и Антонио, вдохновляя женщин снова говорить о богатом урожае винограда и благодати южной погоды.
После такой непонятной дискуссии во мне взыграло любопытство, способное подчинить себе любого пристрастного наблюдателя. Меня стало интересовать семейство Кемелли, и в продолжении дня я искала возможность расспросить Терезу о синьоре и его дьявольском спутнике. Когда мне все-таки удалось выгадать время наедине в просторах столовой комнаты, Терезу обуяло исступление.
– Мой бедный мальчик, – причитала она, – судьба с ним так жестока! Ох, чувствуя я, погубят они коня!
Тереза перескакивала с одной мысли на другую, продолжая натирать посуду.
– Я так понимаю, Уильям Кемелли родом из Англии. И зачем ему понадобилось обзаводиться плантацией в Италии?
В мягкий голос Терезы проникла горечь.
– Синьор Уильям был женат на Бьянке. Её покойный отец, дон Диего, оставил ей плантацию в наследство. Когда бедняжка умерла, Уильям забросил усадьбу. Знала бы ты, какой чудесной, кристально чистой души была Бьянка! – Тереза замялась. Её задумчивые глаза уставились в тарелку, затем поглядели в окно. – Ох, и погубят они коня!
Было довольно трудно уследить за ходом бегающих мыслей Терезы, и я старалась упорядочить вопросы.
– От чего умерла Бьянка?
– Заражение крови, кажется. Уильям тяжело перенес трагедию. Он забрал бедного мальчика в Англию после похорон. Я видела, как синьор переживает, и предложила оставить Джеймса здесь, под моим надзором. Но он пророчил сыну великолепное будущее и отдал его учиться в Лондоне. Теперь они приезжают редко, в основном на праздник винограда.
Я молча вникала, а Терезу охватила охота говорить.
– В прошлом году Джеймс купил лошадь. Помню, как говорила ему: «Зачем такая нужна? Глазища чёрные, непроглядные, точно бездна. Да ещё и уродлива на один глаз. А сама как смерть – жуткая!» Но Джеймс полюбил её, – после недолгой заминки Тереза добавила, – да, полюбил…
Неуверенность её заявления смущала. Могло показаться, что в сказанном Тереза убеждает больше себя, нежели меня.
– Так почему Джеймса считают дьяволом? – спросила я, дотирая последнюю тарелку.
Тереза махнула рукой.
– Чепуха! Они слишком несправедливы к нему. Пх! Возомнили, что он из преисподней… А ведь он мой бедный мальчик. Как же ему нелегко!
После того разговора с Терезой стало понятно, что она вдохновилась Джеймсом Кемелли, как мир искусства вдохновился Сандро Боттичелли3 и его несравненной Венерой. Я прониклась к Джеймсу, ещё не видя его. Казалось бы, тайна исчерпала себя, но не тут-то было…
2
В южных районах существует традиция, именуемая Passeggiata, когда после обеда домочадцы совершают прогулки. Исполняя безукоризненно то, что годами закладывалось народом, участники трапезы вышли на прогулку и поделились согласно интересам: впереди следовали мужчины, затем – тётя и синьора Агостина, а позади – я и две сестры Медичи.
Каприс болтала без умолку, рассказывая о проведенной поре в Германии и своих замужних сверстницах. Ей поскорее хотелось стать солидной и уважаемой синьорой, как все те, кто обзавелся супругом и собственным домом. Она восторгалась жизнью в браке и на ходу придумала имена пятерым нерождённым детям. Руками она изображала не вполне уместные жесты, при этом зычно смеялась и запрокидывала голову. Не взирая на развязную веселость, её взгляд оставался пристальным, едким и заставлял чувствовать себя неуютно. Видимо, Каприс старалась продемонстрировать, что человек, открыто глядящий на собеседника, не хранит за душой камень потаенного греха.
Застенчивая Летиция не обронила ни слова, что выглядело не под стать говорливым девицам той местности. Она напоминала натурщицу картины «Дама с единорогом4». На её овальном лице довольно выгодно смотрелись чёрные, широко поставленные глаза. Высокий лоб и узкий аккуратный рот выдавали прямое отношение рода Медичи к буржуазной общине. Длинные, слегка вьющиеся волосы переливались золотом, а руки истончали бесподобную нежность кожи.
Летиция приходилась Каприс сводной сестрой (вдовец Адриано Медичи женился на Агостине, уже имея дочь Летицию). Вероятно, поэтому разница между ними была ощутима. Если Летиция оживляла в памяти картину Рафаэля, то Каприс будто сошла с «Портрета молодой венецианки5». Она имела длинные рыжеватые волосы, орлиный нос и крупные черты. Они придавали её расплывчатому лицу мужеподобный вид, что в значительной степени усугублялось покатым подбородком, сильно выступающим вперёд на фоне скошенного лба. Её живые бегающие глаза полнились лукавством. Внимательно за нами следя, Каприс подметила наше молчание и замыслила дурное. Вид у неё стал невероятно кичливый и дерзкий. Она схватила меня под руку, пронзая Летицию, идущую в шаге от нас, издевательским взглядом.
– Слышала новость: Летицию собираются замуж выдать?
Быстро подняв глаза на сестру, Летиция залилась краской.
– Не болтай, лгунья! – вскричала она. – Матушке он не по нраву, значит, она не даст своего благословения.
– Как отец решит, так и будет! – отпарировала Каприс. – И ты знаешь об этом не хуже меня.
– Лгунья! – повторила Летиция.
От уверенной злости сестры задор Каприс только усугублялся, и она продолжила вести беседу со мной, делая вид, что мы наедине.
– Он такой очаровательный. Только разговаривает плохо и когда ест, громко чавкает. А ещё у него огромные передние зубы. Их желтизна напоминает золото ацтеков. Что не говори, самая достойная партия для бесхарактерной особы!
Щеки Летиции вспыхнули пуще прежнего, даже слегка крючковатый нос – и тот покраснел от досады. С моей стороны безучастность – главный порок, относящий мир назад к этапу самобытности – нельзя было называть жестом благородства. Но взаимосвязь двух сестёр выглядела крайне интересной, и прерывать столь драматичную сцену я не посмела.
– Не стесняйся! Расскажи Белле, как ты влюбилась в Джеймса Кемелли и в прошлом году отсылала ему письма. Мы так «далеко» живём друг от друга, что ответ так до сих пор и не пришёл.
Издевки Каприс пошатнули в Летиции чашу душевного равновесия. Ее губы задрожали. Она силилась не заплакать, но предательские слезы наполнили выразительные глаза кроткой девушки. В тот момент она выглядела агнцем; невинной жертвой, роль которой бесценна в театре высокой драмы. Каприс тоже менялась на глазах. В ней будто засела тысяча чертей, и те искушали её на истязание сводной сестры.
– Прекрати, безбожница! – кричала Летиция. – Лгунья!
На секунду Каприс отразила циничную улыбку, и её крепкие руки по непонятным причинам затряслись.
– Или поведай, как своровала снимок Джеймса и лобзала его под одеялом!
– Каприс, хватит! – вмешалась я. – Сестрам подобает жить в мире и согласии.
Каприс метнула укоризненный взгляд: он красноречиво обвинял меня в измене. Сотрясаясь всем телом, она направилась к дому Медичи и лишь изредка оборачивалась, чтобы снова бросить свой гневный взор.
Летиция выглядела потерянной и старалась не встречаться со мной глазами. Она тихо сказала:
– Извини, Белла… Я лучше пойду.
3
Я крайне озадачилась перепалкой сестёр. Они были несколько старше меня, и тот возраст требовал знаний правил этикета, а также навыков применения их при посторонних людях. Но вместо этого они вели себя вопиюще; словно невоспитанные дети, не сумевшие поделить игрушку, которой по сути являлся Джеймс Кемелли – человек, чьё общество Агостина Медичи и тетушка Адалия совершенно отказывались воспринимать. Я посчитала разумным забыть ту неловкую историю, и, впрочем, мне бы то удалось, если бы не вечер того же дня.
Погода воцарилась приветливая, и, не смотря на умеренный жар прогретого воздуха плантаций, внутри дома Гвидиче витала легкая прохлада. Обстановку в нём нельзя было назвать богатой – тётушка не заостряла внимания на качестве мебели, отдавая предпочтение искусству выгодной расстановки предметов и умению вписать в интерьер декоративную вещицу. Ранее её навязчиво преследовало желание тратить итальянские лиры, но после кончины супруга тётушка Адалия потеряла тягу к расточительству. Плантация требовала немалых затрат и полного контроля, и она понимала это. Однако, при всей своей приобретенной бережливости она не могла устоять перед шикарными обедами, которые давала чаще соседей и совершенно не скупилась на изыски в блюдах. Потому на столе всегда присутствовали сорта элитных вин, поркетта и свежая чамбелла6. Она старалась компенсировать расходы, экономя на одежде, и объясняла свой сдержанный вкус нежеланием выряжаться при статусе вдовы. Ее скудный гардероб прятал в себе длинные юбки и платья, преимущественно недорогих материй, и подобные стилю рубашки, и очень редко, на праздник она снисходила до кринолина.
Не изменяя твердым манерам, в тот вечер тётя спустилась в скромном длинном платье грязно коричневого цвета. Семья Гвидиче толпилась у накрытого стола, ожидая последнего гостя, о котором я не ведала. На сей раз Медичи не пришли, и оставалось только догадываться, что могло послужить причиной.
– Снова он опаздывает, – ворчал дядя Джузеппе, успев изрядно проголодаться, – на месте его отца я бы внушительно потолковал с ним о манерах.
Дядя Джузеппе нахмурился. Созерцая высокий лоб с ярко выраженными буграми и несуразно вздернутый нос дяди, навряд ли со стороны его сочли бы представителем древнего итальянского рода. Он больше походил на северного скандинава или англичанина. Хоть ростом он был невысок, но в широких плечах его таилась небывалая мужественность. Чернявые прямые волосы, укороченные по старинке, и тёмную густую бороду разбавляла запоздалая седина.
В его светлых суетливых глазах я приметила иссякнувшее в конец терпение, и дядя принялся мерить шагами комнату вдоль расставленных стульев. Тереза, сверкая белыми зубами, порхала из столовой с горячими блюдами, лишний раз улучая момент приобнять меня или поцеловать в макушку. Тётя Адалия тоже нервничала, но виду не подавала. Антонио и Доротея сдержанно поджидали за столом, то и дело поглядывая на часы.
Мы обождали ещё пятнадцать минут.
– До чего же невоспитанный, – сердито отозвалась тётя Адалия, – точно вырос в диких джунглях! В конце концов всему есть предел! Время ужина было оговорено, может он и вовсе не придёт… Давайте приступим к трапезе. Да благословит Господь пищу нашу насущную.
Она прочла короткую молитву, в обязательном порядке читаемую до вкушения пищи. Во время прочтения вся семья склонила головы, соединив ладони вместе, и с прилежанием слушала искренние речи тёти. Когда настало время перекреститься, завершая священный ритуал, в дверь позвонили, и Тереза ринулась открывать.
Молодой гость, стоящий на пороге, выглядел не старше тридцати лет и бросался в глаза одеянием неместного стиля и пошива: тёмный сюртук, светлые брюки и шёлковый жилет облагораживали подтянутый силуэт. Войдя, он небрежно снял шляпу с короткими полями и, передав её Терезе, любезно поздоровался. Гвидиче разом встали; дядя Джузеппе и Антонио подали ему руку, а тётушка Адалия изящно поцеловала гостя в обе щеки.
– Caro7, как я рада! Вознесём хвалу небесам за такого чудесного гостя!
С интересом глядела я на обряд радушного приветствия, и сперва он показался очень милым. Враждебность тёти в отношении гостя улетучилась. Она держалась обходительно, не давая повода заподозрить, какое презрение терзает её душу при одном упоминании о нём.
Гость снисходительно улыбнулся. Тётушка пригласила его занять свободное место справа от неё, и мы приступили к ужину в напряжённой атмосфере. Горячие блюда сменились холодными закусками, и тогда завязалась странная беседа.
– Благодарю, – без экспансивности сказал гость, – ужин был отменным.
Он улыбнулся. Трудно подобрать слова, могущие донести читателю меткие представления, что представляла из себя та улыбка. Она состояла из превосходства и назидания, но в то же время считалась бы милой, не присутствуй в серо-голубых глазах блеск, унижающий достоинство. И что самое неприятное: при взгляде на неё чувствуешь себя абсолютным глупцом. Однако, тетушка не смутилась его улыбкой, всем своим видом показывая, что скудный комплимент гостя пришелся ей по душе. Она расцвела, обнажая в бледных глазах искру девичьего задора.
– Caro, ты же знаешь, я не люблю хвалу! – тётушка Адалия провела рукой по серым волосам. – Святая обязанность женщины уметь порадовать мужчину вкусным яством.
Я поняла, что её ответ был отнюдь небескорыстным. Непонятно откуда возникшая скромность указывала на то, что тётя не восполнила утробы тщеславия и нарывалась на очередную похвалу. Но гость оказался скуп на доброе слово.
– Так женщины созданы, чтоб удовлетворять желания мужчин? – высокомерно сказал он. – Звучит примитивно.
Тётя Адалия заметно смутилась.
– Разумеется нет!
– Но вы утверждаете обратное. И на том настаивает Библия, ведая о сотворении сперва Адама и только потом Евы.
Вмешался дядя Джузеппе.
– Сынок, подобные разговоры портят ужин...
– Я его не начинал, – спокойно продолжал гость, не убирая усмешку с лица, – я всего навсего сказал, что ужин был отменным, без намёка на вытекающие.
Все как-то приметно оживились, в особенности Антонио поменялся в лице. Благородный нос через широкие ноздри шумно выдыхал воздух. Черные глаза блестели, создавая своим блеском конкуренцию густой копне вьющихся до плеч волос. Доротея медленно пережёвывала мясо, смотря то на гостя, то на тётю, и выглядела шаблоном необычайной женственности – ей хотелось подражать. Она располагала к себе не только красотой и округлыми формами, правильно подчеркнутыми шелковым смарагдовым платьем – в её характере утвердились покладистость и манеры, достойные светского общества, что, на мой взгляд, и завоевало сердце Антонио. Сам же итальянец по натуре прослыл неуступчивым и вспыльчивым человеком.
Его разозлила прямолинейность дерзкого гостя. Обращаясь к нему, Антонио взял голосом высокую тональность.
– В Италии права женщин близко приравнены к правам мужчин. А ваши слова – дискриминация!
Каждое выдвинутое слово он гневно цедил сквозь зубы и всё сильнее сжимал в руке вилку. Было удивительно наблюдать, как в присутствии матери Антонио впервые встрял в разговор. Такое поведение расценивалось, как непристойное, но он уже не думал о том.
Усмехнувшись, гость воззрел на Антонио с отвращенным презрением.
– Полагаю, именно в условиях полного равенства ваша жена целый вечер молчит… – сухо ответил он. – А что касается ранее затронутой темы, то я говорю не конкретно о правах, скорее о смысле человеческой жизни.
Тётушка Адалия стала темнее тучи. Назревающие распри портили святость ужина, но горячность итальянского народа была ни с чем несравнима! Причём удивляла не только чрезмерная эмоциональность, но и построение самой беседы. С ранних детских лет меня воспитывал дядя Джузеппе на юге Исландии, что способствовало формированию иного взгляда на ведение диалога. Но нельзя не восхищаться столь рьяной демонстрацией чувств! В тот момент они виделись воинами на битве, где повышенные тона и крик использовались, как верный способ устрашить соперника и заставить его обратиться в бегство.
– Да что ты знаешь о смысле человеческой жизни? – Антонио подскочил, бросая вилку на стол.
Я и Доротея встрепенулись от неожиданности, но гость оставался покойным.
– Нельзя знать наверняка, – мирно рассуждал он. – Можно располагать мнением и свято верить в его подлинность. Но нет точного мерила, дабы превратить мысли в неизменное заключение.
Широкая улыбка гостя стала более приторной. Смотреть на неё было невыносимо! Дядя Джузеппе нахмурил лоб. Характер у него был мягкий и терпеливый, но подобные выходки стерпеть было невозможно.
– Хватит с меня неуважения, юноша! – грозно проговорил дядя, вставая из-за стола. – Наша семья гостеприимна, но таким гостям мы больше не рады.
Гость посерьезнел.
– Вы правы. Подобные вечера – пустая трата времени. Чао!
Он встал, отвесив небрежный и скудный поклон головой, взял шляпу и поспешно удалился. Когда дверь хлопнула, тётушка до смерти побелела.
– Мама, вам плохо? – вскричал Антонио.
Он живо подскочил к матери; следом бросилась Доротея, участливо взяв её за руку, затем – дядя Джузеппе. Тётя тяжело поверхностно дышала.
– Белла, скорее принеси воды! – скомандовал Антонио.
Я быстро исполнила просьбу, и следом за мной с кухни выскочила перепуганная Тереза. Крупные глаза её были на выкате.
– Ада, что с тобой?!
Тетя Адалия не могла говорить. Пересохшие губы слегка дрожали. Она устало бегала опечаленными глазами по столу. Антонио припал губами к чахлой руке матери, и в его черных неистовых глазах отражались страх и подлинное волнение. Доротея поднесла стакан воды к устам тети, но она только открывала рот, как рыба, не сделав ни глотка.
– Расступитесь! – приказал дядя Джузеппе.
Он подхватил тетю Адалию на руки и унес наверх. Антонио пустился следом, переступая по три ступени лестницы. Доротея захватила с кухни холодной воды и тоже поднялась. Пока Тереза справилась за врачом, я металась из угла в угол в гостиной. Вся эта суматоха случилась так внезапно, что времени размышлять над случаем не было. Я была охвачена паническим переживанием за тетю. Она обладала крепким здоровьем, болела редко, да и то простудой в лёгкой форме. Но, учитывая преклонность её лет, всякое могло случиться.
Прошло несколько часов; врач ушёл, и я поднялась к тетушке в спальню. Накрытая тонкой простыней она отдыхала на кровати, а её неподвижные руки лежали по швам. Печальные серые глаза были открыты, устало и медленно моргая. Чопорность изрядно въелась в её бледное, точно снег, лицо.
– Тётушка, я вас не потревожу?
– Входи, – чуть слышно ответила она, – мне уже лучше.
Разговор с тётей всегда давался мне нелегко. Я тщательно подбирала слова, боясь сказать лишнего и заслужить её немилость. А в тот вечер к тому же не хотелось навредить её состоянию.
– Вы нас так напугали… – осторожно сказала я.
– В моем возрасте возможно и не такое, caro! Агостина предупреждала, что позвать его сюда будет нелепой ошибкой. Видит пресвятая Мадонна, я так старалась угодить ему!
По щекам тёти Адалии заструились слезы. Она осушила их простыней, но они текли снова и снова. Поднимаясь к ней, я не собиралась затрагивать имя неизвестного гостя, чтобы не вызвать новое волнение. Но тётя заговорила о нем первой, и потому я нашла в себе смелость осведомиться, кем был тот человек, что приходил на ужин. Отвечая, тётя отреченно уставилась в сторону.
– Если кто-нибудь в жизни видел в лицо зло, то непременно скажет, что этим злом был Джеймс Кемелли!
Описав события того сентябрьского дня, пожалуй, следовало бы поставить точку в тайне дьявольского прозвища. Вполне ясно, откуда берут корни ненавистные кривотолки. Хотя, увидев Джеймса Кемелли таким, каким он сидел за столом, во мне поселилось разочарование. Ведь я искренне поддалась фантазии, воображая на его месте редкостного красавца, покорителя сердец посредством обаятельных жестов и мимики.
Но Джеймс Кемелли был отнюдь не таким. Я не созерцала в нём невероятного обаяния, красивых глаз или необычайной выправки. У него был длинный острый нос, прямой, как линейка. Русые пушистые волосы слегка кучерявились возле лба и темени, а на висках они были короче и прямее. Глаза неузкие, некрупные, ясные и внушительные. Выбритый подбородок не смотрелся выбритым: темные вкрапления выглядывали из-под светлой матовой кожи. Фигура высокая, жилистая в меру, в меру упитанная. С виду он производил впечатление заурядного адвоката или поверенного в дела зажиточного сэра. Тогда я начала сомневаться, что Джеймс Кемелли вообще кому либо может понравиться. Но дальнейшее развитие событий в доме Гвидиче опровергло мои домыслы.
Прежде, чем изложить ту странную роковую историю, предлагаю вернуться в день неудачного ужина. Я любила размышлять, когда никто не мешал; когда чудесная тишина – главный союзник, а голову не засоряет бремя посторонних мыслей. С той целью я вышла на улицу во двор. Кровавый закат терялся в тропах обихоженной плантации, бросая последние лучи солнечной благодати, как прощальные объятия, а размазанные по небу облака светились тёмным золотом. Подвязанные кусты винограда, все как один – бравые солдаты одной шеренги, еле слышно перешептывались листьями. На изумрудных холмах скатертью стелилась ровная, душистая трава; а кустарники и низкорослые деревья, завершая южный этюд, украшали шапками покатые поверхности полян.
Природное великолепие Италии несравнимо ни с чем! Божественное благословение пролилось на землю богатством холмов, историческими руинами, непревзойденными фонтанами, виллами и бесподобными соборами. Их живая завораживающая красота впитывается душой зрителя и оставляет в ней восторженную благодарность неземной силе за создание неподражаемого благолепия. Не зря именно здесь зародились величайшие гении всех времен, а также многие направления искусства и литературы. Эта невероятная тонкая чувственность природы вдохновляла!
Восхищаясь олицетворением элизиума на земле, я села на лавку у деревянной изгороди. Но чей-то безмятежный голос не дал мне всласть узреть щедроты уходящего дня в безмолвии.
– Ваше волнение только усугубляет вашу проблему.
Я повернула голову в сторону голоса. В шаге находился Джеймс Кемелли, который, должно быть, увидел меня с веранды соседнего дома Кемелли, и бесшумно подошёл.
– О чём вы говорите? – сконфуженно спросила я.
– О вашей ноге. Вы сильно волочите её, когда идете. И чем больше вы хотите скрыть уродство, делая упор на другую, тем оно становится куда более явным.
Я густо покраснела. Люди, догадывающиеся о моей хромоте, с которой родилась, старались всячески меня жалеть. Та жалость, скорее всего, поднималась из недра более высоких чувств, и большая часть планеты считает сопереживание проявлением сердоболия и высокой нравственности. Но я мало верила жалости, ибо все известные мне случаи сострадания служат ярким примером бесчестности этих людей перед обществом и самими собой. Вместо того, чтобы оказать надлежащую помощь, люди сострадают издалека, в мыслях; словом, но не делом.
Мне не пришло в голову ничего, что могло бы послужить достойным ответом его дерзости. А Джеймс Кемелли присел на другой конец лавки и продолжил.
– Подобное волнение и пристрастие к мелочам мешают жить полноценно. Чего стоят жизнь и людское мнение? Абсолютно ничего!
– По-вашему, лучше ходить бесчувственным грубияном и плевать людям в души?
Джеймс усмехнулся.
– Пожалуй, вы намекаете на меня. Я не плюю в душу. Я произношу речь, а общество расценивает её так, как выгодно обществу. Это человеческие мнения, и они переменчивы. Сегодня вы лорд, завтра – нищий. Добро и зло – понятия относительные.
В кой-то степени я была согласна с Джеймсом Кемелли. Порой, увлекаясь чтением газеты «Churchill», мне часто попадаются строчки читательской критики, и чаще всего она порочащая. Это наталкивало на мысль о людской зависти. Вместо того, чтобы с наслаждением принимать труды Андреа Лессо – известного философа итальянской современности, раскрывающего истину за истину в журнале «Il profeta» – читатели закрывают глаза на их тонкость и мудрость, ища недостатки. И то выходит у них, не скажу что без труда, но всё же выходит. Казалось, они нетерпеливо ждут выхода свежей статьи философа, чтобы вновь пролить на неё свет невежества неучтивой рецензией.
Но я не могла ни возразить Джеймсу Кемелли, считая своим долгом отстоять права человечества перед лицом предвзятости.