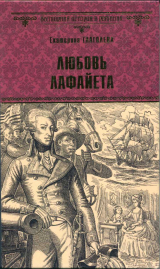
Текст книги "Любовь Лафайета"
Автор книги: Екатерина Глаголева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
4
Когда король будет проходить мимо, поклонись и поблагодари, – наставлял герцог д’Айен своего зятя, пока они шли по аллее к Малому Трианону.
– За что? – уточнил Лафайет.
На губах герцога заиграла довольная улыбка.
– По случаю твоей женитьбы его величество произвёл тебя в капитаны полка Ноайля.
– Но папа, к чему такая спешка? – Лафайет вовсе не обрадовался. – Я ещё не был в своём полку, и как отнесутся офицеры, которые много старше меня, имеют опыт и заслуги, но ниже чином…
– Дорогой мой! – Д’Айен остановился и опёрся обеими руками на трость с золотым набалдашником, чтобы подчеркнуть серьёзность своих слов. – Никто не мешает тебе проявить качества, достойные твоего нынешнего звания, но такова жизнь: стать кем-то и потом назваться им гораздо сложнее, чем назваться и потом стать. Опыт и заслуги – дело наживное. Вспомни сказку о Золушке: добродетель может всю жизнь просидеть в золе у очага, если кто-нибудь вовремя не подсадит её в золочёную карету. Считай, что я – твоя фея-крёстная.
И д’Айен пошёл дальше вальяжной походкой человека, знающего себе цену.
Жильбер ещё никогда не бывал в Малом Трианоне, который король начал строить для одной фаворитки – маркизы де Помпадур, а подарил уже другой – графине Дюбарри. Замок был квадратной формы и имел четыре фасада, каждый в пять окон, разделённых коринфскими пилястрами. Вестибюль напоминал собой внутренний двор; большая лестница вела на второй этаж. Парадные комнаты, где уже прохаживались придворные, собираясь небольшими группками, чтобы посудачить, были украшены скульптурными натюрмортами и живописными аллегориями времён года; на видном месте висел портрет госпожи Дюбарри в виде Флоры.
Королю было шестьдесят четыре года, из Людовика Возлюбленного он уже давно превратился в Людовика Недолюбливаемого. Шесть лет назад он лишился и жены, и верной подруги, однако быстро утешился в объятиях новой прелестницы вдвое моложе себя. Его младшая дочь Мадам Луиза ушла в монастырь, чтобы замаливать грехи отца.
Рассматривая портрет фаворитки, Жильбер подумал о графе Дюбарри, который согласился за ежегодную пенсию в пять тысяч ливров жениться на бывшей любовнице своего брата, чтобы та могла быть представлена ко двору и поселиться вот в этом замке, превратив кабинет короля в свою спальню. На следующий же день после свадьбы граф навсегда уехал в Лангедок. Дворянин торгует своей честью! И ведь наверняка ему многие завидовали…
Лафайет принял свой обычный непроницаемый вид, который позволял ему наблюдать и слушать, не побуждая других завязать с ним разговор. В свои шестнадцать лет он годился во внуки, а то и в правнуки большинству присутствующих – разряженных, как павлины, набелённых и нарумяненных стариков и старух с приклеенными мушками и в завитых париках. Водворение молодой фаворитки стало победой партии маршала де Ришелье, которому уже перевалило за восемьдесят и который служил ещё Людовику XIV – прадеду короля. Королевские внуки, в особенности дофин и его юная супруга, не выносили госпожу Дю-барри, однако их партия проиграла войну, и брат дофина граф Прованский был вынужден жениться на некрасивой принцессе из Пьемонта, которую ему сосватали через посредство фаворитки. «Что было бы, если бы глава побеждённой партии граф де Шуазель остался у руля?» – подумал про себя Жильбер. А впрочем, многое ли изменилось? Как говорит Вольтер, правительство тем лучше, чем меньше в нём бесполезных людей, – то есть великий философ даже не допускает мысли о том, что каждый член правительства может быть полезен. Но как же тяжело должно быть дельному человеку среди всех этих паразитов?..
Вошёл король – когда-то красивый мужчина, а ныне располневший, обрюзгший и выглядящий вовсе не величественно. Пройдя мимо дам и кавалеров, выстроившихся в два ряда и склонявшихся перед ним в поклоне, он обменялся кое с кем парой слов и перебросился парой шуток с д’Айеном, сыном своего доброго друга: маршал де Ноайль начинал военную карьеру королевским адъютантом в битве при Фонтенуа и командовал охраной в тот злосчастный вечер, когда Дамьен пырнул Людовика XV ножом, а кроме того, у них была общая страсть к ботанике. Затем король проследовал в столовую и занял своё место напротив госпожи Дюбарри. Стоя у стены среди других придворных, Жильбер исподволь разглядывал графиню, отметив искусно наложенные румяна, со вкусом подобранные украшения и продуманный наряд, однако всё это следовало поставить в заслугу горничным и камердинеру. Невыразительные глазки под яркими полукружиями бровей, наметившийся двойной подбородок, округлые плечи под газовой косынкой – очень скоро эта дама начнёт полнеть, но не по королевской милости… Наверняка она не ограничивается лёгким непродолжительным ужином в обществе его величества. Вот и сегодня трапеза завершилась быстро: у короля не было аппетита. Бросив на стол салфетку, поданную ему обер-камергером, старик поднялся и вдруг, пошатнувшись, рухнул навзничь.
Дамы вскрикнули, начался переполох. Упавшего обступили со всех сторон, но обер-камергер, напротив, просил всех отойти, чтобы дать королю воздуху; кто-то пытался открыть окно; д’Айен послал лакея за врачом. Лафайет так и остался на своём месте, растерявшись и не зная, что ему делать. Король по-прежнему был без сознания; несколько слуг подняли его и понесли в его покои. Д’Айен пошёл следом; госпожа Дюбарри поспешно удалилась. Кое-кто выскользнул из замка, чтобы разнести новость по Версалю, но большинство придворных оставались в столовой, перешёптываясь между собой. Толпа расступилась, пропуская королевского хирурга с несессером. Прошло ещё какое-то время; часы на каминной полке пробили восемь. В столовую спустился д’Айен, поискал глазами Лафайета, удовлетворённо кивнул и сделал ему знак следовать за собой. Они молча вышли из замка и, скрипя гравием, направились к решётке сада, за которой ждала карета.
– Немедленно отправляйся в Париж, а оттуда сразу в Мец, где стоит твой полк, – сказал д’Айен, когда лакей поднял подножку и захлопнул дверцу. – Сейчас заедем ко мне, я дам тебе твой патент и напишу письмо, которое ты вручишь моему кузену (и твоему командиру) князю де Пуа для передачи маршалу де Бройлю. Король, возможно, заболел. Третьего дня на охоте он повстречал похоронную процессию; покойница умерла от оспы. Не дай бог, чтобы эта зараза… Короче, сделай так, как я сказал.
Поднявшись в кабинет, герцог в присутствии Жильбера набросал записку жене о том, чтобы она ни в коем случае не приезжала к нему в Версаль, письма кузену и маршалу. Спрятав их за обшлагом рукава, Лафайет вскочил в седло и поскакал в Париж; впереди ехал слуга, освещая им дорогу факелом.
* * *
Король всю жизнь боялся оспы; стоит ли удивляться, что именно она свела его в могилу. Его тело, так долго предававшееся пороку, теперь превратилось в наглядное его изображение: отталкивающее, покрытое струпьями и издающее невыносимое зловоние. Он исповедался, попросив прощения у своего народа, которому служил недостойным примером. У одра раскаявшегося грешника, сменяя друг друга, дежурили его дочери – старые девы, воплощение добродетели. Когда освобождённая душа наконец-то покинула бренную оболочку, все три тоже заболели, успев, однако, довести до конца последнюю интригу: госпожу Дюбарри ночью увезли под стражей в монастырь Понт-о-Дам, опечатав её бумаги. Наследника не подпускали к умирающему; дофину Людовику и его су-пруте Марии-Антуанетте лишь издали показали полутруп с распухшим и почерневшим лицом, начавший разлагаться ещё при жизни. Десятого мая 1774 года, около четырёх часов пополудни, лакей в синей ливрее задул свечу на парапете балкона, выходящего на Мраморный двор Версальского замка.
Обер-камергер герцог Бульонский вышел из королевской спальни в комнату «Ой-де-Бёф» и громко объявил: «Король умер, да здравствует король!» Услышав эти слова, дофин испустил вопль отчаяния. К нему уже спешили придворные, чтобы приветствовать нового короля. Графиня де Ноайль, обер-камерфрау Марии-Антуанетты, присела перед двадцатилетними супругами в глубоком реверансе и первой назвала Людовика «ваше величество». «Какое тяжкое бремя! И меня ничему не учили! – горестно воскликнул король поневоле. – Мир рушится!» А его жена вздохнула: «Господи, защити нас, мы воцарились такими молодыми!»
Тем временем слуги, завязав лица платками и надев перчатки, положили покойника в двойной гроб и засыпали известью. Ночью его вывезли в охотничьей карете в усыпальницу Сен-Дени, кружной дорогой. Весь траурный кортеж состоял из двух карет: в одной ехали герцоги д’Омон и д’Айен, в другой – королевский духовник и священник из Версаля. Замыкали процессию полсотни конных гвардейцев.
Лафайет оторвался от письма своего тестя, сообщавшего ему эти подробности. Сухое и деловое, оно составляло резкий контраст с письмом Сегюра. Узнав о смерти Людовика XV, Филипп бросился в Версаль, обливаясь слезами, и что же? Вместо траура он встретил там веселье. Двор не живёт вчерашним днём, а день сегодняшний казался ярким солнечным утром: молодость (и неопытность) королевской четы внушала надежды очень многим…
Задумавшись о превратностях судьбы и о людском непостоянстве, Жильбер не сразу разглядел постскриптум, а когда прочёл, то вскочил, словно ужаленный:
«Возможно, тебя уже известили, но я всё же примерю на себя роль архангела Гавриила: у госпожи д’Айен есть основания полагать, что твоя жена беременна».
* * *
Лафайет получил отпуск только в сентябре. Он уже знал, что беременность Адриенны завершилась несчастливо; он всячески утешал жену в своих письмах, но она отвечала, что окончательно успокоится, только когда увидит и обнимет его.
Тем временем герцог д’Айен чуть не поссорился с супругой, доказывая ей необходимость обезопасить их семью, привив дочерей от оспы. «Английские матери любят своих детей не меньше вашего, сударыня, а потому и подвергают их сей совершенно безопасной операции в самом нежном возрасте. Вы так кичитесь своей начитанностью, вам ли не знать, что пишет об этом Вольтер в „Английских письмах“! Столь почитаемый вами фернейский старец расхвалил достоинства оспопрививания еще полвека назад, надеясь, что его услышат, и что же? Дамы, считающие себя просвещёнными ученицами философов, по-прежнему тонут во мраке невежества, превратив естественные науки в модную тему для разговоров, вместо того чтобы пользоваться их плодами! Да бог с ним, с Вольтером, – сам король повелел подвергнуть инокуляции себя и своих младших братьев!
Неужели пример монарха не кажется вам достаточно убедительным?»
Разум госпожи д’Айен подсказывал ей, что муж прав, однако не мог преодолеть сопротивления со стороны её чувств: страх перед неудачей и надежда на то, что всё как-нибудь обойдётся само собой, пересиливали все доводы рассудка. И потом, король и его братья – женатые мужчины, что им за дело, если бы даже оспа и наложила на их лица свою печать. Иное дело – девочки, которым только предстоит подыскать супругов. Тогда герцог пустил в ход последний аргумент: от оспы надо привить Жильбера; это вопрос решённый и обсуждению не подлежит. Госпожа д’Айен с облегчением дала своё согласие, но тут оказалось, что операция пройдёт не в Меце, где служит её зять, а в Париже, где её проведут самые лучшие врачи. Уже после первых намёков матери на то, что разлука с мужем может продлиться несколько дольше, чем они предполагали, Адриенна категорически заявила, что уйдёт из дома, лишь бы только быть со своим супругом. Она же поклялась ему у алтаря не покидать его в болезни! Проведя ещё одну мучительную ночь в раздумьях, госпожа д’Айен сняла домик в Шайо и заперлась в нём с обоими, решив ухаживать за зятем сама, поскольку она уже переболела оспой, и поручив младших дочерей заботам гувернантки.
Хирург сделал надрезы между большим и указательным пальцами обеих рук и вложил туда пинцетом немного гноя, взятого из пустулы больного оспой. Через неделю у Лафайета начался жар, головные боли, тошнота. Потом тело в нескольких местах покрылось сыпью, жар понемногу спал, и ещё через неделю он был совершенно здоров, а его внешность ничуть не пострадала.
5
Жильбер опять перепутал фигуры, и королева, с которой он должен был встать в пару, звонко расхохоталась.
– Нет, вы настоящий медведь, господин де Лафайет!
Вся кадриль остановилась, музыка смолкла. Жильбер слегка покраснел под взглядами, устремлёнными на него со всех сторон, и у Адриенны, танцевавшей с Сегюром, сжалось сердце, так ей было больно и обидно за мужа.
– Вы правы, ваше величество; боюсь, что танцы – не то занятие, для которого созданы медведи.
Лафайет с достоинством поклонился, и Мария-Антуанетта кокетливо наклонила голову; она жестом подозвала к себе Ноайля, велела оркестру играть сначала, и репетиция возобновилась. Жильбер встал у окна, сложив руки на груди.
Адриенна ободряюще ему улыбнулась. В её душе клокотало возмущение, но ей приходилось сдерживать себя. Если бы это не было репетицией королевского балета… Но всё же – как можно вести себя так неучтиво! Пусть Жильбер несколько неуклюж, разве прилично выставлять его на посмешище перед всеми? Хорошо ещё, что здесь, в этой зале, собрались его друзья, которые хорошо его знают и уважают, и дамы, относящиеся к нему более чем благосклонно, а если бы такое случилось на балу?.. Сегюр слегка пожал ей руку, напомнив, что им сейчас идти вперёд. Раз-два, три-четыре. Ноайль легко вёл свою даму; Адриенна метнула быстрый и острый взгляд в надменное лицо королевы. Ей нет никакого дела до чувств других людей! Здесь, при дворе, из чувств остались только спесь и зависть; красота высокомерна, а не добра, доброту же считают глупостью. Как Адриенна теперь понимает свою матушку, никогда не любившую Версаль!
Смена партнёров; Мария-Антуанетта пошла в паре с Куаньи, а Адриенна – с Дийоном, и её мысли неожиданно приняли совершенно иной оборот. А может быть, королева недобра, потому что несчастлива?.. Она замужем уже пять лет, но, если верить версальским сплетням, её брак с королём ещё даже по-настоящему не свершился. Во всяком случае, королева ни разу не была беременна, и её бездетность служит пищей для пересудов, в то время как её младшая невестка, некрасивая и недалёкая Мария-Тереза Савойская, готовится в конце лета родить первенца графу д’Артуа. А ведь королева так хороша собой! И так жаждет любви! Сколько слухов породил её единственный танец с красавцем-шведом графом Ферзеном, прошлой зимой на маскараде, когда она была ещё только супругой дофина! В самом деле, какая мука – жить в Версале, где обсуждают каждый твой шаг, у всех на виду, под строгим взглядом графини де Ноайль, которую Мария-Антуанетта прозвала «мадам Этикет»… Неудивительно, что королева полюбила маскарады и балы в Опере, сбегая из Версаля в Париж при первой возможности. Король застенчив, близорук и не любит светских развлечений; его жене, должно быть, так одиноко на чужбине… Чтобы пройти вечером в спальню жены, находящуюся в другом конце коридора от его собственной, король должен проследовать через зал «Ой-де-Бёф», где вечно толпятся придворные, и всем нетрудно догадаться, куда и зачем он идёт. Понятно, что он старается это делать как можно реже… Получается, что дурнушка Адриенна во много раз счастливее красавицы-королевы, потому что любит и любима, и муж по ночам не жалеет для неё ласк! Адриенна поискала взглядом Жильбера; он беседовал с братом Сегюра. Как он хорош в этом костюме, подчеркивающем благородство его черт и осанки! Это была идея королевы: нарядиться всем в костюмы времен Генриха IV и королевы Марго, когда мужчины были прямодушны и сильны, а женщины – отважны и бескорыстны. Облегающие камзолы, чулки, короткие шёлковые плащи шли только молодым; подагрические старики в них выглядели нелепо и смешно, а потому не появлялись на маскарадах. Если бы королева могла, она прогнала бы их совсем; она так и заявила однажды, что людям старше тридцати следует соблюдать приличия и не показываться в Версале… Бедная королева… Её надменность и бесчувственность – всего лишь досада и неудовлетворённость, разбитые мечты о счастье… Когда кадриль закончилась, Адриенна уже простила Марию-Антуанетту и была готова её пожалеть.
* * *
Зима 1775 года выдалась необычно холодной. На Сене скалывали лёд, кутающиеся в тёплые накидки прохожие месили ногами кашу из снега, грязи и конского навоза, мощёные дворы приходилось посыпать песком, чтобы не поскользнуться на обледеневших булыжниках. Изо всех труб валил дым, дрова на рынке сильно вздорожали. На площадях раскладывали костры, у которых грели озябшие руки и ноги мальчишки-разносчики, подёнщики, грузчики, возчики, лоточные торговки и прочая неприкаянная публика.
Многие замерзали до смерти по ночам в своих нетопленых лачугах, и король, узнав об этом, велел раздать сто тысяч ливров неимущим парижанам. Его благословляли за доброту; однажды днём, когда королева приехала в Париж на театральное представление, люди выпрягли лошадей из её саней и повезли их сами. Мария-Антуанетта была очень тронута и обрадована этим выражением народной любви.
Чем крепче становился мороз, тем неистовее веселились на балах, маскарадах, в театрах и тавернах. Каждую неделю Луиза и Адриенна с мужьями танцевали на балу королевы, а после отправлялись ужинать в особняк Ноайлей, приводя с собой ораву друзей. В большом зале сворачивали ковры, зажигали все свечи в огромной люстре, и снова играла музыка, сновали лакеи с подносами. Самые близкие друзья дома приезжали обедать; в парадной столовой накрывали длинный стол на тридцать персон. Превозмогая свою нелюбовь к шумным увеселениям и бездумному времяпрепровождению, госпожа д’Айен играла роль радушной хозяйки, чтобы угодить мужу и не отвадить от дома молодых зятьёв: так она сможет чаще видеть старших дочерей. Ей не было неприятно общество молодёжи, ведь разговоры за столом, несмотря на шутливый настрой, задаваемый хозяином дома, велись не только о пустяках, но и о вещах вполне серьёзных и достойных внимания. И тем не менее она ждала Великий пост как избавление.
Герцогу же такая рассеянная жизнь была вполне по вкусу, поскольку, как он любил повторять, на свете нет ничего важнее пустяков. Пока не пришла пора возвращаться в Версаль, он ездил с визитами, укрепляя старые связи, и появлялся на балах и в гостиных, чтобы завести новые. Его охотно принимали у Жюли де Леспинас, где собирались литераторы, у госпожи Жофрен – в день, отведённый для учёных, и у герцогини де Граммон, где говорили о политике. Помимо этого, д’Айен усердно навещал свою младшую сестру – графиню де Тессе, которая разделяла его вольнодумные взгляды. Графине недавно исполнилось тридцать три года; она сочетала независимость суждений с безупречностью манер, и её обаяние было основой её привлекательности. Вечера на улице Варенн в Сен-Жерменском предместье отличались возвышенной простотой, изящной рассудительностью, учтивой критикой. Здесь говорили об истории и политике древних и новых времён, пересказывали придворные анекдоты, обсуждали литературные и театральные новинки, переходя от серьёзного к занимательному, а от приятного к полезному.
Едва герцог в костюме цвета увядших листьев и напудренном парике появился в гостиной, сверкая алмазными пряжками на туфлях и благоухая жасмином, как дамы обступили его и потребовали немедленно признаться, какого он мнения о «Севильском цирюльнике» господина де Бомарше, представленном третьего дня в «Комеди-Франсез». Д’Айен сказал, что мадемуазель Долиньи весьма недурна в роли Розины, она сохранила стройную фигуру и умело стирает с лица печать лет при помощи грима, а вот Белькуру подобные ухищрения не помогли: пятидесятилетний Альмавива выглядит едва ли привлекательнее Бартоло. Зато Превиль-Фигаро, со своей естественной игрой, был, как всегда, хорош.
– Да нет же, какого вы мнения о пьесе? – спросила маркиза де Сегюр, не позволяя герцогу ускользнуть.
– Я думаю, что господин де Бомарше завидует своему Фигаро и хотел бы быть таким, как он, однако вывел себя в виде Базиля.
– Базиля?
– Помилуйте, все его рассуждения о клевете подсказаны жизненным опытом; а то вот ещё неплохая фраза из начала четвёртого акта: «Обладать всякого рода благами – это ещё не всё. Получать наслаждение от обладания ими – вот в чём настоящее счастье». С этим, кстати, я совершенно согласен.
– Одна знатная англичанка, которая находится сейчас в Париже и просила меня руководить ею в светской жизни, наотрез отказалась пойти в театр, когда услыхала название пьесы, – сообщила госпожа де Тессе, обмахиваясь веером. – «Севильский цирюльник»! В пьесе, конечно же, должны быть слуги, чтобы помогать своим господам, но отдавать им главную роль – это уже возмутительно! Если на сцене начнут представлять «Парижского портного» или «Лондонского сапожника», приличная публика перестанет ходить в театры.
И графиня приняла высокомерный вид, изображая чопорную англичанку.
– «Вечно вы браните наш бедный век», – ответил ей в тон старший брат цитатой из пьесы.
– «Прошу простить мою дерзость, – тотчас подхватила госпожа де Тессе, – но что он дал нам такого, за что мы могли бы его восхвалять? Всякого рода глупости: вольномыслие, всемирное тяготение…»
– «Электричество, веротерпимость, оспопрививание, хину…», – продолжил перечислять герцог, пока не запнулся в свою очередь.
– «Энциклопедию и драматические произведения», – закончила одна из дам, и все рассмеялись.
– И всё же я не удивлюсь, если у господина де Бомарше возникнут неприятности из-за его пьесы, – сказала маркиза де Сегюр. – Его высоким покровителям могут не понравиться слова о том, что немного найдётся господ, достойных стать слугами.
– Беда в том, что любой слуга считает себя достойным стать господином.
На этих словах д’Айен галантно раскланялся с дамами и пошёл вглубь гостиной, то и дело приветствуя знакомых.
Филипп де Сегюр беседовал с аббатом Делилем – вернее, почтительно ему внимал. Переводчик «Георгик» Вергилия был в большой моде, особенно после своего недавнего избрания во Французскую академию. Вольтер расхваливал его на все лады, Лагарп возмутился, что сей исключительный талант диктует школярам тексты для перевода на латынь, и тридцатишестилетнему аббату, чья молодость была так досадна маршалу де Ришелье, отдали кафедру латинской поэзии в Коллеж де Франс. Теперь он кочевал по литературным салонам, декламировал свои вирши у госпожи Жофрен и снисходительно давал советы начинающим литераторам. Филиппа он поучал тому, как завладеть вниманием слушателя.
Герцог непринуждённо вмешался в разговор, сказал обычные комплименты Делилю и увлёк Сегюра в дальний угол, мягко придерживая за локоть. Им надо было поговорить наедине – насколько это возможно.
– Я очень рад вашей дружбе с господином де Лафайетом, – сказал д’Айен, переходя прямо к сути, – и надеюсь, что вы сумеете повлиять на него своим авторитетом старшего товарища.
Сегюр удивлённо вскинул брови.
– Видите ли, мой дорогой, мне кажется, что у моего зятя… слишком холодный темперамент. Просто не верится, что в краю овернских вулканов мог уродиться столь сдержанный человек, руководствующийся в своих поступках не чувствами, а исключительно рассудком.
Филипп растерянно пробормотал, что не видит в этом ничего недостойного, более того, многим юношам следовало бы брать пример с господина де Лафайета. Д’Айен скорчил гримаску.
– Мой юный друг, одежды добродетели к лицу лишь тем, кто уже не в силах грешить. Не подумайте, что я вам стану проповедовать порок, о нет! Но чтобы восторжествовать над своими слабостями, прежде нужно им поддаться. Что за доблесть победить противника, с которым не столкнулся лицом к лицу? Вы со мной согласны?
Сегюр поспешно согласился, не вполне понимая, куда клонит собеседник. Герцог продолжал:
– Вы молоды, вам кажется, что вся жизнь у вас впереди. Но время летит быстрее, чем вы думаете, и очень скоро настанет момент, когда о юности придётся говорить в прошедшем времени, семнадцатилетние девы станут считать вас стариком, и вам только и останется, что хранить верность своей супруге, есть на ужин варёную куропатку и разбавлять вино водой. Весь парадокс в том, что, если господин де Лафайет услышит подобное от вас, а не от меня, он задумается, а не станет возмущаться. Так что Саrре diem[3]3
Лови день (лат.), т. е. лови момент, живи настоящим.
[Закрыть], как говорит наш друг Гораций!
На этих словах, потрепав Сегюра по плечу, герцог мгновенно растворился в толпе, оставив юношу в полнейшем недоумении.
* * *
Жильбера захватил водоворот парижской жизни. Нужно было делать и отдавать визиты, слушать в Опере «Ифигению в Авлиде» маэстро Глюка, бывшую у всех на устах, посещать с тестем-химиком лекции естествоиспытателя Жюсьё и сеансы физических опытов, на которые пошли из любопытства госпожа д’Айен и Адриенна, танцевать на балах и участвовать в пирушках. Поздно возвращаясь домой, он иногда без сил валился на постель и засыпал, пока слуга стягивал с него сапоги. Свеча, поставленная на столик, выхватывала из темноты стопку книг, приготовленных для чтения на ночь, и Жильберу становилось совестно. За три месяца, проведённых в Меце, он понял, как ничтожны его познания в военном деле и сколько ему придётся навёрстывать. Он дал себе слово пополнить зимой пробелы в своём образовании и накупил трактатов по военному искусству, но книги так и лежали нераскрытыми. В конце концов, прочесть их можно будет и в Меце, где, в общем-то, больше нечем заняться. А здесь, в Париже, нужно ловить каждый миг, тем более что Жильбер старался извлекать пользу даже из развлечений.
Чопорный, стылый, унылый в своей роскоши Версаль всё еще оставался затхлым царством стариков, и молодой двор, точно магнитом, тянуло в Париж. Эти вылазки делались инкогнито, и игра с переодеваниями, налёт тайны и нарушения запретов ещё усиливали веселье, горяча кровь. Вот и сегодня, привычно поднявшись по скрипучей лестнице на второй этаж таверны «Деревянный меч» на улице Ломбардов, Лафайет застал там младшего брата короля в окружении своих «рыцарей».
Его шумно приветствовали, а хозяин немедленно принёс и откупорил ещё две бутылки бургундского. Вся компания, бывшая уже под хмельком, решила изобразить господ из парламента, устроив шутовское заседание: граф д’Артуа был председателем, прочие разобрали роли адвокатов и советников, а Лафайет, сразу влившись в игру, вызвался стать генеральным прокурором.
Семнадцатилетний Карл д’Артуа – изящный, весёлый и прямодушный – совсем недавно побывал на заседании Парижского парламента и теперь, под видом игры, хотел излить свою досаду. Два месяца назад король, уступив главному министру Морепа, восстановил парламенты, заменённые ранее высшими советами. Если советники назначались правительством и получали жалованье из казны, то члены парламента свои должности покупали, уплачивая при этом «налог на присягу», который поступал в кассу Ордена Святого Духа. Старик Морепа видел в этом залог определённой независимости в отношении короля, которому господа из парламента могли делать замечания. Народ, считавший их своими защитниками, встретил новость бурным ликованием, однако Большая палата быстро оказалась под колпаком у принцев крови во главе с Конти, намеревавшихся диктовать свою волю Людовику XVI.
Сторонники реформ не сдавались и подали новый проект, который и предстояло рассмотреть на том самом заседании 30 января. Неожиданно для всех слово взял девятнадцатилетний граф Прованский и заговорил умно и бойко. Вкратце изложив содержание проекта из десяти статей, он высказался против двух из них: о должностных преступлениях и о замене парламента Высшим советом, разоблачая их тайный смысл, который якобы противоречил интересам короля. Артуа прекрасно понимал, в чём тут дело: Прованс с детских лет считался самым умным, образованным и изворотливым, то есть гораздо лучше подходившим на роль короля, чем дофин. Сохранить парламенты было для него шансом получить реальную власть, раз уж в номинальной ему было отказано по прихоти природы.
К моменту его блестящей речи заседание продолжалось уже пятый час в большом холодном зале. Пока брат разливался соловьём, Артуа встал со своего места и подошёл прямо к камину. Он грел у огня озябшие руки и бока, перешучиваясь с советниками по поводу того, что неплохо бы размять ноги, а то от долгого сидения и в голове наступает застой. Внезапно в зале наступила ледяная, звенящая тишина. Прованс оборвал свою речь и сверлил брата гневным взглядом, его нежные молочные щёки покрылись красными пятнами. Все взоры обратились на Артуа, и тогда Месье не хуже королевского гувернёра прочитал брату нотацию о том, как надлежит себя вести в присутствии уважаемых магистратов, в священном месте, да ещё в такой важный момент, когда речь идет о высших интересах государства! Не выказав ни малейшего раскаяния, Карл вернулся на своё место и приготовился слушать дальше. Но на повестке дня стояло ещё сто пятьдесят вопросов, каждый из них требовал подробного обсуждения, и чтобы не слишком утомлять заскучавших принцев и вельмож, председатель быстренько завершил заседание. Под бурные рукоплескания приняли постановление, наспех состряпанное принцем Конти вместе с председателем и генеральным прокурором.
И вот теперь хохочущая молодёжь исполнила этот фарс на бис. Пародируя текст эдикта о парламентах, Лафайет с пафосом говорил, что суть свободы в том, чтобы каждый держался своего места, а уж он своё не отдаст никому! Взрывы смеха порой заглушали звуки скрипок и волынок, доносившиеся из большой залы на первом этаже; вино лилось рекой. Когда разудалая компания собралась расходиться, большинство уже нетвёрдо переставляли ноги. Сегюру нужно было торопиться в Версаль, чтобы не опоздать к церемонии отхода короля ко сну.
– Скажи Ноайлю, сколько я выпил! – прокричал ему вслед Лафайет заплетающимся языком.
Заботливая Адриенна прислала за ним карету. Жильбер повалился на сиденье и велел везти себя домой.
* * *
– Сударь! Проснитесь, сударь! – Лакей осторожно потряс Сегюра за плечо.
Часы на мраморной подставке пробили полночь. Свет от огонька свечи пробивался сквозь неплотно сомкнутые веки.
– Ну что там ещё? – сонно пробурчал Филипп, отворачиваясь от света.
– Здесь господин де Лафайет. Он говорит, что у него к вам срочное дело.
Дверь распахнулась, вошёл Лафайет с канделябром в руке. Слуга поспешно удалился, оставив их одних, а Сегюр сел на постели и потёр руками лицо.
Жильбер выглядел серьёзным и сосредоточенным. Выждав некоторое время, он сообщил своему другу, что явился в столь неурочный час, потому что дело не терпит отлагательств, к тому же говорить о нём он предпочитает без посредников, – короче, он вызывает его на дуэль.








