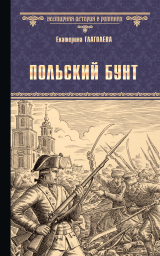
Текст книги "Польский бунт"
Автор книги: Екатерина Глаголева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Поблагодарив императрицу за великодушную помощь, Светлейшая конфедерация в Гродно принялась творить суд и расправу над польскими «якобинцами». Нота о вступлении прусских войск в Гданьск и Торунь для их очищения от революционной заразы застала ее врасплох; Щенсный Потоцкий срочно выехал в Петербург, но было поздно: русский посланник Сиверс требовал созыва сейма для утверждения нового раздела Польши.
Когда Сиверс явился к Понятовскому и велел ехать Гродно, тот сказал: лучше в Сибирь. Его заперли и держали без пищи. Он поехал… Полковник Штакельберг поднес ему на подпись акт о разделе. «Сжальтесь надо мною, милостивый государь! Не заставляйте подписываться под своим позором!» Штакельберг сказал, что это будет последняя жертва. Росчерк пера – и можно наслаждаться тихой и покойной старостью…
Браницкий тоже был на Гродненском сейме. После второго раздела все его поместья отошли к России; он променял гетманскую булаву на чин генерал-аншефа и уехал в Белую Церковь. А король вернулся в Варшаву. Куда ему было податься? Вслед за ним приехал Игельстрём, из барона ставший графом. Под началом Игельстрёма было тридцать тысяч русских солдат, из которых восемь тысяч стояли в Варшаве. Польскую же армию, несмотря на союзный договор с Россией, было велено сократить вдвое. Только в Кракове польский гарнизон остался без присмотра русских. Вот в Краков и прибыл из Дрездена Костюшко, которому войско тотчас присягнуло как главному начальнику вооруженных сил… И Юзеф тоже.
Спокойная старость… Король встал с кровати и вытер глаза тыльной стороной ладони.
Игельстрём опутал весь город сетью шпионов, выслеживая недовольных, масонов, заговорщиков. Он презирал поляков, но не знал их. Он сам превратил их в «якобинцев». Прозрение настало слишком поздно. Как для Людовика XVI: «Это бунт? – Нет, сир, это революция…»
Надо всё же послать кого-нибудь узнать, как обстоят дела.
Пройдя через туалетную комнату, кабинет и приемную, Станислав Август вышел в кордегардию и попятился от неожиданности, увидев там вооруженных мастеровых. Они, однако, взяли на караул, после чего двое, вытянувшись в струнку, остались стоять у дверей, а третий убежал. Он вскоре вернулся вместе с бравым усачом лет тридцати, в красном жупане и синем кунтуше, с двумя пистолетами за поясом.
– Ваше королевское величество! Радный Ян Килинский к вашим услугам! – отрекомендовался он осипшим голосом.
– Что вы здесь делаете? – выдавил из себя Понятовский.
– Ставлю караулы для охраны вашего величества!
– А где…
– Солдаты? – подсказал Килинский. – Вместе с народом стерегут москалей, чтоб не ускользнули!
Понятовский махнул рукой и ушёл обратно.
* * *
К трем часам дня русских вытеснили почти отовсюду; они теперь держали оборону только во дворце Красинских, в монастыре капуцинов, возле дома Игельстрёма на Медовой и в Данцигском саду. Ко всем заборам поляки подтащили пушки и проделали бойницы для них. Тем временем в ратуше состоялись выборы городского совета. Президентом его снова стал Игнаций Закжевский, в свое время оставивший этот пост, чтобы не поддерживать тарговичан, военным губернатором Варшавы – генерал Мокроновский, а еще в совет вошли двенадцать вельмож, восемь шляхтичей и шесть мещан, включая Килинского. Ему поручили охрану короля.
Было около пяти вечера, когда Ян наконец-то вернулся к себе на Широкий Дунай. Голова слегка кружилась – с раннего утра маковой росинки во рту не было. Да и кто бы сохранил ясную голову в такой круговерти – словно несколько жизней прожил за один день! Тяжело ступая, Килинский поднялся на четвертый этаж, отпер дверь, остановился на пороге, опершись о притолоку. Марыля вскочила со стула, увидев его, да так и замерла, ни слова не сказала. Ту бумагу, про которую он говорил ей утром, она нашла. Это было завещание: Ян делил свое имущество между нею и детьми. Дети, голодные и уставшие от плача, спали рядком на кровати. Муж пришел живой. Ну и слава Богу.
Глава II
Екатерина скомкала письмо от Игельстрёма и стукнула кулаком по уборному столику.
– Счастлив этот старик, что прежние его заслуги сохраняются в моей памяти!
Нет, каково? Имея под своим началом восемь тысяч штыков, можно было прихлопнуть любой заговор, словно комара! А он теперь ее стращает скорой революцией в Литве и прилагает к письму манифест Костюшки!
Зачем она отправила Игельстрёма в Варшаву? Чужих жён брюхатить? За Понятовским следить, чтобы не учудил еще чего-нибудь на старости лет. А то, вишь, припала охота конституции сочинять! Осталось только трехцветную кокарду на шляпу нацепить, как убиенный король Французский. Ухо держать востро, крамолу выкорчевывать – вот зачем нужен был Игельстрём. Никаких чудес от него не ждали, дело бы только делал. И что же? Какой миракль при нем приключился – поляки сумели договориться! Признали над собой единого начальника! Да еще захудалого шляхтича, не имеющего ни кола ни двора, который продавал свою шпагу не то что королю или кесарю (императору Австрийскому и племянник Понятовского служил), а инсургентам американским! И вот русская армия, только что покрывшая себя славой на Дунае, бежит от берегов Вислы, а командующий, погубив сотни своих защитников, бросив казну и архивы, ищет протекции у пруссаков!
Не в силах сдержать гнева и досады, государыня принялась расхаживать по уборной, потом остановилась у окна, выходившего на Дворцовую площадь, отодвинула штору… Николай Зубов, принесший дурные вести из Варшавы, не смел нарушить наступившее молчание; его брат Платон сидел в кресле в спальне и рассматривал свои ногти; статс-секретарь в комнате, смежной с уборной, притих за своей ширмой.
Ох, Гриша, Гриша, друг сердечный! На кого ты меня покинул! Уж два с половиной года прошло, а не заживает рана в сердце, не заделать дыру в душе. Словно и меня убыло, словно часть меня самой положили с тобой в могилу в Херсоне! Раньше, когда можно было опереться на твое плечо, и беда была не беда, и горе не горе, хотя сколько горького хлебнуть пришлось. А теперь бугорок за гору кажется.
Скрипнул паркет – Зубов переступил с ноги на ногу. Екатерина бросила взгляд через плечо в раскрытую дверь спальни; при виде красивого профиля, такого желанного, дрожь пробежала по всему телу… Платон зевнул, прикрыв рот рукой.
Гриша бы уже сказал: «Не печалься, матушка» и что-нибудь дельное присоветовал. Или сам бы поехал и порядок навел. А не отправить ли ей в Польшу его сиятельство, нового генерал-фельдцейхмейстера?.. Воздух переменить, раз прыть такая нашла… Выдумал тоже – волочиться за Сашенькиной женой. Да еще у всех на глазах. Если я делаю вид, будто ничего не замечаю, так это не значит, что… Бедная Луиза не знает, куда деваться, ведь она еще совсем дитя…
Ах, Платоша, Платоша… Как я расстанусь с тобой? У тебя еще вся жизнь впереди и у нее тоже, а у меня-то ты последний, я знаю…
Никуда я тебя не пущу. В Литву поедет Репнин, человек опытный, да и прочие, кто там сейчас, не вчера родились. Уж с тем пьяным сбродом, вооруженным косами да топорами, о чем пишет Игельстрём, как-нибудь справятся. А надо будет – Суворова туда отправлю, Александра Васильевича. Пусть они с князем Николаем Васильевичем не слишком ладят, ну да на войне найдется, на ком зло выместить. У страха глаза велики, а польская революция – не гора, а кочка.
Государыня повернулась к Николаю Зубову и ласково улыбнулась ему.
– Благодарю вас, граф. Вы, верно, устали с дороги, ступайте ж отдохнуть. Да, вот еще что: не нужно ли вам денег?
Николай учтиво поблагодарил, приложился к ручке и ушел, обещав быть в понедельник к обеду. Екатерина вошла в спальню и притворила за собой дверь.
* * *
Под окнами поднялся гвалт: польская милиция остановила карету и требовала, чтобы путешественник из нее вышел. Джейн послышалась английская речь. Встрепенувшись, она осторожно положила на грязную подстилку только-только задремавшего Сашеньку и пробралась к окну.
На путешественнике был облегающий фрак в полоску, горчичного цвета, и темно-коричневые панталоны до колен; из рукавов выглядывали батистовые манжеты. Он уже поставил ногу на подножку, собираясь снова сесть в карету. Джейн изо всех сил застучала костяшками пальцев по стеклу и закричала:
– Sir! Please! Your excellency! Please help us![10]10
Сударь! Пожалуйста! Ваше превосходительство! Прошу, помогите нам! (англ.)
[Закрыть]
Господин во фраке удивленно обернулся. Дети проснулись и подняли плач. Джейн продолжала стучать в окошко. Путешественник решительным шагом направился к двери арсенала и заговорил с часовым. Через некоторое время, словно нехотя, заскрипел засов, и дверь слегка приоткрылась. Англичанин вошел и в изумлении остановился на пороге.
В большом холодном помещении с высоким сводчатым потолком прямо на каменном полу сидели три десятка русских дам, одетых как попало; многие прижимали к себе маленьких детей. При появлении чужака плач на мгновение смолк, но потом возобновился, хотя и не так дружно. Барышня, делавшая ему знаки в окно, теперь проворно подбежала, слегка прихрамывая, и остановилась в двух шагах, смущенно кутая плечи в рваный платок.
– Сжальтесь над нами, сударь! – снова заговорила она. – Мы в отчаянии, нам нечем кормить детей, а по ночам здесь очень холодно!
– Вы англичанка?
– Шотландка. Мой отец – Уильям Лайон, лепной мастер, он служит в России. Здесь жены и дети русских офицеров…
– Шотландка? Я тоже шотландец. Граф Макартур, к вашим услугам.
Он коротко поклонился.
Беременная женщина с красивым, но изможденным лицом шла к ним так быстро, как только позволяло ее положение; ее слегка пошатывало. Заглядывая графу в лицо, она спросила его по-французски, не видал ли он ее мужа, князя Гагарина, генерал-майора. Джейн потупила глаза. Граф выразил свое сочувствие и пообещал навести справки.
– Я немедленно еду к посланнику! – объявил он Джейн. Потом, во внезапном порыве, шагнул к княгине и с поклоном поцеловал ей руку. Когда он уходил, в его глазах стояли слезы.
Подав Прасковье Юрьевне руку, чтобы та могла на нее опереться, Джейн помогла ей вернуться на место. Когда ее саму принесли сюда в беспамятстве, контуженную в ногу, – оказавшись на улице под пулями, она упала в канаву на мертвые тела, прижимая к своей груди обоих детей госпожи Чичериной, которую уже увели в арсенал, – первой, кого она увидела, придя в себя, была княгиня Гагарина.
– Вы только что из города, – с надеждой спросила она, – вы не слыхали, что с моим мужем? Князь Гагарин, генерал-майор Сибирского полка?
Княгине приходилось хуже всех. На Пасху узницы разговелись сухарями, найденными возле мертвых тел. Еды не было почти никакой, хорошо, если часовые приносили воду. Ни тюфяков, ни одеял, ни теплой одежды; матери отдали детям свои шали, если догадались захватить их с собой, ведь им не дали ни минуты на сборы. С Гагариной были два сына, Феденька и Васенька, старший – по восьмому году, а она еще должна была скоро родить. У нее опухли руки и ноги, а щеки ввалились, под прекрасными глазами залегли глубокие тени. Джейн старалась помочь ей, чем могла…
Вечером к арсеналу подъехали три огромные фуры с соломой для тюфяков, постельным бельем и теплыми одеялами, сухарями и вяленым мясом – граф Макартур сдержал свое слово. Скорчившись на боку на соломе, Прасковья Юрьевна сотрясалась от рыданий, закусив кулак: шотландец доподлинно выведал, что князь Гагарин убит.
* * *
С утра на Ратушной площади Вильны стучали топоры: сколачивали виселицу. К полудню всё пространство перед строящейся новой Ратушей, забранной строительными лесами, заполонила толпа, тупым клином уходившая к Амбарам и Великой замковой улице. Оттуда и появилась во втором часу пополудни синяя лакированная карета нового коменданта – полковника Ясинского, со спущенными шторками, за которой трусила верхом охрана.
Народ расступился. Под барабанный бой процессия пересекла всю площадь и подъехала к эшафоту. Из кареты выскочил Ясинский в синем мундире, ладно обнимавшем его стройную фигуру, и лосинах, а затем оттуда показался Шимон Коссаковский. Его привезли на казнь в том самом желтом шлафроке, в каком захватили позапрошлой ночью в собственном доме.
Выйдя из темноты на свет, он на мгновение зажмурился. Поморгал глазами, привыкая, обвел взглядом дома под красными черепичными крышами, колышущееся людское море, – и вздрогнул, увидев петлю. Ладони и ступни разом похолодели, а из омута памяти всплыла отчетливая картина…
…Лед на Двине был уже мягкий, ненадежный; в круглых темных ямках, оставленных лошадиными копытами, хлюпала вода. Они пошли пешком, глядя под ноги, оскальзываясь и балансируя руками. Заливались весенними трелями птахи на голых вётлах, стоявших вдоль берега, воздух был влажным, чистым, пахнул талым снегом. Коссаковский остановился оглядеться, уж больно долго они идут, – ну да, слишком сильно забрали влево, а им вон туда надо, к тем кустам… Шагнул и провалился по колено. Холода не почувствовал, наоборот, словно ошпарило его. И тотчас адъютант-москаль обхватил его сзади и рванул кверху под мышки. Повалились оба навзничь, отползли друг от друга, выбрались на четвереньках на берег, переглянулись – и тут их смех разобрал. «Ну, сударь, уж напужали вы меня!» – хохотал адъютант. «Э, братец, ничего не бойся! – махнул на него рукой Коссаковский, утирая выступившие слезы. – Кому повешенному быть, тот не утонет…»
Volentes fata ducunt, nolentes[11]11
Покорных судьба ведет, а непокорных [тащит] (лат.).
[Закрыть]… Судьба и вправду словно силком притащила его сюда. Зачем он вернулся в Вильну из своего имения, узнав о том, что предатель Ясинский сбежал? Явившиеся его арестовать нашли только записку о том, что ему «неохота ехать в кибитке охотиться на соболей» – иными словами, отправляться в Сибирь. В это время заговорщики уже сбросили маски и открыто призывали к бунту в Шавлях. Надо было ехать в Гродно к Цицианову, но нет, он остался здесь, понадеявшись на Арсеньева – сибарита Арсеньева, боявшегося в апреле простудить солдат на бивуаках и оставивших их в городе, где их захватили спящими! Как он мог довериться этому генералу, сражавшемуся с подступающей старостью, которому победа над хорошенькой Юзефой Валадкович была важнее всех прочих? И Ясинского Арсеньев тоже не раскусил, и эту карету проиграл ему в карты…
Пронырливые жиды не раз извещали русских офицеров, что среди поляков готовится заговор. Молодой капитан Сергей Тучков, принявший командование артиллерией, как-то утром приметил, что на всех домах, где квартировали русские, были нарисованы красным карандашом буквы RZ – «резать». Арсеньев отмахнулся от него: «Разве вы не знаете поляков? Какой-нибудь пьяный повеса написал это ночью, чтобы нас обеспокоить. Не стыдно ли вам больше верить жидам, нежели мне, кому все обстоятельства известны лучше?» Однако приказал эти буквы стереть. Тучков же велел своим артиллеристам не ночевать поодиночке, а только группами по десять-двадцать человек, выставляя часовых, и фитили постоянно держать зажженными. Арсеньев сделал ему замечание по поводу ненужных расходов и пригрозил записать фитили на его счет, на что бдительный Тучков отвечал: «Это меня не разорит». Вот у кого надо было искать защиты и поддержки, а не у Арсеньева, полагавшего, что готовящаяся в княжестве революция – лишь козни горстки злопыхателей гетмана… Вчера утром, сидя под стражей в арсенале, Арсеньев написал Тучкову, бомбардировавшему Вильну с Погулянки, чтобы тот прекратил сопротивление: все высшие офицеры убиты или арестованы, он сам в плену и жизнь его в опасности. Тучков ответил: «Я арестовать себя не дам, и мятежники не иначе могут получить мою шпагу, как вместе с жизнью моей». Это его письмо подписали все офицеры и даже некоторые нижние чины и солдаты…
Коссаковского толкнули в спину, чтобы он поднялся на эшафот.
С каждой ступенькой петля приближалась. Не желая смотреть на нее, Коссаковский повернулся к народу. Головы не опускал, держал ее высоко. «Шельма! Предатель!» – кричали ему прошлой ночью, когда вели из дома на Немецкой улице в арсенал. Кто кричал? Те, кто присягали на верность новым властям – ему, Великому гетману княжества Литовского. Гудящая толпа перед ним перестала быть пестрой массой, обретая лица. Вон синие мундиры польских солдат и офицеров среди серых свиток с зелеными обшлагами и суконных кафтанов, белые султаны среди круглых шляп с бело-красными кокардами и шапок. «Виват свобода и равенство!» – кричали нынче ночью. Сейчас он скажет им, кто настоящие шельмы и изменники, – те, кто принесли сюда французскую заразу! Коссаковский шагнул вперед и приготовился говорить.
– Шоновне паньство! – звонким голосом выкрикнул Ясинский. – Сейчас здесь свершится то, что запрещается обсуждать! Понравится это кому из вас или нет, все обязаны молчать, а коли кто подаст свой голос, то будет повешен на этой же виселице!
Наступила звенящая тишина. Виленский адвокат Эльснер зачитал решение Уголовного суда от 24 апреля 1794 года о смертной казни для изменника отчизны. Под барабанную дробь Коссаковского подвели к виселице, и палач надел ему на шею петлю. Под ногами вдруг разверзлась пустота, небо опрокинулось, он падал, падал и никак не мог упасть, в ушах шумело и звонили колокола костела Святого Казимира…
* * *
– Кроме Ошмянского повета и Полоцкого воеводства, нигде более явной и открытой угрозы в сем деле нет, хотя все головы для оного подготовлены. Написал? Сим довожу до вашего сведения, что в местечке Ореховно, в шести верстах от Полоцка, кое принадлежит помещице Забелло, еще в конце минувшего года были заготовлены три сотни пик, о чем донес эконом оной помещицы, шляхтич Дежка. Оный же Дежка доносит, что после виленских событий кузнец Филипп со своим братом новых пик понаделали, прячут же их частью в местной униатской церкви, частью у поселян. Под Полоцком же пан Буйницкий с полоцким воеводой Жабой… дал же Бог фамилию… это не пиши… заготовляет оружие и собирает верных людей…
Откинувшись на спинку кресла, Тимофей Иванович Тутолмин постукивал пальцами по полированной крышке письменного стола (изящная вещица, с потайными ящичками, инкрустацией, на позолоченных львиных лапах – за таким столом только любовные записочки сочинять, а не доносы разбирать) и разглядывал расписной потолок. Два пухлых ангелочка держали зеркало перед дебелой Венерой. Когда-то здесь, в Несвижском замке, приятно проводил время с такими Венерами пане коханку – Кароль Радзивилл. У него-то не было таких забот, как у генерал-губернатора Минского, Изяславского и Браславского.
Секретарь за конторкой легонько кашлянул.
– Далее пиши. Доносят мне также, что близ Воложина собралось мещан числом около двух тысяч, с некоторым количеством жолнеров, кои ожидают прибытия туда литовского войска. В местечке Новая Мышь Новогрудского воеводства, кое принадлежало бунтовщику Неселовскому, замечено великое множество шляхты и с ними вооруженных селян.
Всё ли писать или не всё? Начнешь всё перечислять – князь Николай Васильевич и осерчать может, скажет: алармист. Утаишь что-нибудь, а после какая-нибудь оказия случится, опять же ты и будешь виноват: почему вовремя не донес. Ладно. Трусом его, слава Богу, никто назвать не сможет: послужил матушке-государыне, не щадя живота своего, ни пулям, ни ядрам не кланялся. А береженого Бог бережет.
– Закончи там, как обычно, – велел Тутолмин секретарю. – При сём прилагаю… Честь имею быть верный слуга ваш и Ее Величества… и прочая… Готово, что ли? Дай взглянуть.
Секретарь быстро присыпал письмо песком, стряхнул, подошел и подал Тутолмину. Тот пробежал письмо глазами, кивнул и поставил свою подпись.
– Запечатать и сим же часом отправить с курьером к его превосходительству генералу Репнину, в собственные руки! – распорядился он. – И зови сюда полячика этого. Посмотрим, что за птица.
Секретарь вышел, закрыв за собой белую дверь с позолоченным узором, а когда вернулся, следом за ним адъютант ввел молодого человека лет тридцати, в длиннополом сюртуке из зеленого сукна поверх белого жилета, в такого же цвета штанах до колен, темных гетрах и башмаках; волосы коротко острижены а-ля Тит и зачесаны на лоб и на виски. Ну-ну.
– Кто таков? – спросил его Тутолмин. – Куда и по какому делу направляетесь?
– Пшепрашам, ваша эксцеленцьо, не розумем. Не мувим по-росийску.
– Парле-ву франсэ?
– Трэ маль[12]12
Простите, ваше превосходительство, не понимаю. Я не говорю по-русски (польск.). – Вы говорите по-французски? – Очень плохо (франц.).
[Закрыть].
Тутолмин встал, вышел из-за стола, заложил руки за спину и покачивался с пятки на носок, сжав свои тонкие губы и выпятив вперед подбородок. Волоса, вишь, на французский манер убраны, и сюртук от французского портного. И в Париже наверняка живал – папашины денежки в карты просаживал да на мамзелей спускал. А по-французски, вишь, не разумеет. Либо ветрогон, либо прикидывается простаком. Ладно.
– Покличь кого из офицеров, кто по-польски понимает, – сказал адъютанту.
Некоторое время ждали молча. Тутолмин снова сел за стол, а поляку сесть не предложил. Адъютант привел молодого поручика. Приступили к допросу.
– Спроси его, кто таков, каких родителей, откуда родом, в каком звании состоит.
Поручик перевел вопросы, и поляк затараторил, словно отвечал вытверженный урок. У поручика от волнения лицо пошло пятнами, когда он начал пересказывать то, что смог понять и запомнить:
– Он граф Кароль Моравский, сын Игнация Моравского и племянник князя Радзивилла. Обучался в Вене наукам, а также тактике и инженерному делу. В прошлую польскую кампанию служил во втором литовском полку, дослужился до полковника и получил орден из рук его величества, короля Польского. По окончании кампании вышел в отставку и поселился в своем имении в Польской Литве.
Тутолмин взял со стола несколько запечатанных писем и показал поляку.
– Пусть расскажет, что за бумаги вез, кому и от кого.
Поляк слова заговорил, увлекаясь своей речью и взмахивая руками; переводчик с испугом посмотрел на генерала. Тот остановил краснобая, выставив вперед раскрытую ладонь.
– Говори толком. Чьи письма? К кому?
Теперь поляк говорил, оглядываясь на переводчика и делая паузы, чтобы тот мог передать его слова. Но словно испытывал терпение Тутолмина: зашел издалека и долго не мог подобраться к сути.
– Станислав Солтан, бывший надворный маршалок литовский, приходится ему свояком… Он был арестован по приказу барона Игельстрёма и содержался в своей деревне как пленный… Он, граф Моравский, выехал для своих контрактов в Новогрудок, там навестил Солтана, а два дня спустя его разбудил эконом Солтана… Эконом рассказал, что эскадрон русских войск и казаки окружили дом, изломали двери и забрали Солтана вместе с бумагами. Жену же его, урожденную княжну Радзивилл, с испуга разбил паралич, одна дочь его получила конвульсии, а другая горячку… Граф тогда решил ехать в Краков к брату Солтана, Вейсенгофу… Жене же своей он сказал, что хочет ехать к дяде своему, Залескому, в Замостье… Оттуда поехал он к Вейсенгофу, а тот, узнав, что брат его взят русскими, пришел в исступление и, посадив графа в карету, повез его в лагерь Костюшки… Позже Вейсенгоф водил его по Кракову, позволяя обозреть пленных и пушки, взятые у русских. Там же они вместе ходили к Игнацию Потоцкому, который сказал графу, что они ожидают со дня на день прибытия тридцати тысяч австрийских войск и пятнадцати тысяч саксонских, потому как император заключил с Францией мир и хочет сделать своего брата польским королем… Костюшко же, в память покойного дяди его, князя Радзивилла, склонял графа к принятию службы, вручил ему открытое повеление всем генералам, офицерам и солдатам польским и литовским с ним соединиться… Еще он дал ему письма к Грабовскому и Корнатовскому и письмо к князю Сапеге. С ними граф выехал из Кракова, но в четырнадцати милях от него встретился с австрийскими войсками… В трактире один офицер, родом из Галиции, сказал ему, что австрийцы идут не на помощь Польше, а для раздела ее. Встревоженный этим, граф поехал к дяде своему, Залескому, и тот молил его со слезами не присоединяться к Костюшке, а поскорее начать процесс в рассуждении деревень, какие он должен был получить в наследство от князя Радзивилла, имение которого находится теперь в России. Деревни же Залеского теперь принадлежат Австрии… Дядя дал ему наставление сдаться в полон первому же российскому генералу или полковнику. В Бресте его остановил караул и отвел к полковнику Чесменскому, которому граф рассказал всё, что с ним было, и еще донес о намерении напасть на князя Лобанова… о чем он узнал от господина Гроховского, которому передал письмо в Красноставе. Чесменский позволил ему отписать своей жене и направил сюда.
Тутолмин пристально посмотрел на поляка. Малый привирает, выгораживая себя. Что в его россказнях правда, а что выдумки? Солтана минский губернатор Неплюев еще до виленских событий выслал в Смоленск по его же, Тутолмина, приказу. Да и про Моравского он что-то слыхал… Какой-то он выкинул фортель в Новогрудке… Ладно, пусть с ними со всеми Григорий Михайлович Осипов разбирается в Следственной комиссии, ему и карты в руки.
– Этого молодчика покормить и сим же часом отправить в Смоленск, да под крепким караулом, глаз чтоб с него не спускали! – приказал адъютанту. – А ты, братец, – обратился он к поручику, – вот эти бумаги мне переведи.
Моравский запротестовал, снова начал махать руками, что-то выкрикивал про свою жену… «Понимает, однако, по-русски-то», – отметил про себя Тутолмин. Графа увели.
Перевод был готов на следующий день. Из писем становилось ясно, что Костюшко назначил Моравского главнокомандующим повстанческими силами в Литве, присвоив ему чин генерал-майора (во как! В одном чине, значит, с ним ходим!) и приказывал объединяться с ним и повиноваться ему. «Те же, кто первыми выступят с корпусами для вступления в наш священный союз, примут в награду командование оными корпусами». Так-так. Некому, значит, командовать-то. Нет офицеров знающих, опытных, закаленных в боях, горлопанство одно. Генерал артиллерии Казимир Нестор Сапега, посол от Литвы на Четырехлетнем сейме, что Конституцию принял, видно, сам отказался от должности главнокомандующего. На безрыбье и Моравский генерал… «Как вооружить и обучить селян, о том генерал Моравский даст вам полную информацию…» В недавнюю Шведскую войну Тутолмин сам собирал ополчение для укрепления галерного флота, знает, что это такое. Чем вооружить? Косами, насаженными на древки, точно пики? Может, в паре стычек с мелкими отрядами такая «армия» ещё и победит, но против артиллерии и регулярных войск не выстоит. Обучить… За неделю сего не сделать. Солдат, ежели он хорошо обучен, не думает, как мужик. В бою он не должен щадить ни врага, ни себя, помышлять только о победе, а у мужика все мысли о деревне, о семье, о том, кто урожай соберет, кто его детей накормит. Побегут мужички, ох побегут… Что еще он там пишет? «Никогда полякам оружие неприятелей их страшно не было бы, если бы сами, между собою быв согласны, ведали свою силу и знали, как оною действовать… Во многократных случаях, когда поляк противу тиранства брался за оружие, смелость поляков всегда оканчивалась тем, что побежденный им неприятель возвращался новым победителем, налагая иго на его плечи. Отколь же происходит в Речи Посполитой сей переворот, если не от того, что хитрость московских интриг, быв сильнее оружия, погубляла завсегда поляков их же единоземцами…» И сего за месяц не исправишь. «Нынешнее народное восстание желает возвратить Польше вольность, целость и независимость, предоставляя народу учреждать, под каким он соизволит быть правлением». Ишь ты. «Свободные жители, за собственное щастие сражаясь, никак не могут сомневаться в победе». Ну-ну.
Кто они – свободные-то жители? Всех свободнее голь перекатная, у которой нет ничего. Но у нее, как правило, и совести нет. А так каждый боится что-то потерять, а где есть страх, там свободы не бывает. С другой стороны, драться насмерть можно лишь за то, что имеешь и чего утратить не хочешь или за то, что мнишь получить. А бывает и так, что обрести нечто можно, лишь отняв его у другого. Конституцию в Варшаве приняли, отняли у магнатов право вето – те в крик. Русские войска в Польшу привели и у конституционалистов, что пеклись о равенстве между шляхтой и мещанами, отняли имения. Теперь вот беспоместные взяли верх, народ бунтуют, грозятся жизнь отнимать. А что сулят взамен?.. Через два дня после восстания в Варшаве староста деревни Раковцы под Поставами, в Витебской губернии, шляхтич Городенский, собрал мирской сход, встал перед ним на колени, прилюдно присягнул на верность Костюшке, а после принуждал всех прочих тоже присягать, грозя виселицей и приставляя к груди мужиков пистолет. А Костюшко тут пишет: «Скажем, что народ теперь состоит под опекою национального правления, что угнетенный человек имеет защиту в порядковой комиссии своего воеводства, что притесняющий защитников Отечества яко неприятель и изменник Отечества казнен будет»! Небось Городенский бы своим мужичкам такого письма читать не стал бы! Ох, дождётесь вы у себя пугачевщины… Сам-то Тутолмин повидал всякого, когда служил в Чугуевском полку, в корпусе генерала Голицына, – и усадьбы разграбленные да спаленные, и помещиков, болтающихся в петле, и поруганных жен и дочерей помещичьих… Матушка-императрица повелевает сердца польских и литовских мужиков уловлять, дабы привлечь их на свою сторону. Мужику нужна земля да лошадь, да корова-кормилица, а панская свобода ему всегда боком выходила. Ярмо ему ослабить – он сам сих борцов за свободу на вилы подымет. Некоторые уж за межу перебегают: русские-то помещики в Смоленской губернии часто оброком довольствуются, на барщину не гоняют, а австрийский император помещикам в Галиции холопов произвольно наказывать и казнить не велит…
Запечатав все переводы в один пакет, Тутолмин приказал доставить его с нарочным в Санкт-Петербург.
* * *
– Отечество? Что такое отечество?
Принц Нассау-Зиген поставил на стол пустой кубок и медленно вращал его между пальцами. В последнее время он стал замечать за собой, что после обеда и двух-трех бокалов вина его тянет пофилософствовать.
Корчма была набита галдящими прусскими офицерами; разговор между принцем и Оде-де-Сионом всё равно никто бы не подслушал, да и говорили они по-французски. Нассау нравился этот савояр: умный, многое повидал, схватывает на лету, приметлив, но не болтлив.
Разбитый поляками отряд русских во главе с Игельстрёмом явился в Повонзки, в лагерь прусского короля, две недели назад – 19 апреля. Из более чем четырехсот человек, защищавших посольство на Медовой, пробиться сумели двести пятьдесят, и то лишь благодаря четырем полковым пушкам: двумя расчищали себе дорогу, двумя прикрывали арьергард. Николай Зубов на следующий же день выехал в Петербург, и Нассау-Зиген тайком передал с ним шифрованное донесение для императрицы, которая поручила ему присматривать за Фридрихом-Вильгельмом, бесталанным сыном своего великого отца: уж больно ненадежен союзник.








