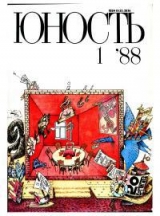
Текст книги "А может, все это приснилось?"
Автор книги: Екатерина Варнава
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Приусадебные джунгли
Никита диктовал по телефону:
«Ученые института плантационных культур в штате Керала, диктую расшифровку – Ксения, Екатерина, Роберт, Алла, Лидия, Алла, – вырастили саженцы-клоны из ткани листьев кокосовых пальм. Обычно кокосовые пальмы на юге Индии дают в среднем до 30 орехов в год. Но встречаются экземпляры, приносящие от 200 до 400 плодов. Получение от этих рекордсменов саженцев-клонов, как полагают ученые...»
Я просматривала утренние газеты и слушала, как Никита читает. Я всегда старалась быть рядом во время диктовки и внимательно следила за каждым Никитиным словом, короче, была для него редактором-выпускающим. Я гордилась. Никита вообще хотел приобщить меня к своей работе – брал с собой на открытие выставок, таскал на митинги, а потом требовал от меня «письменного отчета». Я старалась, пыхтела над каждым словом, как школьница, грызла карандаш и смотрела в потолок. На первых порах все-таки садилась за «домашнее задание», чтобы не огорчать Никиту, который по-настоящему расстраивался, когда у меня не шло дело. Но быстро поняла, что нужно это не ему, а мне самой. Поэтому, когда в газете прошла маленькая заметочка А. Борисовой об открывшейся в Дели экспозиции из Эрмитажа, это стало для нас с Никитой целым событием.
– Вот теперь мы настоящая журналистская семья, – заявил Никита. – Так над чем, коллега, вы сейчас собираетесь работать? – спросил он и дернул «коллегу» за хвост.
Никита кончил диктовать и теперь внимательно слушал, как стенографистка перечитывала текст.
– Спасибо, все правильно. Да, Борисов, Дели. И еще одна просьба, Леночка. Позвоните, пожалуйста, нашим, скажите, что у нас все хорошо, все здоровы, и передайте привет. – Никита улыбнулся чему– то. – Везет же людям, а у нас плюс 34° и дождь стеной... Да нет, это вам только кажется, что благодать. Как в турецкой бане, ходишь постоянно мокрый. Спасибо... Когда вызывать будете? Хорошо, тогда до субботы... – Телефон беспомощно звякнул. – Аськ, отделался легким испугом, два раза не пришлось перечитывать, а то с прошлого раза горло еще болит. Спасибо, связь была хорошая. А в Москве настоящее бабье лето...
Я выглянула в окно. Долгие муссоны, иссякающие уже и истратившие всю свою яростную силу, насытили наконец землю, и оттуда так буйно полезла молодая зелень, что меньше чем за месяц перед окном вырос кусочек девственных джунглей, к которым я очень бережно относилась. В этом «лесу» уже завелись свои обитатели. Самым занятным был подросток– хамелеон, не совсем хорошо понявший, что такое мимикрия и как ею пользоваться. Хамелеончик то ли не набрался еще опыта, то ли не видел никогда настоящих врагов, то ли просто страдал от одиночества и очень хотел, чтобы его заметили. Сидя на ветке и зацепившись за нее мощным закрученным хвостом, он принимал сначала исходный цвет– скромненький серовато-песочный. После этого сразу заболевал желтухой и, когда видел, что на него мало кто обращает внимание, зеленел от злости. Потом он светлел, светлел и вдруг, поднатужившись, заливался румянцем с головы до хвоста, будто стыдясь своего поведения. С зеленым, желтым и красным все было хорошо – хамелеон репетировал этот светофор довольно часто и совершенно без нужды, сидя на скромной темной ветке. Совсем плохо дело обстояло с синим. Это, вероятно, было верхом хамелеоньего искусства и поэтому недоступным молодежи. А малыш честно старался добиться своего – казалось даже, что он пыхтит от напряжения, пытаясь хоть на секунду стать синеньким. Но только бурел, грязнел, изредка голубел какой-нибудь частью тела и уходил, сконфуженный, в глубь листвы. Дождь он не любил.
Колибри, те чувствовали себя совершенно спокойно в дождевом воздухе, ловко увертываясь на лету от крупных капель. Эти подобные бабочкам птицы всегда были при деле – совали длинненький, чуть изогнутый клювик в растущие на деревьях цветы, с большим наслаждением, закатив глазки, пили нектар и так же бесшумно и легко перелетали к другому цветку. В отличие от мучающегося дурью хамелеона эти крошки выглядели вполне работящими.
Я смотрела в окно на этот «мир животных» и мечтала, что вдруг подойду как-нибудь к окну, а в садике под зонтиком сидит на мокром плетеном стульчике Дроздов или там еще кто и говорит: «Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас есть хорошая возможность познакомить вас с представителями отряда пресмыкающихся...» – а сам неловко так держит в руках кобру или удавчика, зажав зонтик, как телефонную трубку, между плечом и ухом...
На улице и дома
Темнело быстро, почти моментально, и был едва заметен переход от дня к ночи. В этом было что-то ужасное, скорее сверхъестественное, и в первые минуты темноты все живое вокруг – и деревья, и люди, и святые коровы – утихало на мгновение, как бы примериваясь к новому состоянию, физически ощущая темноту. А через минуту сказочное оцепенение проходило, чтобы прийти на следующий день с новым солнечным затмением. Небо давило, фиолетовое, густое, душное, не дающее вздохнуть полной грудью, но заслонившее такое жаркое солнце.
Машина свернула с главной улицы и поехала по переулку, уступая дорогу возвращавшимся с работы раджахстанцам. Они были из касты неприкасаемых, но до того красивы, ярки и веселы, что хотелось непременно их коснуться. Зубы сверкали в темноте, монисто и серебряные браслеты на босых ногах тихо позвякивали, широкие цыганские юбки колыхались при ходьбе. Большая толпа состояла почти целиком из женщин и детей, хотя работа была совсем не женской – рядом, за поворотом, шла стройка, и эти пятнадцати– и двадцатилетние женщины носили на голове кирпичи, привязав ребенка за спину. И делали это с такой грацией, что, казалось, несут на голове не двенадцать кирпичей, а изящный серебряный кувшин. Женщины шли, смеялись, покрикивали на детей и махали, как в цыганских танцах, невозможно яркими юбками. Дети пяти-шести лет, невыразимо чумазые и лохматые, обвешанные малолетними братьями и сестрами, хохотали и бежали за машиной.

Недалеко от дома по дороге плелся индиец, стараясь держаться тени. Он был старым, согнутым, каким-то обшарпанным и потрепанным. В руке у него был чемоданчик, наверное, приходящийся ровесником самому хозяину. Через каждые три-четыре шага старик останавливался и громко, но хрипло кричал какую-то длинную фразу. А потом с тоской заглядывал во двор и, подождав несколько секунд, шел дальше, самозабвенно крича, видно, что-то очень важное.
Никита прислушался к словам индийца и громко рассмеялся.
– Ты знаешь, что он орет? «Вскрываю нарывы, вырезаю мозоли, прокалываю носы и уши и делаю другие мелкие операции!» А? Здорово, правда?
– Кто ж ему дастся, такому старенькому? – удивилась я. – И выглядит он, честно говоря, не слишком стерильно.
Машина остановилась около дома, индиец-хирург подоспел как раз вовремя, вежливо поклонился и завопил, не снижая голоса, о нарывах, мозолях, носах и ушах.
– Спасибо, не надо, —ответил Никита на хинди.
– О, сэр, я могу сделать любую операцию, все инструменты у меня с собой. – Старичок для убедительности встряхнул чемоданчиком, в котором что-то слабо звякнуло.
– Нет-нет, у нас все в порядке, – попытался отвязаться от него Никита.
– Но я ведь делаю еще и косметические операции, – заявил хирург, подходя к Никите поближе и внимательно рассматривая его лицо, ища какой-нибудь изъян.
– Я же сказал «нет». – У Никиты лопнуло терпение.
– Договорились, сэр, я приду завтра. Вас устроит это же время? – Старичок еще раз поклонился и, не дожидаясь ответа, пошел дальше. Через несколько шагов он остановился и с явным расчетом на Никиту заорал: —Опытный врач-хирург! Делаю пластические операции! Обновляю людей, делаю их красивыми! Могу вырезать все, что вы считаете ненужным!
Мы с Никитой влетели в дом, еще чувствуя на себе цепкий взгляд хирурга-одиночки и ощущая даже некоторую неполноценность от довольно бестактных предложений «отрезать все лишнее». Дверь сильно хлопнула и прищемила лиану растения-ползуна, доставшегося нам от уехавших в Москву друзей. Я освободила ветку и устроила непослушную лиану на карнизе двери.
Этот зеленый ползун был от природы довольно капризным и, как только его поставили на новое место, прижился сразу, заняв всю стену и устроившись не так, как я его укрепила – на гвоздиках и ниточках, а как ему самому нравилось. По его длинным корявым стеблям с большими зелеными листьями и воздушными корнями можно было, словно по ладони, отгадать всю его жизнь: вот очередные хозяева ползуна уезжали в отпуск, а растение стояло на жаре, без воды, целых два месяца, – листья становились мельче и светлее у основания. Но оно продолжало жить. Вот его перевозили на новое место – одна из лиан приплюснута посередине, и из этого раненого участка появилось два новых, теперь уже трехметровых ростка. Но оно все равно продолжало жить. Даже можно было сказать, когда приходили гости: на одном листе, почти на самой середине лианы, просвечивала обугленными краями дырка – видно, кто-то промахнулся и не там потушил сигарету. Хорошие времена для ползучего дерева начинались в июле. Подходили муссоны, стояла душная влажная жара, ползун расцветал на глазах всеми оттенками зеленого, вырастали листья, раны быстро залечивались. И растение, как старая собака, поменявшая много хозяев, но хорошо служившая, нежилось под теплым южным дождем, Смывая с себя все обиды и думая, наверное, только о чем-то хорошем... Ползун действительно знал свое дело и превратил большую, несколько казенную комнату в уютную и домашнюю.
Вскоре за горшком на полке, в темном влажном уголке, поселился маленький геккон, вероятно, вылупившийся совсем недавно, и смотрел по вечерам недоуменным взглядом с потолка на двух огромных животных, которые передвигались по полу, издавали непонятные ему звуки, а иногда даже изо рта пускали дым.
Через неделю после того, как новый геккон обжил свое место за горшком, появилась старая Машка с отгрызенным кончиком хвоста. Она поползала по стенке, залезла на люстру и к вечеру, когда оба троглодита захотели есть, Машка вдруг увидела своего молодого соперника. Замирая на секунду, они стали короткими, но быстрыми перебежками сближаться с разных сторон потолка. Когда между ними осталось меньше полуметра, Машка принялась нервно из стороны в сторону крутить куцым хвостом, как бы показывая юному геккону: смотри, не на гулянке, небось, потеряла, сейчас и тебе врежу – костей не соберешь. Молодой тоже было попробовал так вертеть хвостом, но у него это туговато выходило. Тогда он стал как-то по-особенному выворачивать хвост наподобие штопора, что, по его мнению, должно было вселить ужас не только в Машку, но и во все живое вокруг. После двух-трех минут таких хвостовых упражнений гекконы, как по команде, кинулись друг на друга. Молча, без единого звука и даже не падая с потолка. Молодой, но, как выяснилось, ранний, вцепился Машке челюстями в бок и брезгливо выплюнул на пол кусочек гекконьего мяса. Машка – надо было видеть ее «лицо»! – не от боли, которую, наверное, гекконы не чувствуют, а от растерянности и наглости этого подростка прекратила моментально хвостовращения и бегом, просто галопом, ринулась по потолку за спасительные шторы. Но молодому проходимцу надо было все-таки закрепить свою победу.
Мало ли, одумается завтра Машка и опять хвостом перед мордой начнет вилять. Он решил применить другую тактику. Он стал гонять Машку по стенам и потолку до тех пор, пока Никита, устав от этого зрелища, не попытался разнять разбушевавшихся миникрокодилов мухобойкой. Как только Никита поднес к ним мухобойку, оба драчуна сразу замерли, глядя друг на друга. Не двигаются, не дышат, даже не моргают – муляж. Какая может быть драка, когда к тебе идет что-то гороподобное с палкой в руке?
«Бабуля, дорогая, здравствуй!
У нас опять лето. Уже второе. Чего-чего, а мне совсем не верится, что мы живем здесь почти два года. Никогда бы не подумала, что смогу столько прожить без тебя, безо всех наших, без Москвы. Хотя живу я частично здесь, а половина моя – наверное, лучшая – живет все равно с вами. И сейчас я вижу, как ты сидишь на кухне, читаешь письмо, улыбаешься и плачешь. Уверена, что плачешь, потому что так устроена. Не плачь, а? И выключи чайник, он, наверное, уже весь выкипел. А потом пойдешь звонить маме и тете Маше и будешь подробно им пересказывать мое письмо. Именно пересказывать, а не читать. Потом будешь долго искать очки, чтобы начать писать мне ответ. Про тетю Веру, как она поражается твоим знаниям об Индии, про подружек-соседок, которые приходят к тебе пить чай и ждут очередной рассказ. Ты, бабуль, будешь смеяться, но мне все это очень важно. Я бы без этого не вытерпела. А так, прочитаю письмо, представлю себе все это – и намного легче становится. Никитка меня утешает, но ведь еще так долго ждать – до февраля...
Здесь уже зацвели деревья. И не чахлыми, еле заметными блеклыми цветочками, а нагло и крупно. Как если бы на березе расцвели тюльпаны, на осине – васильки, а на дубе – желтые одуванчики. Представляешь? Ты бы была в восторге. Тут есть одно дерево, которое облетает самым последним. Оно, хотя и имеет, вероятно, какое-то научное название, зовется среди индийцев очень романтично – «Смерть европейца». И совсем не потому, что его огромные красные цветки пахнут, мягко говоря, чем-то неземным. а тяжелые плоды, созрев, падают с десятиметровой высоты и могут действительно если не убить, то покалечить неосторожного прохожего, и не обязательно европейца. Дело совсем в другом. Дерево отцветает в конце апреля – начале мая. В это время, считается, приходит настоящее лето. Безо всяких поблажек. Без единого облачка. Без одной капли дождя. Зато начинаются пыльные бури, которые всегда застают врасплох, от которых не найти укрытия. За несколько секунд все вокруг темнеет, птичьи голоса замолкают. И вдруг – у-у-ух! – тебя обдает с головы до ног пылью, грязью, песком. Причем с такой силой, что кажется, все это должно войти в кожу, и никак потом не отмоешься. Пыльная буря прекращается так же внезапно и резко, как и началась. Будто вырубили гигантский вентилятор.
День намного удлиняется. Кажется, он никогда и не кончится. Он и не кончается. И продолжается ночью. Солнце заходит, жара остается. Воздух становится тяжелым, вязким и масляным. Чтобы вдохнуть его, нужно усилие. Все лето состоит из усилий. Ну, ничего, надеюсь, что лето уже последнее. Только считается, что еще десять месяцев осталось, на самом деле время пролетит – не заметишь. Это я не столько тебя, сколько себя успокаиваю. Никита работает сейчас очень много. Пишет статью о положении индийских женщин. В общем, пишет, положение неплохое. Так что за них не переживай.
Крепко тебя целую. Напомни маме, чтобы она мне ответила, я волнуюсь, как она.
Твоя Ася».
К священному Гангу
Заскрипела, заныла входная калитка. Никита давно порывался ее смазать, но я не давала – по оглушительному скрипу всегда было слышно, что к нам кто-то идет, а это, по моему мнению, было куда приятнее, чем вздрагивать от неожиданного звонка.
– Ась! Ты где? – громко позвал Никита. – Завтра в командировку едем, разрешили!
– Куда? Ты меня с собой берешь?
– Значит, так. Завтра едем в Хардвар. Это примерно в двухстах километрах к северо-востоку от Дели, – сказал Никита.
– На машине?
– Да, хотя это и долго. В один конец – около шести часов езды. Но так даже интереснее, чем лететь на самолете. Я вот книжку купил, посмотри ее.
Никита положил на стол толстую желтую книгу, которая называлась довольно странно: «Индия. Пособие путешественника по выживанию». Несмотря на такое отпугивающее название, книга читалась, как детектив, и была настолько интересной, что я забыла про все на свете. Помимо подробнейших сведений обо всех штатах и почти о каждом городе в этих штатах, в книге имелись интересные разделы о том, как путешествовать одиноким женщинам, что необходимо брать с собой из вещей в путешествие по Индии, специальная глава о воровстве, о том, что в каком штате и городе покупать, об индийских экзотических болезнях и о том, как по возможности их избежать, в каких отелях останавливаться европейцам – в зависимости от бюджета, – от простых (но лучших!) ночлежек до шикарных пятизвездных гостиниц, об индийской кухне и о европейских ресторанах и даже о смешных опечатках в ресторанных меню! А в главе, посвященной транспорту, не только рассказывалось, как можно путешествовать по стране – поездом, самолетом, на автобусе, на велосипеде, на машине, по рекам и пешком, – но и давались точные сведения, что сколько стоит, где находится вокзал или автобусная остановка, где прокат велосипедов и сколько ехать, идти или лететь до нужного вам города. Короче, изучение путеводителя заняло остаток всего дня, и я едва успела приготовиться к поездке.
От Дели до Хардвара, как я узнала из путеводителя, 222 километра. Дорога проходит через пять городов – Газиябад, Модинагар, Мирут, Музаффарнагар и Рурки. Они мало чем отличались друг от друга. А может, так показалось, потому что мы не останавливались и из машины не вылезали. Каждый город начинался одинаково – спидбрейкером, большим наростом на асфальте, который принуждает машину сбросить скорость. А если скорость вовремя не погасить, то машина взлетает на метр вверх, как с трамплина, и не очень мягко приземляется, оставляя за собой на дороге часть деталей. При въезде и выезде из города – авторемонтные мастерские и столовые для водителей грузовиков. Потом – длинная главная улица города, заставленная лавками, заваленная товарами, перекрытая спящими коровами. Слева и справа на протяжении всей улицы – маленькие храмики, фигурки святых, украшенные живыми цветами. Вдруг срочно надо что-то попросить у бога? В воздухе дым, запах прогорклого масла, навоза, выхлопных газов, сандалового порошка. А в конце улицы – опять автомастерские и традиционный прыжок со спидбрейкера. Город позади...
Святыню Хардвара – купальню Хар-ки-пури – было уже трудно разглядеть в сумерках. Внизу, у самой воды, горел фонарь, и его неровный желтый свет отражался в дрожащих волнах. Белый мрамор набережной тускло поблескивал. Кто-то шумно плескался и отфыркивался. Солнце уже давно зашло. Слух в темноте обострился. Можно было только догадываться, что происходит внизу у воды.
– Спустимся? – спросила я.
– Лучше утром, а то еще наступишь на кого-нибудь, – сказал Никита, и я, напрягая зрение, увидела, что вся лестница, ведущая к воде, была занята спящими людьми, которые оставили для прохода лишь узкую тропку.
Пройти к Гангу утром оказалось еще труднее, чем вечером. Больные, прокаженные, наскакивали один на другого, а все вместе на тебя, требуя подачки. Несчастных, совсем съеденных лепрой, без ног и рук, на маленьких тележках возили другие, менее пострадавшие от страшной болезни. Они протягивали руки, выставляя напоказ завязанные грязными тряпками обрубки пальцев, и при этом требовательно кричали что-то. Мне казалось, что если до меня кто-нибудь дотронется, то я лягу и тут же умру от ужаса перед неизбежной участью. Но никто не дотрагивался, только кричали: «Сааб! Мэм-сааб! Бакшиш!» – и снова демонстрировали свои изуродованные тела.
Я старалась не смотреть по сторонам и продвигалась за Никитой вниз по ступенькам, к воде. Пройдя наконец сквозь строй нищих, мы подошли к реке. Ступеньки уходили прямо под воду. Вдруг за нами раздался топот босых ног, и я успела разглядеть что– то большое, летящее в воду. Это «что-то» вынырнуло и оказалось толстым мужчиной, лицо которого выражало ужас, счастье, страх, радость и торжественность одновременно. Ехал, наверное, издалека, специально, чтобы окунуться в Ганге и смыть с себя все грехи, накопившиеся за много лет.
Я решительно направилась к ступеням.
– Ты куда? – спохватился Никита.
– Я только воду потрогаю.
Вода была холодная и тяжелая. Казалось, ее можно взять в руку и она не вытечет. В нескольких шагах от себя я увидела мальчишку, стоящего по пояс в ледяной воде. Он стоял, согнувшись, и смотрел в ведро без дна, которое было наполовину погружено в воду. Мальчишка внимательно разглядывал дно и, когда находил монетку или еще что-то, аккуратно подбирал, опускаясь иногда в реку с головой. Неподалеку от него стоял другой паренек с ведром, за ним еще и еще. Они постоянно нагибались, собирая со дна «улов», и опускали его в большую набухшую сумку-карман у пояса. Мальчишки медленно двигались вперед, и у каждого, вероятно, была своя вотчина, за пределы которой он не смел переступить, но и к себе никого не пускал. Они зыркали друг на друга исподлобья, как звереныши.
Я выпрямилась и огляделась.
Хардвар, священная купальня, Ганг были освещены ярким солнцем, краски были сочными, по-восточному богатыми, на запястьях индианок сверкали украшения, душно пахли подвядшие цветочные гирлянды.
От воды тянуло холодом и свежестью, как из колодца, и вся река была похожа ка громадное, живое существо, сильное и могучее, но чуть притаившееся и притихшее в этот жаркий час утра.








