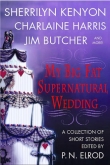Текст книги "Похищение Ануки"
Автор книги: Екатерина Шевченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Шевченко Екатерина
Похищение Ануки
Екатерина Шевченко
ПОХИЩЕНИЕ АНУКИ
Сейчас я вас познакомлю. Ее звали Анука. Имя?то ее было Аня, но ее так никто не звал, а Анукой – всегда, сначала мама и бабушка, а потом подруги и те молодые люди, что за ней ухаживали. Они перенимали это из телефонных фраз, с которыми к ней обращались домашние:
– Анука, иди, тебя просят, – слышали они в трубку и тоже поскорее хотели ее так назвать.
Она была вот какой: она подбирала гостям чайную чашку под цвет их платья (сама же в темном могла пить и из белой).
К примеру, двенадцать утра зимой. Но дня почти нет – за окном сыро, туман сушится на гвоздях вороньих криков. Анука их слышит, потому что дом ее высится на краю Сокольников. Она открывает на звонок: гостья, которую она ждала, стоит за порогом с внучкой. Анука приседает перед закутанной девочкой, отстегивает помпоны пуговиц на шубке, и дышит в принесенные с холоду детские тапочки, и ведет показать – ну, что бы, например? Разве есть у нее кукла? Есть! Та, что на чайнике, но перешита в комнатную, стоит на подзеркальнике. И медведик в белой камилавке, заткнут за кроватное изголовье (он там потому, что Анука, получив когда?то его в подарок, поразилась, как он похож на ее отца, что лежал при прощании в такой же белой шапочке). И после того, как маленькая гостья все посмотрит, Анука, собравшись накрывать чай, захочет, чтобы девочка в голубом платье пила из голубой чашки, и ей было даже все равно, что сервиз разрознен, и подруга ее в коричневой кофте пьет из стакана в подстаканнике, пьет, и крепкий чай от кофты неотличим.
Перед самой Анукой тоже могло стоять блюдце с чаем, и тогда в озерце с лимоном она видела отраженные подвески люстры и сверкание.
Глядя в блюдце, Анука почти всегда чувствовала, что это похоже на две вещи:
первая объяснимей, – это похоже на то, как она, сама четырехлетняя, смотрела во время оно в такое вот чайное озеро в пресненском доме, и вечер золотился под потолком уже будто во сне; а второе сложней: выпивая чай с люстрой, она представляла зимние переулки, там, на улицах темного, уже свечеревшего центра, где белел только снег да лепестки объявлений. Она любила сворачивать и идти переулками вдоль притаенных домов с отголосками люстр за окнами вторых, но все равно высоких этажей. Ее манило делать что?то с этими райками, – то яркими, то освещенными тусклым светом; тех, кто жил в них, она видеть не могла и только проводила взглядом по потолкам, по верхушкам книжных шкафов; ей хотелось подносить и тянуть, как из блюдца, оконный свет, вбирая своей любовью, и она понимала, что сейчас не получится, но когда?нибудь она это сможет, когда?нибудь она станет иметь с этими мреющими мирками некое общее кратное, одинаковое и для зажженных окон, и для людей, только чтобы вот так легко сопрягаться с чужою вечернею жизнью, надо быть по отношению к ней над чертой.
2
.
Анука родилась более или менее посередине века, который изображается двумя косыми крестиками, – то ли паучками, попавшими в янтарь, то ли водомерками, скользящими над бездной.
Родилась 27 марта 1956 года; сочетание числа, месяца и года своего рождения чувствовалось ею всегда как что?то милое, от чего дует весенним прозрачно?серым воздухом или тем настроением, какое вы испытали бы, открыв медальон с фотографией, с которой на вас глядит ваша любовь.
Родилась где?то на Тестовке, в родильном доме близ Пресни. Когда дома за обедом у мамы отошли воды, стояла яркая весна. Анука появилась тем же вечером, в половине одиннадцатого. В ее крошечные и действительно легонькие легкие, пока она, падая, летела к жизни, как в нераскрытый парашют, ворвался воздух, и она спустилась на землю. Ей, наверное, показалось, что жить невозможно, и она закричала.
Ее подали на чем?то овальном, покрытом салфеткой. Первым, кому ее так подали, была ее мать.
Через пять дней их пришла встретить бабушка, и они втроем, на трамвае, приехали домой. Ануку развернули. Она была очень хорошенькая, но покров, сквозь который просвечивали жилки, был так прозрачен, что казалось, можно увидеть, как бьется сердце. Следы ног выглядели длинными, у нее и впрямь нога потом была несколько велика.
От той фамилии, имени и отчества, что она получила при рождении, неизменным осталось только имя Анна, а отчество и фамилия отвалились, заменились другими, в этом смысле ее полное прозвание подверглось той метаморфозе, что и прозвание индейца, меняющего на протяжении жизни имена: сначала он Быстрая рука, потом – Рачья корзина, потом еще кто?то, еще, и еще, и так, может быть, много раз.
Если бы она носила фамилию отца, она была б Новикова, но ее мама была в браке отнюдь не с ее отцом, и оттого девичья фамилия Ануки звучала слегка одиозно – Горбачева. При рождении по отчеству она была Леонидовной, но мама ее, человек перемен, страстно все изменяла, например, любила переезжать, меняясь, и в Москве Анука сменила великое множество школ. Кроме того, мама часто переставляла мебель, меняя местами постель и книжный шкаф, стол и коврик, и только швейная машина всегда оставалась у окна.
– Я похожа на Надежду Осиповну Пушкину, – улыбалась она, – если та не могла нанять новую квартиру, то велела делать из гостиной кабинет, а из детской – столовую.
В шестнадцать, получая паспорт, Анука, по наущению мамы, мамиными стараниями, сделалась Михайловной, потому что Михаил было имя ее отца и дедушки. Потом она стала Швейко – так, из Анны Леонидовны Горбачевой она обратилась в Анну Михайловну Швейко.
3
.
В первый год жизни у нее был свой выезд, а именно, голубая коляска, и дедушка, провожая на прогулку, махал домашним вослед и шутил: "Барыня поехала!..." Долгое время ей не покупали кроватки, и она спала не за детским штакетником, а в своем экипаже. Ей потом мнилось, что она помнит, как выглядит мир из пелен, даже не выглядит, – обстает. Вот она проснулась, она лежит под высоким, несколько затененным полусводом (поднятым верхом коляски) и видит светлый квадрат тишины. В него попадают отголоски домашнего разговора. Оттого что рот занят и не хочется выпускать какой?то привычной выпуклости, она не кричит, а толкает ногами борт, давая знать, что она уже тут, а вот они почему?то не бдят, они пропустили ее пробуждение. Она хорошо знает, что те, кто находится по другую сторону марева, зависят от нее, что она правит ими. Она слышит шушуканье: "Смотри, смотри, проснулась", и все равно те еще не обнаруживают себя, еще выжидают. Убедившись, что они на самом деле поблизости, она думает:
"Ну, я вам дам!" – и, уже не жалея, что сейчас расстанется с привычностью, которую она, обжимая и потягивая, держит во рту, – пускает на волю свой крик.
Зато она была убеждена, что помнит вот что: она в домашнем своем, в комнатном зале, что во много раз превосходит ее вышиной, она находится вертикально по отношению к полу, впереди – наверное, из окна – клубятся потоки светового водопада, она держится за изножие чего?то скользящего, что едет по направлению к бурному и яркому, плотному, как занавес, и роящемуся оконному свету, и сама она подвигается, она идет!...
Так, уже извне, она ощутила свой голубой фаэтон, так она согласилась потом с тем, что живет на белом свете.
Ее раннее детство проходило на Пресне, в высоком каменном доме, выходившем окнами в парк. Комната, в которой она неизвестно как умудрилась почувствовать себя одиннадцатимесячной, была действительно большой, двухоконной, с хорошим воздухом. Ануке казалось, что потолок расположен в поднебесье, а за враждебными отверстиями отдушин, темневших наверху, таится что?то иное, и действие домашнего мира там кончается. Она просила бабушку объяснить, что такое эти отдушины? Но бабушка по их поводу почему?то не тревожилась, и только если паутина, похожая на темные папоротники, наседала и шевелилась на них, тогда ставили стулья на стол и снимали вуаль.
Комната была в шаляпинских обоях, под потолком, под самым бордюром, проходила витая электрическая проводка, перемеженная белыми фарфоровыми чашечками.
Барометр часто снимали со стены и пытали его не насчет бури, а насчет клопов.
Барометр был в темно?дубовой резьбе и, очевидно, сделан для охотника: его узоры являли два скрещенных ружья, профили вислоухой и остроухой собак, мешок для пороха и ягдташ, внизу висели подвязанные вальдшнепы. Сборки на пороховнице так сочетались с прилежащим ружейным стволом, а приклад так далеко от него отставал, что Ануке виделся сидящий на корточках чертик, приготовившийся в отчаянии уронить голову на острые кулаки; она расспрашивала о нем то бабушку, то маму, но они его не различали. Анука подходила к барометру и показывала на темно?коричневые и худые руки чертика; при этом оказывалось, что это уже не он, а человек, остриженный наголо, уперший локти в колени и опустивший лоб на скрещенные пальцы. Но только он не мужчина, а некто.
– Да где же? – сомневаясь, невнимательно отзывалась мама.
Тогда Анука становилась на пододвинутый стул и дотрагивалась до тех завитушек, где она, на расстоянии нескольких шагов, видела странное существо, но где его и правда больше не было.
– Это продолжение ружья, – говорила мама.
– Где?
– Ну вот, видишь, вот, – мама проводила мысленную линию, прерываемую круглым стеклом механизма, но Анука не понимала – она теряла в дубовых листьях смысл узора.
Барометр клали на расстеленную по плюшевой скатерти газету и внимательно изучали гирлянды выпиленных листьев и желудей. Анука, хотя и проживала в одной комнате с домочадцами, жила несколько в ином мире, где никаких клопов не бывало.
Радио никогда не выключали, и вот днем наступало время, когда в тишине из приемника начинали вдруг раздаваться монотонные сухие щелчки, череда равномерных ударов. Слово "перерыв", которым взрослые называли это костяное постукивание, ничего не объясняло Ануке, она точно знала, что это стучит такой же, как на барометре, только другой, сухой и костлявый чертик.
Подоконники выглядели широкими, крапчатыми, напоминавшими орехи в окаменевшем щербете, края были кое?где оббиты, и Анука думала, что их уже откусили. Они были у лица.
В серебряную полоскательницу, стоявшую на одном из подоконников, бросали листики настенного численника и нитки; календарные странички были дедушкиными, а нитки мамиными.
Ануку безумило, что мама любит ее приливами, приливами, которые нисколько не зависят от самой Ануки, от ее послушания или непослушания. Она чувствовала, что мамой колышет какая?то гигантская, владеющая миром стихия, волны которой и правят ее нежностью, ее резкостью. Эта стихия была для Ануки закрыта, ибо она была стихией взрослого мира. Не зная ей имени, Анука догадывалась о ней как о стихии любовной. Она не ведала ее очертаний, но угадывала неимоверные размеры этого океана. Она не ревновала бы к нему маму, если бы та брала ее неизвестно куда, но куда?то с собой, но ее никогда не водили на эти берега, и Анука в слезах голосила, когда мама выскальзывала без повода.
Маму звали Зинаидой Михайловной. Она была очень, она была дивно, она была дико красива, и однажды Анука как будто пошатнулась, увидев ее в дверном проеме, выходившем на лестничную площадку. Они собрались гулять, и Зинаида Михайловна надумала, наверное, кому?то перед выходом позвонить, а чтобы Нука ей не мешала, попросила чуть?чуть подождать за порогом. Анука обреталась на лестнице, разглядывая неприятную, чуждую, с застрявшими в ней пушинками, сетку лифтовой шахты, сквозь которую просвечивали тросы. Когда наконец распахнулась их дверь, она вдруг, как впервые, увидела высокую и худую, стройную женщину душераздирающей красоты, с очень большим и тяжелым, в шелковой сетке, низко уложенным узлом скорее темных, чем светлых волос, одетую в сиреневый костюм.
Ануку потрясло, что это ее мама! Зинаида Михайловна была груст? на, и когда они шли в зоопарк, нервничала, – ей мешало, что Анука мнет ее шерстяной чернильно?сиреневый подол; Ануке же, наоборот, хотелось крепче сжимать юбку, следуя за золотой колесницей маминой красоты.
Однажды вечером, только уложив ее спать, Зинаида Михайловна в каком?то порыве подняла вдруг Ануку, поднесла к окну.
– Нуконька, салют! Только ты легла, и салют! – говорила она. Они жили на седьмом. Из незаклеенных окон дуло. Держать, наверное, было все?таки тяжело, и ее поставили на подоконник, на каменную полку над бездной. Анука ахнула от застекленной осенней ночи под ногами. Верхушки голых парковых деревьев грудились внизу и были темнее ночи, а в вышине, будто в раскатах грома, зелеными и гранатовыми слезами тек салют. Яркие капли из огненного стекла взлетали, озаряя черный простор, и округло катились вниз, но когда потухали, в воцарившейся тишине оставалось на небе уродство зубчатых борозд, похожее, как ей казалось, на следы, проложенные ящерами на слякоти у залива. Они шевелились, их раздувало ветром. Ануку поразило – как это взрослые не запрещают красоте смешиваться с уродством? По тому, как мама восторгалась будоражащим и печальным видом салюта, Анука догадывалась, что та не замечает исполосованного неба, хотя зазубренные эти дымы с каждым новым всплеском огней озарялись снова и снова.
Материя, из которой мама шила пальто, называлась ратин. Он был рытым. "Рыхлое горло", – говорил врач, он находил у Ануки внутри тот же ратиновый ворс.
Первая стихия, которая была сильней и выше Ануки, и которой она отдалась, была стихия болезни. Погрузившись в нее, она узнала ее печально?капельный вкус и покорилась ей, как чему?то на всю жизнь своему, чему?то такому, во что она положена, чему не перечат. Анука почувствовала свою телесность, слабость, свой женский род, а в болезни – закон и силу. Она согласилась болеть. Сначала Анука и болезнь только частями накладывались друг на друга, но позже они совпали, болезнь стала ее жизнью, а жизнь болезнью, но не настоящей, мнимой, и хотя болезни и были серьезными, они, будто с луковицы, всякий раз снимали с Ануки только верхнюю кожицу, открывая новую золотистую поверхность.
Зимними вечерами она улавливала чайным озером блюдца, будто зеркальцем, зажженную люстру. Эта люстра не устраивала Ануку, так она была старомодна и уязвимо смешна: три хрустальные лопасти свисали по бокам, образуя воздушный треугольник. Он был замкнут подвесками на тяжах; всего ниже спускалась круглая розетка; над ней бельведером размещались граненые и витые сосули. Бронза поднимала кверху глупые рожки. Люстра эта была, впрочем, очень невелика. Анука подтрунивала над ней, над ее старостью – как ей объясняли, еще свечной. Но чай перед сном морил Ануку и еще чем?то, кроме как скучным и желтым; он намекал на приоткрывание какой?то створы, но куда? Анука не понимала. Она только чувствовала, что вот так сидеть и засыпать было бы счастьем, если бы здесь кого?то хватало, но здесь кого?то как раз и не хватало. Потом, много лет спустя после тех пресненских вечеров, Анука сидела с мужем и сыном под той же люстрой, уже казавшейся ей милой и удобной, благополучно перевезенной в другую более или менее похожую комнату, сидела за чаем, глядела в блюдце на отраженье стеклянных огней и думала, что вот она теперь как будто и пребывает за воротцами заслонки, в топке счастья, но зато ей тут не хватает желания будущего, того желания, которым она жила прежде.
4 .
Кроме мамы, ее домочадцами были: бабушка, дедушка и тетя. Слоняясь по комнате
– днем иногда тихой (если не считать несмолкавшего, негромкого звука радио) и пустой, потому что бабушка часто бывала на кухне; дедушка собирал саквояж и уходил то в библиотеку, то на поиски обмена, а то вообще по Москве; Зинаида же Михайловна отправлялась на примерку, а тетя была поблизости на какой?то Капрановке, – слоняясь по комнате, Анука мыкалась и грустила. У полоскательницы (смотря по погоде, то ярко, то тускло сверкавшей на подоконнике) ее внимание останавливали оторванные листки численника с цифрами, среди которых попадались, когда она разгребала этот шуршащий архив, оттиски ярко?красного цвета. Бумажный листопад перемежался свитыми в колечки очесами вьющихся и послушных полуседых, но все?таки темных бабушкиных волос. Ануке мнилось: листки календаря могли на что?то пригодиться, что?то ей сказать, ведь перевернув иные, она замечала напечатанные столбиком, как печатают только стихи, слова, но их муравьиная мелочь была взрослой, и Ануке делалось скучно.
Она томилась оттого, что никого?никого не было. Никого?никого, кто мог бы с улицы заглянуть к ним в комнату – как жизнь вдруг заглядывает под прилавок церковной вечности полюбопытствовать, – чем там торгуют? Анука любила чужих.
Но не тут?то было. Чужие так редко входили... Но если уж они попадали в домашний круг, их присесты Анука помнила долго.
Когда кто?нибудь все?таки переступал порог комнаты, Анука хотела владеть этим гостем сама и одна – иногда до припадка. Ее обуревал восторг обладания. Ошалев от радости, если к маме вдруг наведывалась заказчица, Анука считала: "Раз я тоже тут живу, то она пришла и ко мне!" Получалось, она имеет право не отходить, обнимать за шею, целовать в щеки, стоять у стула, держать за руки, и слушать, и рассказывать. Анука влюблялась. Ее будоражила новая улыбчивая гостья, уделявшая ей внимание, душистое, как сирень. Часто ее чем?нибудь угощали и слушали, как она говорит взахлеб:
– Я хочу кататься на самокате, но это только мальчики катаются...
Ее п7ривечали, но потом исподволь и осторожно что?то изменялось, и Анука чутко ощущала наступление этого момента: кончались, как это называла бабушка, "тары?бары?растабары", близилось время примерки, Ануку пытались оттеснить, но ей не хотелось отдавать гостью.
– Ну она не даст, не даст!.. – делая точный прогноз, сокрушенно предрекала бабушка, понимая, что пахнет скандалом, что скорей всего и на сей раз придется прибегать...
Происходила громкая и мерзкая сцена оттаскивания: Зинаида Михайловна держала перед заказчицей помеченное силками, сметанное пальто, Анука цеплялась за гостью, с которой она только что заключила воздушные узы, а бабушка тянула за порог, на кухню.
Так в Анукину жизнь вошла Тоня, самая любимая и непонятная, надолго ставшая маминой подругой. Тоня была натурщицей, Ануке объясняли, что она позирует. Она держалась особенней всех и разговаривала с Анукой, как со взрослой. В ожидании примерки, сидя перед Анукой, она делала с обычным их вытертым гобеленовым стулом что?то такое, отчего Анука не верила, будто Тоня и вправду сидит на их стуле – Тоня так свивала длинные лианы ног и так нежно круглила руки, что Анука жалела, зачем она не живет с ними всегда.
Анука держала ее за пальцы, и раскачивала, и немного толкала, проверяя, сколько та может, любя ее, вытерпеть? Тоня терпела. И однажды Ануке вдруг захотелось что?то с ней сделать, и она ее укусила, – взяла за палец с лаковой капелькой ногтя и укусила за прозрачный сустав с перстеньком.
И тогда ее выволокли, и выволокли не в коридор и не на кухню, а на кафельный пол ванной комнаты, именно комнаты, светлой, с видом на белесую от зимнего солнца простершуюся Москву, и, выхватив из бельевого бака соседей деревянную круглую палку, выбеленную на конце, ударили по волочащимся где?то позади, отстающим ногам. Когда доставали палку, обида поразила Ануку. Обида на то, что это не честно – брать палку из чужой выварки, что раз у них у самих нет, то и расправы быть не должно. Наглость взрослых, воспользовавшихся на ее глазах чужой вещью, была столь блистательна и откровенна, что Анука задохнулась от протеста. Еще ей было очевидно, что побелевший от кипячения, будто съеденный солью, конец палки отравлен. Но тут же она поразилась убийственной боли и одновременно тому, из какой твердости сделаны ее ноги! Она думала, что они все?таки сделаны из мягкости.
Не только с ней одной были странности, и не только за ней одной водились провинности.
Как?то раз дедушка, надев свою круглую, на извозчичий манер, порыжелую цигейковую шапку c черно?плюшевым верхом, подождав, пока на внучке застегнут шубу и подпояшут ремешком, пошел с ней гулять в зоопарк. Они вышли поздним утром. На палевые от потайного солнца сугробы садился снег.
Анука отлично чувствовала, что дедушка, не то что бабушка, не умеет с детьми обращаться, и от этого идти с дедушкой казалось чем?то особенным. Только они отошли от дома, как дедушка, будто советуясь, проговорил:
– Ну, Аничка, давай телефонируем?
– Давай, – ответила Анука. Она не удивилась, почему дедушка не стал звонить из домашнего их коридора, – ей было все равно.
Но скоро о том, что дедушка, не успев завернуть за угол, кому?то звонил, – скоро дома об этом узналось. Свой саквояж он не внес в телефонную будку, а поставил на высокий, вровень с Анукой, пушистый сугроб. Анука бегала рядом, дедушка разговаривал, разговаривал неизвестно о чем, но так, что, отворив подслеповато?остекленную, в серых перепонках, кабину, он в непонятном настроении вышел из будки, кликнул Ануку и повел ее за руку в зоопарк. Билеты она всегда подавала сама, а пройдя турникет, тянула на кружок, где катались на пони. Дедушка за?платил за три круга, она села в расписную таратайку, бубенчик затенькал, и, когда снежная земля поплыла назад, Анука привыч? но сконфузилась
– как когда?то во время салюта красоту огней сопровождали рваные полосы пороховых дымов, так удовольствию катания на пони сопутствовал резкий запах лошадки. Еще Анука догадывалась, что дедушка старается доставить ей удовольствие, и понимала, что надо держать марку – показывать, что она рада.
Она показывала, но тут начинался фокус: делая тот самый довольный вид, Анука всем существом чувствовала, что на самом деле испытывает то счастье, какого никогда и нигде, при более медленном движении, она не знала в жизни.
Неожиданно, ни с того, ни с сего дедушка замахал руками и стал делать знаки, чтобы Анука слезла вместе с детьми, которых катали только два круга. Она еще не начала скользить задом по скамейке, двигаясь к сходням, и дедушка, жестикулируя, опять принялся звать ее вернуться. Когда она подбежала к ограде, за которой толпились родители, то услышала вопрос:
– Анука, а где наш саквояж? – Серьезность, с которой дедушка, отягощенный за свою долгую жизнь опытом, какого у нее нет и крупицы, стоит вдруг теперь над ней, второстепенной и неразумной, и ждет ответа, эта дедушкина зависимость дала ей почувствовать, как она, в тишине ожидания, в один миг поднимается из своего умаленного значения и становится на одну доску с прошедшим огни и воды дедушкой, лицо которого, с бледным даже на фоне снега лбом и щеками, выдающимся орлиным розовым носом и небольшими, совершенно мужскими жидко?голубыми глазами, наклонилось над ней таким образом, что она воочию видит, как дедушкина суть проступила сквозь слои, дедушка высунулся из самого себя и смотрит на нее, как на соломинку, и уже не ждет, что она скажет, а выпивает ответ с ее лица.
– Не знаю, – ответила она.
– Тогда надо скорей на угол к телефону.
Они побежали. Анука что только всегда и делала, так это бегала, но за руку с дедушкой она бежала впервые, и ей было так интересно и остро, что она ощущала:
грудью не воздух, а наконец?то жизнь она рассекает, попадая в ее захват. Они прибежали к стоявшей на холмике будке. Саквояжик исчез. Сугроб был примят, на тумбе лежала новая снеговая булка, которую Анука недавно смахнула варежкой.
Бабушка поинтересовалась, как приключилась такая незадача, и Анука все рассказала.
– Это ты Ларской звонил, я чувствую... – пропела бабушка.
– Да что ты, Вера, – возразил дедушка, – что ты!
Бабушка еще что?то добавила, дедушка повысил голос. Но бабушка, всегда во всем дедушке покорствуя, в любых случаях жизни его слушаясь и на него полагаясь, на сей раз возымела силу каким?то образом дедушку превосходить и даже чувствовала себя в своем праве. Как у бабушки появилось это непонятное и таинственное, откуда ни возьмись возникшее право, Анука не понимала.
5
.
В первый класс Ануку отдали скоропалительно, с бухты?барахты, шести лет. Она была такая одна. Ее вырвали из самого сердца осени, уже из октября, когда она сидела посреди студеной дачной террасы и вырезала ледяными ножницами профиль синицы.
Октябрь был велик. Он превосходил все размеры, какие знала Анука. Уменьшив в охвате, он неизвестно каким образом увеличил сад – теперь его стало труднее перебежать, преодолевая плотный и жгучий воздух, в котором пахло заиндевелой травой, яблоками на ветвях и каким?то чистым, колоссальным крахом, про который говорят: "ничего?ничего"; он расширил и без того громадный их дом, который и раньше нельзя было оглядеть, промчаться по нему одним духом; октябрь же разделил его, и тем увеличил, на нетопленную и теплую половины, и еще на мно? гие более или менее холодные отсеки. Вера Эдуардовна, Ануки?на бабушка, раз в два дня надолго садилась у печки и топила, то отворяя, то затворяя заслонку, выгребая золу. Анука занималась тем, что перебегала из жары в холод:
наглядевшись в огненную топку, она открывала дверь на террасу и, переступив через границу хриплого разбухшего порога, попадала в ледяную страну. Встав на крыльце, она чувствовала, что это стало теперь возможным: не вдохнуть, а проглотить воздух, как живую и мертвую воду, необъятный (оттого что одновременно и дальний), то есть весь?весь, какого она и видеть до конца не может, и вот этот подступивший вплотную, настолько, что она стоит в нем – осенний, изменившийся сад, даже не сад, а смысл сада; воздух, который своим ароматом заставлял ее чувствовать наоборот: он пах так печально, что она дрожала, так ей хотелось жить!
Она сбегала с крылечка и, распахнув руки, мчалась к яблоням. Их было много, но она облюбовала две невысокие шафрановки, что росли в саду парой. Она не хотела уже больше яблок (сквозь изморозь все равно красных, продолговатых и ледяных), но все?таки срывала и ела без счета, чтобы только слышать их хруст.
В ту минуту, когда Ануку окликнули в другую жизнь, она на террасе держала в руке картинку и уже почти отделила от белого поля тоненький, похожий на соринку, синичий клюв.
– Пойдешь в школу? – спросила, просунув голову в при? открытую стеклянную дверь, приехавшая из Москвы мама.
– Да! – готовая к отзыву на любую перемену, вскинулась Анука.
– Она пойдет! – обернувшись в комнаты, проговорила мама.
– Нуконька, только форму купим на днях, пока будешь в синем платье. А фартук я ночью сошью, фартук будет.
Мало того, что платье было синим, его еще когда?то и вышили по опушке белой строчкой, в виде ромашек. Зинаида Михайловна собралась было пороть, но за поздним вечером расхотела.
Утром Ануку ввели в класс. Сонм детей в коричневых и серых школьных формах сидел за партами, и на минуту Анука очутилась вдвоем с учительницей у доски.
Ей было неимоверно горячо там стоять.
– У нас новенькая, Аня Горбачева, – сказала учительница по имени Нинель Николаевна, и держа за плечи, стала направлять ее к последней парте в среднем ряду, к одиноко сидевшей там девочке с фамилией на букву Ч. Девочка была не радушна, и свои прописи, которые Нинель Николаевна попросила ее положить посередине, считала собственностью, так что Анука наткнулась на какую?то загадку и грусть.
Они писали овалы и крючки – по словам учительницы, элементы. Мальчик с передней парты повернулся к Ануке и, тихо смеясь, сказал:
– Алименты.
Анука не поняла, она такого слова не знала. Мальчик Ануку презрел.
Ее первый школьный день совпал с первым снегом. Мама пришла встретить ее, и они потом брели через парк. Оттого что Анука в этот день не гуляла, она захотела задержаться под деревьями, сесть на корточки и разглядеть снежные крупинки. Зинаида Михайловна мерзла. Уговорившись с Анукой, она оставила ее одну в домашнем их парке, сама же, с ранцем, скользнула домой.
Анука стояла и слушала, как пахнет снегом. Траур мокрых деревьев, старых невысоких дубов, тек ветвями навстречу низкому небу, березовые же стволы поодаль тоже представлялись ручьями, но светлыми, и черные соринки в них неподвижно плыли к серому озеру туч. Наконец Ануке стали жать завязки на шапке, она опустила голову и тут вдруг увидела красный кустарник!.. Это голые алые прутья бирючины, оттененные белой землей, теплели вдалеке. Оттого что яркий куст стоял на темных ногах, издалека чудилось, будто красное облачко висит на воздусях. Оно подозвало Ануку, и она подошла. Перед ней были тонкие прутья свекольного цвета, тонкие прутья – и больше ничего. Лаконизм прямых без единого ответвления линий – удивлял.
Красные прутики чем?то были, но чем они были, Анука не понимала. Их цвет говорил с ней на клюквенном языке, ей хотелось догадаться, что он значит?..
Она стояла перед кустом в напряжении.
"Может быть, это розги?" – подумала она о прутьях.
Это слово притянуло к себе образ алого стыда и боли, а за ними взошла мысль о любви. И одновременно о будущем. Анука стояла перед кустом и так сильно хотела догадаться о нем, что почти с ним соединялась, но соединялась до какого?то предела, а дальше она приблизиться к значению куста не могла, – она оставалась собой, а куст собой. Анука не выдержала этого напряжения и в следующий миг уловила, как что?то ее отпустило. Она снова услышала звук окружавшего ее воздуха, вспомнила, что она в парке, что снег, что она была в школе.
Скоро она поняла, что не может ходить в огромный и тревожный хаос школьного дома, но что уже поздно в этом признаться – машина запущена. Зимой Анука всегда вставала с солнцем и нико?гда не видела того времени раннего утра, которое, собственно, еще ночь. Ужас утренней зимней тьмы соединялся с ней в постели и через закрытые веки давал знать, что в комнате уже зажгли свет, дедушка проснулся и время от времени входит?выходит из комнаты за ее изголовьем, что случившаяся с ней непоправимость скоро утянет ее на улицу, где роятся холодные огни, где сутолока на лестничных маршах так велика, что она нипочем не отыщет свой этаж и класс. Мука была и в том, что она не умела себя вести, – она была самым несветским человеком на свете. Она не могла ума приложить, как, сидя в классе за партой, переодеться для урока физкультуры иначе, кроме как раздеться догола, а потом спастись, нырнув в заранее вынутую из мешочка форму. Эта процедура ранила Ануку. Не смея повернуть головы и посмотреть, как переодеваются другие, она, готовясь заживо свариться в кипятке позора, знала, что подходит момент, и сейчас она будет сидеть за партой, облеченная лишь покровом собственной кожи, и хотя это и будет мгновением, она почувствует боль, как от удара молнии.
В одиннадцать утра Зинаида Михайловна шила у окна за машинкой "Зингер". Сделав ладонью движение, чтобы приостановить колесо, она взглянула в сторону и под батареей увидела черную кожицу спортивных тапочек, – это были Анукины чешки.