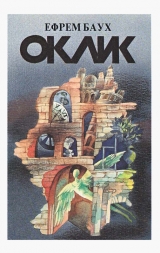
Текст книги "Оклик"
Автор книги: Эфраим Баух
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Через полчаса грозы как не бывало; сушим под навесом одежду и листы учебника с описанием ландшафтов Рейна и Аппенинского полуострова, и над раскисшей под ливнем пойменной низиной, тяжелой и вязкой, как Бавария, легкостью италийских пространств стелется голубая дымчато-прозрачная даль, и никогда – ни до, ни после в жизни, как в этот оптически глубокий и ясный миг, не ощутится, что все эти дома, улицы, шеренги деревьев, поля, дали, наслаивающие собственную бесконечность складками, как материю, выбрасываемую продавцом на прилавок, чтобы как можно более уместиться во взгляде, – все это всего лишь преграды, знаки, обозначающие внутренний напор нашей молодости, беспрерывно и без раздумья рвущейся из поводьев, из себя, и сообщающей всему, что вокруг, то же рвение.
Но и весенний вечер после грозы, что, как врач после кризиса в болезни, наклоняется к больному, кладет ему на лоб прохладную ладонь небесного покоя с мягким светом ранней луны, не может утишить этот внутренний порыв. Сумерки скрывают подробности, однако напряжение, тяга и порыв сгущаются в определенных местах пространства, и с востока река заряжает на всю ночь город и предместья тягой на юг, а с запада – вокзал бегущими поездами вселяет порыв и тягу всей окрестности сразу и на север и на юг. Наибольшая опасность этому порыву в дали, опасность, о которой боишься даже думать, чтобы самому не подслушать собственной мысли, – в пропахших мазутом и скудной жизнью железнодорожных депо, породивших племя, одержимое бесом скуки и навязавшее миру дьявольщину, называемую классовой борьбой, скучнее материи для учебы не придумаешь. Самое интересное, что племя-то само так и осталось в унынии и грязи, но скукой своей, спрессованной и взрывчатой, как порох, начинило бомбы идей, прокламаций, демонстраций, подкладывая их под все живое иного высшего склада восприятия, давя его сапогами, убоем, заглушая ревом, но живое продолжает жить, как луна и звезды среди дня или звук скрипки за портьерой, не слышный из-за рева первомайской демонстрации, этого выражения всеобщего согласия из страха.
После демонстрации, порывом скуки прочесавшей город, во всех щелях и углах валяются пьяные, а мы, забросив набившие оскомину учебники по новейшей истории, шляемся от реки к вокзалу вместе с толпами фланеров, лица которых обметаны серым налетом ночи, мы все, как лунатики, как погорельцы в пожар, пытающиеся сбить пламя тяги этих вод и поездов, разрывающих пространство, мы подобны челнокам, жаждущим избыть внутренний порыв и тягу шатанием от реки к вокзалу и обратно.
И каменным, выщербленным вмятинами, запущенным из пространства ядром, слабо освещаемым во тьме светом давно закатившегося солнца, угрожающе нависает над нашими головами шар луны, сопровождая наши фланирования с педантичностью снайпера, не спускающего с нас прицела.
Но, как я уже догадывался, на то и дана поэзия, чтобы одним смещением, сменой ассоциации обезоружить чересчур зарвавшийся образ: и лунный диск мгновенно оборачивается светящимся отражением земного нашего шарика в таинственном зеркале ночи, нет, не просто отражением, а мертвым городом, Помпеей и Геркуланумом, погасшим Нагасаки под окурком атомной бомбы, оттиском памяти будущего. И все же, все же, до чего и сама поэзия зависит от настроя души, ее тревоги и страха в эту майскую ночь: не могу, хотя стараюсь изо всех сил, перевести луну в пасторальный образный ряд, пустить пастись ее в завороженные только открывшимся им миром, брызнувшие по лугам и всхолмиям травы предместий.
И наматывается на наши челночные шатания цветистой весенней тканью пространство провинции, и, подобно ткацкому станку, ткет ее город, и есть в ней свои краски, своя прелесть, неразмываемая временем гениальность природы и человека, и пахнет она с юга, от Траянова вала, Римом, просквоженным ветерками с развалин предполагаемой Мазеповой могилы и стоянки бежавшего с поля боя шведского короля Карла у неказистого местечка Варница, и сильна она, провинция, очищающей и обогащающей тягой к центру, который давно лишен этого девственно-наивного чувства, этой нерастраченной свежести, изнурен суетой, забыл вкус медлительности и лени.
Благоухающий до головной боли запах матиол, цветущего табака, ночных фиалок, левкоя, посаженных мамой в полисаднике под нашими окнами, внушает безумные надежды на будущее.
Я никогда не мог запомнить имена цветов и деревьев, и потрясают они меня, лишь обнаружившись внезапно огромной полосой свежести по весне, как подснежники, валом ночных благоуханий, полем скошенной травы, чей арбузный аромат долго представлялся мне запахом рая. Ароматные волны трав и цветов, текущие поверх груд плодов и зелени на базарах, в парниках, в гостиных, где – праздник, день рождения, привлекают, обозначая какое-то небывалое событие в ровной череде дней, и все же я всегда завидую тем, кто знает цветы и растения по именам и приметам, словно бы пользуется таинственной взаимностью этого прекрасного, не требующего к себе внимания, но отдающего все на радость другим мира…
В мае Хона окончательно разругалась с мужем. Они съехали от нас в пылу ругани и требований о разводе. Я так и не сумел понять, вытравила ли Хона будущего жителя мира или решила произвести на свет. Больше я их не видел.
Но тут же в дом въехала другая пара и – кто бы мог подумать – женскую ее половину представляла та самая Зойка, старшая сестра Фриды Ицкович, которую я когда-то пытался подтянуть по математике. Где она подцепила парня, до того приличного, что я так и не запомнил его имени, понять было невозможно.
Во мне всегда жил образ библейской красавицы – Рахели или Шуламит. Но первой красивой еврейкой с библейским отсветом в чертах оказалась Зойка, таскавшаяся с работягами и солдатами. Она страдала астмой, но была полна жизни, и стоило мужу отлучиться, начинала поддразнивать меня, задирая юбку выше колена якобы для того, чтобы поправить подвязку, хрипло смеялась и в этом хрипе были особый соблазн и греховность.
Мы втроем, с мамой и бабушкой, опять перекочевали в спаленку, а им дали столовую, куда они первым делом заволокли кровать, соперничающую по величине и, вероятно, значимости в их глазах – с буфетом. Библейские львы напрасно скалились: наследницу библейской Лилит они не пугали, не такое видела.
Мне было семнадцать с половиной, я был глуп и наивен в этих делах, но вероятно, уже обретался в эротических фантазиях старящихся любовниц молодых отроков, и они из каких-то тайных логов слали намеки и сигналы через жирного, с прической под Бальзака парикмахера Шурку, который время от времени стриг меня, сопя мне в лицо, давя своим до мерзости мягким и огромным животом: намеки были столь сальны и порочны, совсем не по настрою моей души, что перехватывали дыхание своей отвратительностью…
Зойка с мужем были недавно обвенчавшейся парой и весьма рано ложились в свою необъятную кровать, бабушка ничего не слышала, мама, вероятно, делала вид, что ничего не слышит, а я в эти часы уходил из дому шататься по ночному городу с ребятами. Когда же я возвращался, в часу двенадцатом, молодая пара только начинала свою обычную жизнь, зажигала свет, готовила ужин под храп бабушки, доносящийся из спаленки, тут они меня захватывали и бросались закармливать, и Зойка, не стесняясь мужа, начинала со мной заигрывать, она двигалась невероятно быстро, хрипло дыша, и голос ее был как из надтреснутой амфоры, ее словно бы несло в ничто, на уничтожение, в порошок, в разнос, и даже имя Лилит [27]27
Лилит (иврит): ночная, царица ведьм.
[Закрыть]) было для нее слишком романтичным.
С утра мы готовились к экзаменам то у Яшки, то у Андрея, и стоило мне на миг оторваться от учебника, как передо мной в пыли, пронизанной солнечными нитями, всплывала Зойка, и все вместе тайны поэзии, природы и пола в заброшенной, как этой пылью, скуке жизни соединялись в ней. В полдень я с трепетом и страхом шел домой обедать, зная, что она в этот час дома, одна, без мужа, а бабушка ей не помеха, я был на грани падения, и она упорно приближала его, чтобы с торжеством доказать правоту своего понимания жизни, вовлечь в воронку срама любого, попавшегося на пути, тем более наивного подростка, она заводила разговоры только об этом, хрипло смеясь и блестя греховно глазами, красными от возбуждения и бессонницы. И каждый раз в критический момент кто-то появлялся: Андрей, мама, Яшка.
Наплывала ночь запахом цветов и прохлады.
Музыка белым привидением плыла с дальней танцевальной площадки над верхушками погруженных в сон деревьев, луна латунно белела, бросая наискось по реке серебрянную дорожку, без конца промываемую течением…
Распаренно дышала танцевальная площадка.
Как лунатики, торчали подростки, поглядывая сквозь щели забора на шаркающие под музыку пары. Где-то в углу площадки, клубясь фигурами и платьями, назревала драка. Скамейки в аллеях еще были пусты и заброшенно пылились в лунном свете…
Это было удивительное лето, последнее в прекрасной и девственной юности перед выходом в мир, чуткое, полное сонно пульсирующей чистоты и неведенья, и в парке, вокруг танцевальной площадки, пахло гвоздикой, и каменный Сталин был чужим и нестрашным в этом живом, заброшенном, джунглево спутанном мире парка и юности, и черноволосая, с завитками на лбу Рая Салмина, точно пиковая дама, сошедшая с игральной карты, и круглолицая русская красавица Клава Маслова привлекали к себе взгляды всей площадки, и вокруг них завихрялись волны мужского обожания, ярости, разряжающейся в драках.
Ночь стояла вся перекошенная в завтра, полная тревоги и незнания: что там ожидает; кусты вдоль аллей топорщились звериной настороженностью и духотой, и столько было вокруг гарантий, что там, в завтра, скуки не будет, все дышало женской стихией; в эту ночь Сашка Кантор, который учился в финтехникуме и вместе со мной играл в струнном оркестре дома пионеров, мельком познакомил меня со своей однокурсницей Валей Зюзиной, которую, конечно же, дразнили, окликая Назюзюкиной. Мы сидели втроем на одной из лунных скамеек, мгновенно, как только выключили на площадке музыку, заполнившихся парочками, Сашка ныл и канючил, обиженно надувал губы, сюсюкал, требуя, чтобы она сказала ему, нравится он ей или нет, она согласно кивала головой, раскачивала удивительными по форме, длинными ногами танцорши народного ансамбля при городском Доме культуры, скашивая на меня лилово-горячие белки глаз, как Яшкина кобылица.
Как-то само собой случилось, что Сашка исчез, и мы остались вдвоем. Было заполночь, стояла тишина и шорох листвы, чьи-то фонарики светящимися шариками шарили в зарослях, как некие посланцы будущего, беря на себя всю тайну, свежесть и аромат этой ночи.
– Фонарики-ярики, – засмеялась Валя, у нее был низкий гортанный голос. Мы почти не разговаривали, и тем не менее, с момента, когда растворился Сашка и мы оба не заметили его исчезновения, прошло несколько часов, мы ходили по улицам, присаживались на скамейки, опять ходили, и ее тонкое летучее тело, вызывающее во мне мгновенный прилив слабости в кончиках пальцев рук и ног, казалось, ревниво и бесшумно втягивали в свои водовороты темные воды ночи, и оно в каждую следующую секунду отчаянно и горячо вырывалось ко мне в слабых бликах поздней луны, уже цепляющейся за верхушки деревьев, и она поворачивала ко мне лицо движением плывущей кролем, чтобы набрать воздуха, обдать дикостью и жаром горячо скошенных цыганских глаз, слегка удлиненных, как у египтянок, под почти сросшимися бровями, пересекающих удлиненное мягким клином смуглое лицо с неожиданно чувственными губами, изогнуто набухшими, жадно приоткрытыми для глотка воздуха, для тайного зова и вызова, набухшими в тихо засасывающих водах этой так стремительно протекающей ночи; и каждый раз полыхнув на меня поворотом лица, она как бы одновременно взывала о помощи и ускользала в темном потоке, и брызги темноты светящимися росинками пота дымились по закраинам ее губ; иногда мы, прикасались друг к другу руками, слегка, мимолетно, но это было ни к чему, ибо явно ощущалось, что какая-то неприкаянно слонявшаяся в ночи ведьминско-ясновидческая сила внезапно нашла благодатное пристанище в нас двоих, и тут уж расшалилась в полную силу, показав всю фальшь и нелепость слов и жестов, ибо, не касаясь друг друга, мы ощущали один другого взглядом, осязанием, обонянием, дыханием, и этого занятия могло бы нам с лихвой хватить до скончания дней; мы были два ночных существа, забвенно несомых течением и не думающих, на какой берег их выбросит; и когда в третьем часу ночи мы очнулись у запертой двери общежития финтехникума, и вахтерша, словно бы повинуясь нашему магнетизму, беззвучно повернула ключ в замке, а я, непроизвольно наклонившись к Вале, коснулся губами ее уха, опять же, как набирают в легкие воздух про запас, готовясь глубоко нырнуть, все это было само собой разумеющимся, и я не шел домой, а плыл, как плывут на спине, лишь краешком глаза отмечая размыто-знакомые ориентиры, чтоб не сбиться с пути, благо супружеская пара включила иллюминацию, готовясь лишь ужинать, так что Зойка тут же отперла мне дверь, с удивлением и даже строгостью спросив:
– Ты где шатался? Постой, да ты случаем не пьян?..
Но я приложил палец к губам, лунатически улыбаясь, как бы беря ее в сообщницы, и, уже по пути понимая, какую я совершил ошибку, внушив ей мысль о сопернице, проскользнул в спаленку, где мама с бабушкой мирно досматривали сны.
Отоспавшись, я только через день пошел искать Валю в общежитие, случайно наткнулся на нее у рынка, и не узнал: это было другое существо, которое спало на ходу, натыкаясь на рыночные лотки, мельком покупая, словно внезапно их обнаруживая, яблоки, торопясь, хотя спешить ей было некуда, только губы ее были также оттопырены, жадно приоткрыты, и она оторопело смотрела на меня, как будто все еще пребывала в тех ночных водах, а я весь какой-то дневной, незнакомый, суетился рядом.
Я шел за ней вслед, как потерянный, я вспоминал ее, ночную, и мне рисовался облик Клеопатры из пушкинских "Египетских ночей", которая ночью целиком растворяется в любви, и сама в это верит, а утром обезглавливает любовников: просто не узнает своих ночных спутников.
Просто таков был ее характер, выражение ее жизненного присутствия, и только намного позднее я понял, какое невероятное благо несла в мою жизнь эта встреча. Мы были одногодки, но она уже кончала финтехникум и к осени должна была уехать по распределению. Не было ночи в том удивительном июле пятьдесят первого, чтоб мы не встретились, не было темы, которую мы бы не оговорили, но, целуясь, мы до боли сжимали друг друга, как будто в следующий миг должны были расстаться навсегда, мы были как двое, потерпевших кораблекрушение, которые из последних сил держатся друг за друга и за предмет, позволяющий быть на плаву, будь то скамейка, луг или ствол дерева, но наперед знающие, что каждая следующая секунда может оказаться роковой, кто-то ослабеет, и понесут нас, бесшумно заверчивая и топя, темные ночные воды, понесут в разные стороны, заливая с головой, и никогда уже нам не встретиться.
Никогда меня так не лихорадило, как в том июле, никогда так понятия не зависели от мгновенных смен настроения и не были так взаимоисключающи, и я бормотал ей Лермонтова и Блока, и строки были, как клочки памяти, оставляемые по ночным тропинкам, кустарникам и закоулкам жизни, чтоб когда-нибудь найти дорогу назад, тут же, вслед за нами, смываемую ревниво крадущимся по нашим следам темным беспамятством времени, и в строках этих таилась вся надежда и тоска будущего, и ком подкатывал к горлу, когда я бормотал: "Ветер принес издалека песни весенней намек", но мне казалось, что я роняю стихи к месту и не к месту.
Наркотизированный этой ночной жизнью, я пытался днем стряхнуть наваждение, предаться чистейшим размышлениям или созерцанию той же реки, неба, мыслям о жизни, но все это было не то, ибо опять же было невидимым красованием перед той же Валей, диалогом с ней, уже тускнеющим в моем воображении оттого, что я видел скуку на ее лице, и значит все, мною мыслимое, не стоило выеденного яйца, и я терял в себя веру и пасовал перед любым болванчиком, ловко соединяющим рифмы, как мелькнувший однажды крабообразный Марат Зевин, и я ощущал фальшь всего мной написанного, горечь гнетущей неудовлетворенности, и я завидовал по-детски бесшабашным моим однокашникам, прожигающим время жизни лупами на стволах деревьев и спинках садовых скамеек – "Люда+Боря = любовь" и еще не хлебнувшим обжигающей, как отрава, ночной воды.
Но внезапно настроение круто менялось, мне нравилось то, что я сочинил, и я с нетерпением ждал ночи, чтобы прочесть ей написанное, и мы сидели над рекой, и лунный свет повергал в лунатический столбняк дома, деревья, улицы, стоял световым столбом за нашими спинами, словами, памятью, внося во все вокруг одновременно тревожность и успокоенность, какую ощущаешь, засыпая с лунным отсветом на постели, и мы замирали у самой кромки текущих вод, слушая их шорох, такой мимолетный, едва уловимый, как время пролетающей жизни с уже знакомым ощущением будущего, которое ничего не сулит и все же влечет, ибо лунный свет посреди ночного города это всегда предчувствие какого-то длящегося тайного события, которое докатывается до сердца отдаленным эхом печали, мимолетности и сладости жизни, особенно если рядом существо, от которого идет аромат живого дыхания и чистоты.
Но чем сильнее и независимее было то, что я сочинил, тем печальнее и отчужденнее становилась она, как будто это было по отношению к ней предательством.
Откуда ты вынырнул? – вдруг поворачивала она ко мне голову движением плывущей кролем, чтоб набрать воздуху в легкие, как будто видела меня впервые, как будто речь шла о речке, повороте улицы, дереве, возникшем из-за угла, и получалось, что не она была русалкой, а я – лешим и водяным, и получалось – мы два сапога пара, и не получалось ничего.
Зоя была не в духе. Завидев меня, хлопала дверьми, норовила что-то опрокинуть, время от времени, словно неожиданно со мной столкнувшись, говорила:
С гойкой шляешься?
Мама тоже пыталась меня журить, что слишком поздно возвращаюсь домой, а я глядел на всех на них с улыбкой, кивал головой, соглашаясь, как блаженный, и они понимали, что не с кем говорить. После Вали Зойка выглядела как бы запорошенной летней пылью, краем уха я слышал, что она уже с мужем разводится после месяца совместной жизни: кто-то успел ему втолковать, что за "мецию" [28]28
меция (идиш, иврит): находка, дешевка
[Закрыть]он взял.
Опять, как и все до них, они как-то незаметно исчезли из нашего дома вместе с необъятной своей кроватью, и после я изредка встречал ее где-то на обочинах моих шатаний, все так же куда-то торопящуюся, хрипло смеющуюся с очередным недопроявленным существом мужского пола, но она словно бы скукожилась, усохла, и я все старался представить себе ее быт, "промысловую" кровать, но в том-то и дело, что ко всему она была еще и беззаботна, и вся жизнь ее совершалась походя, и когда лет через пять я встретил ее младшую сестру Фриду, уже замужнюю, и справился о Зое, та пыталась как-то обойти тему, что-то бормотала в ответ и было понятно, что Зоя в общем жива, но как бы и не существует в нормальном мире, как и соседка наша, дочь сапожника Яшки Софронова, прозванная бабушкой "Валька-махлерка": это были существа, подобные эфемерам, которые оживали из куколок, пробуждаясь лишь в атмосфере мужской грубости, пьянства и сквернословия.
Благодаря Вале я открыл новый вид сопротивления страху. Раньше я знал только один вид – это был какой-то неожиданно острый, как укол, страх, до замирания, до озноба, какой-то нерасчлененный, сталкивающийся со звериной жаждой выкинуть нечто безумное против него, чтобы обрести хотя бы капельку уважения к самому себе, и я испугался еще более, чувствуя, что могу оказаться среди людей, выставляющих против невыносимости собственного страха, доводящего до полного к себе неуважения, особый вид поведения, преувеличенно актерского, и я одновременно вздрагивал и смеялся про себя, вспоминая сдавленные рыдания Феликса Дворникова, когда на уроке нам рассказывали о смерти Ленина: весь класс сидел с выпученными глазами, боясь лопнуть от смеха, боясь оглянуться на клоунски-страдальческое лицо Феликса. Но ему сошло с рук, как и все сходило, ибо его отец был шишкой в местном отделении госбезопасности. Ведь и бравого Швейка арестовали, когда в начале первой мировой бегал по улицам и кричал: "На Белград!" – даже полицейские уловили издевательские нотки в этом избытке патриотизма (через много лет, в Москве, слышал историю, как стелившийся под ноги Сталину Алексей-граф-Толстой на одном из «чаепитий», устраиваемых Горьким в своем особняке, напротив которого сегодня на каменной скамье расселось каменное подобье графа, вдруг упал со стула, потянув скатерть, свалив со стола всю снедь, вызвал брезгливое выражение у входящего в сшу вождя, жестом показавшего: увезти домой. Через несколько кварталов Толстой вскочил на сиденье автомобиля, как ни в чем не бывало: «Ну, как я выдал?»)…Это скоморошество на краю гибели, это сладкое издевательство души над собственным страхом, это сопротивление, которое легко может привести к нервному срыву, к безумию, явление, вероятно, довольно будничное там, где все диктуется палачеством. В те годы я не отдавал себе отчета, но желание что-то «выбрыкнуть» накатывало до тошноты, я вдруг хватал топор и начинал рубить кусты сирени, объясняя испуганной маме, что хочу строить шалаш, и в эти мгновения хорошо понимал неосознанные мотивы сына нашего физика, который спьяна на мотоцикле выскочил во время матча на футбольное поле, смешав порядок, сведя с ума милицию и местные власти: что у трезвого в душе, у пьяного – на деле.
И вот внезапно возникла Валя, само существование которой, замкнуто независимое, снисходительное к окружению, с благоговением принимавшему его за высокомерность, было энергией, порывом, вызовом картонной скучности и скученности домов, клумб, улиц и снующих между всем этим статистов: это слабое существо опрокидовало своим естеством всю стену предстоящего ей мира, который ей надо было пересечь, как просечь. Значит не все еще потеряно, шевелилось в подсознании, если в этом стискивающем намордниками, науздниками, наручниками, глушителями мире, могло, неожиданно заставая всех врасплох, двигаться это существо неведомой породы, и я… я знал его, я даже что-то бормотал обо всем этом, я даже осмеливался читать при ней стихи, а на лице ее играла нездешняя улыбка, отчуждение, которое в минуты слепой самоуверенности принимал за ревность к безумию моей души, захлебывающейся, как мне казалось, поэтическим бредом, но, очнувшись, я с тоской убеждался, что все это лишь моя выдумка, и особенно то, что, обнимаясь, мы были подобны двум, потерпевшим кораблекрушение и боящимся потерять друг друга: целуясь со мной, обдавая меня ароматом и дыханием своей жизни, она была сама по себе, и также исчезла из видимости моей жизни, как и возникла, окончив финтехникум (глупее учебного заведения для нее никто бы и придумать не мог), и я даже не шевельнулся, как парализованная магнетическим взглядом мушка, чтобы узнать, куда же она уехала, да и вообще откуда она. Кажется, была из Аккермана или Измаила.
Вероятно, так и полагалось: завершился еще один урок жизни, и финалом его должна была быть боль, разрыв, тоска, которые в семнадцать лет обладают горькой прелестью, но и по сей день, когда я вспоминаю Валю, лицо ее, повернутое ко мне движением плывущей кролем, странное ощущение не покидает меня: а была ли она вообще в моей жизни, или это лишь порождение моего воображения и желания?..
Мы прощались с ней ночью. Был сухой ветер, неуютно шумели акации, с пылью летели первые увядшие листья. Она говорила, что приедет через неделю забрать свои вещи, тогда уже и даст точный адрес.
Больше мы с ней никогда не встретились.
Накатила осень, вместе с ней десятый последний класс, за ним – неизвестность. Шли долгие нудные дожди, за пеленой которых исчезла Валя, никого мне больше видеть не хотелось, я очень жалел себя, и упивался этой жалостью, первым глубоким разочарованием, и не подозревал, как скоро жизнь обрушится на меня таким обвалом, что чуть и вовсе не погребет, и долго, с трудом выкарабкиваясь из-под ее равнодушных глыб, я буду вспоминать горечь разочарования осени пятьдесят первого как наисчастливейшее время созревания души, и время это будет казаться мне далеким, повитым ностальгической дымкой, а ведь всего-то пройдет меньше года.
В редко выпадающий среди дождей солнечный день конца сентября я, почти крадучись, чтоб ни единая душа, знакомая ли, незнакомая, не нарушила, не расплескала бы моего одиночества, столь лелеемого, спускался к реке, обмелевшей, пустынной, качался на водах лицом к небу, лежа на песке, ловил последние лучи готовящегося к зимней спячке солнца.
Внезапно, как блудного сына, потянуло меня к бабушкиному Танаху, к его пожелтевшим от времени листам под твердой пропахшей прелью обложкой с тисненным магендавидом. Помню, раскрыл его при свете керосиновой лампы (в те годы подача электричества часто прерывалась) случайно на "Мишлей" [29]29
«Мишлей» (иврит): «Притчи Соломоновы».
[Закрыть], и только начав складывать буквы, еще не вникая в смысл, ощутил так остро сладость собственного разочарования жизнью, но уже в следующий миг смысл читаемого потряс меня, как будто я читал про себя, как будто следил за собой, притаившись за рамкой окна или сквозь щели ставен: "…ки бэхалон бэйти бэад ашнаби нишкафти: ваэрэ ваптаим авина вэбаним наар хасар-лэв: овер башук эцел пина вэдерех бейта ицад… [30]30
иврит:…Ибо смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою: и увидел среди неопытных, заметил среди молодых людей юношу, лишенного тонкости сердца: переходившего базар около угла ее, и путь его был к дому ее.(Гл. 7,6-7-8)
[Закрыть]
…Ки эйн аиш бэвейто алах бэдерех мэрахок: црор акесеф лаках бэядо лэйом акесэ яво вейто…" [31]31
иврит:…Ибо мужа нет дома, отправился в дальнюю дорогу: горсть серебра взял с собою, вернется домой в день полнолуния… (Гл. 7, 19–20)
[Закрыть]
Я вышел во двор, осенняя ночь мгновенно прохватила холодом, низко и тревожно багровел поздний и полный месяц, и за течением строк, написанных две с половиной тысячи лет назад, мерещились женские лица, и как я ни старался, не мог припомнить ни одной черты Вали, они были дымчаты и неуловимы, но Зойкино лицо было отчетливо, забубенно, захватывающе безбытно, и в ушах не замолкали слова:
"…Дархей Шеол бейта йордот эл-хадрей-мавэт… " [32]32
иврит: «…Дом ее – пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти…» (Гл. 7, стих 27).
[Закрыть]
Никогда после я не был столько один на один с несущими меня водами.
«Ки маим апаним лапаним – ке лэв-аадам леаадам» [33]33
иврит: «…Как в воде лицо к лицу, так сердце человека – к человеку…» (Гл. 27, стих 19).
[Закрыть]
И я выходил ниже по течению, и кожа на кончиках пальцев была сморщенной и размякшей от долгого пребывания во влаге, как у утопленника, и призрак легкой засасывающей смерти реял вокруг, и все корневое, к чему я прикасался в эти годы, вело к гибели: осознание собственного рабства – к тюрьме и даже расстрелу прикосновением ствола к затылку; наивность и неведение юности, истолкованные как хитрость и коварство – туда же; поэзия вообще была похожа на хождение по минному полю, ну а любовь, влечение пола к полу вело к прямому убийству: зародившуюся будущую жизнь пытались извести на корню снадобьями и вязальными спицами.
Я смотрел с пустынного берега в даль и передо мной долго разворачивался пышный огненно-пурпурный закат, похожий одновременно на церемониальный вход через горные высоты в завтра и пожар последней катастрофы. Поеживаясь, я думал о том, что ждет меня впереди, словно бы стоял перед выбором: коронованием или гибелью.
И опять вокруг меня, как ласточки, низко и косо срезающие небо, вились слова Соломоновой мудрости, и в преддверии пятьдесят второго мерещился я сам себе, глупым и голодным, Зойка, соблазняющая весь мир хриплым своим смехом, и тот, имя которого запрещено было называть в соединении с неповадными мыслями:
"… Тахат шалош рагза эрец вэ тахат арба ло тухал сээт: тахат-эвед ки имлох вэ навал ки исба-лехем: тахат снуа ки тиваэл… " [34]34
иврит:
"Под тремя сердится земля, четырех не может носить:
раба, когда он делается царем; глупого, когда он досыта ест
хлеб; позорную женщину, когда она выходит замуж…"
(Мишлей", гл. 30, стихи 21, 22,23)
[Закрыть]








