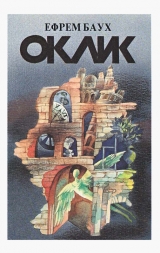
Текст книги "Оклик"
Автор книги: Эфраим Баух
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Глава вторая
* * *
УТРО ЖИЗНИ: УСЛЫШАТЬ РАКОВИНЫ ПЕНЬЕ.
МАРКО ПОЛО, ДЖИЗАР-ПАША, НАПОЛЕОН —
ПОД СЕНЬЮ ОДНОГО ДУХАНА.
МУХАММЕД – МУХА В МЕД.
БЕСПЛОДНЫЙ АВРААМ РОЖДАЕТ ИЦХАКА.
«…Александр Македонский назвал этот город Птолемаис. А в 12–13 веках Акко стал международной столицей крестоносцев. Взгляните какой чудесный пейзаж: Кармель, горы Галилеи, Рош-Аникра. Все это околдовывало приезжающих. Марко Поло избрал Акко местом стоянки между Европой и Азией, привез сюда секреты венецианского стекла – Мурано. В конце 13-го мамлюки… Это наемники, вербовавшиеся мусульманами в Египте. Так вот, мамлюки захватили Акко. Разрушили. Самые роскошные части домов увезли в Каир, для его мечетей. Крестьяне окрестностей использовали камни, строя себе дома…»
Голос гида глохнет в одной из каменных щелей, утягивая за собой хвост беспрерывно искрящихся вспышками фотоаппаратов и обалдевших от наплыва информации туристов. Огромные, слепящие металлом и краской автобусы, подобно китам, целым лежбищем дремлют на утреннем солнце. Мы сидим под легким тентом, попивая кока-колу, на вросших в столетия замшелых камнях древней крепостной стены, и в зрачки мои вливаются с какой-то беспечальной беспечностью призрачные лиловато-солнечные отроги Кармеля, теряющийся в мареве почти исчезающий очерк галилейских гор, море, сливающееся с небом; мягкий утренний бриз колышет полотно над головой и, прянув в глубокий проход меж крепостных стен под нами, выносит голос нового гида, как свой собственный озвученный человеком порыв.
"…Развалины крепости крестоносцев из ордена Госпитальеров имени святого Иоганна. Отсюда и французское название Акко – Сен-Жан Д'Акра. Мы направляемся в "залы рыцарей". Они лежали под грудами пыли и мусора. Вы увидите сейчас огромные подземные залы, крипты со сводчатыми потолками, аркбутанами, печатью в камне – лилией: это символ французских королей…"
Исчезает английский, поглощаемый древними камнями, наплывает иврит вместе с группой кибуцников, а, по сути, галилейских крестьян и крестьянок, загорелых, вольно одетых, в сандалиях на босу ногу (без фотоаппаратов и хищного страха туристских глаз – как бы чего не пропустить), по хозяйски оглядывающих тысячелетние стены.
"…B 18-м веке турецкий диктатор Джизар-Паха, или Паша прямо на городе крестоносцев возвел новые стены крепости, новую мечеть, рынки, огромные постоялые дворы. Сам был скромен, феллахов согнал на каторжные работы, и казначеем, кстати, у него был еврей Хаим Пархи."
Неодобрительное гудение в группе.
"…О стены Джизара в 1799 году разбился Наполеон, который хотел вернуться в Париж через Стамбул "императором Востока". Здесь и по сей день наиболее сильные укрепления в Израиле. Четыре тысячи лет без перерыва существует этот город…"
Кибуцники живо реагируют возгласами возмущения или одобрения: истинные сыны земли, возродившие с успехом жизнь коммун, они порицают банкира Хаима Пархи, который паразитировал на каторжном труде феллахов, арабских крестьян, выражают протест тирану Джизар-Паше, но и одобряют его за то, что создал рынки и постоялые дворы, как и они в кибуцах построили гостиницы для туристов, богачей Европы и Америки, и доллары их весьма полезны для расцвета коммун; особенно они гордятся тем, что Наполеон разбился об эти стены, как будто они их лично возводили и отбивали нападение будущего французского императора; со смешанным чувством встречают сообщение, что местные крестьяне при мамлюках разрушали город и вывозили камни для строительства своих домов: как представители культурного поколения они понимают, что это варварский акт, но цеховая солидарность заставляет их лишь покачивать головами, не выражая своего отношения вслух.
Справа от меня, за нашим столиком, тоже повышаются голоса: мои собеседники оседлали любимого конька – спор идет об эмигрантах и репатриантах, России, Израиле и Америке. Кибуцники слева, в глубоком проходе под нами, продолжают гудеть и жестикулировать, они везде – как единая семья, в труде и на экскурсии. Чуть подальше, за стеной, по улице идет еще одна группа: пожилые, одеты по-городскому, без гида, ориентируются отлично между крепостных стен, разговаривают на иврите, с неприязнью смотрят на сухопарых англичан, которые, уже совсем ошалев после проделанного круга, выползают на свет из узких влажных подземелий. Догадываюсь, кто они, эти пожилые: бывшие члены еврейского подполья. Судя по разговору, сидели в этой крепости Джизара (англичане ее превратили в центральную тюрьму). Пришли почтить память казненных здесь товарищей.
Место казни, ставшее частью музея подполья, мы посетили полчаса назад: огромное, голое и гулкое помещение, стены в рост человека окрашены черной краской, посреди – петля, свисающая с потолка, какие-то металлические рычаги, приводившие в действие люк.
Разверзался под ногами жертвы.
За стенами музея слышатся крики детей, играющих в сумасшедших: до музея в крепости Джизара располагалась психиатрическая больница.
Удивительный это город – Акко: сидишь высоко на крепостной стене под тентом, перед тобой распахнуто бескрайнее пространство воды и неба, морской ветер шевелит пальмами, флагами, вымпелами, обрывками афиш, колышет корабли у берега, растекается руслами улиц и переулков, вырывается к тебе со всех сторон оркестровой разноголосицей тысячелетий, выплескивая все это на стол, за которым идет отчаянный, до хрипоты, спор, а ты можешь, вслушиваясь во все и в то же время ничего не слыша, думать о том, что здесь, под тобой, ниже уровня моря, погребено христианство в своей наиболее фанатичной и воинственной форме, и на нем, пользуясь его же стенами, как фундаментом и строительным материалом, воздвигло свои форпосты мусульманство, которые не смог одолеть Наполеон; думать о том, как часто великие сооружения древности становятся каменоломнями для последующих поколений, и римские папы из блоков Колизея строят церкви, дворцы и виллы, китайские крестьяне растаскивают великую Стену на ограды и межи, а строители будущего на земле, которую ты недавно покинул, со свойственной им широтой и беспечностью, во имя непроверенной, но обуявшей их идеи, просто динамитом превращают в пыль древние соборы и дворцы.
Странный ход сообщает моим мыслям окружающее городское пространство, оправленное и оплавленное в мусульманские формы мечетей, крыш-куполов, караван-сараев с аркадами вдоль стен: вспоминаю, как в отрочестве мусульманство притекало ко мне двумя образами имени – "Мухаммед" слышался мне как "муха в мед", и все мусульманство представлялось этакой мухой, завязшей в меду тринадцати столетий; но был еще и "Магомет", за ним вставал маг-мечтатель, сокращенно – "маго-мет"; и оба слова так странно вытягивались словно бы дополнительным натяжением тетивы – вместо "мёд" – "мед", вместо "мёт" – "мет", а надо бы "магомет" как водомет, фонтан, мечущий струи в слащавой оазисности гарема с гуриями и полумесяцем на бархатно-синем небе.
"…B двенадцатом веке, при крестоносцах, тысячи эмигрантов из Европы придали городу космополитический характер. Иногда здесь скапливалось столько кораблей, что с палубы на палубу можно было пройти больше расстояния, чем по всему городу. Это был целый город на воде. Итальянские купцы встречались с местными, людьми востока: евреями, христианами, мусульманами. Разговаривали на разных языках, как в Вавилоне… Здесь возник даже местный говор – "язык франков": арабские слова смешались с романскими наречиями Западной Европы. Салах-Эд-Дин отобрал Акко у крестоносцев. Но затем Ричард Львиное Сердце опять захватил его в Третьем крестовом походе…"
Евреи всегда эмигранты, кто-то же сказал, что еврей рождается с чемоданом.
В любых спорах евреи, приехавшие в последние годы из России, делятся на тех, кто за Израиль и кто – против.
Этот – за:
Возьми русских. Славянофилы. Какая у них была любовь, почти физиологическая… к своему быту, к народу, даже к складу ума. А еврей, как двуликий Янус: с одной стороны сильная тяга к своему, еврейскому, с другой – такое же сильное отвращение. Просто ненависть. Как при этом воспитались люди, которые сумели построить Израиль и еще других увлечь, ума не приложу.
…У них были отличные воспитатели: погром, война, Катастрофа.
Перестань тыкать славянофилами. Лучше-ка истории сравни, разных народов. У всех движение, ну, исход, к свободе, а у русских – деспотия, крепостное право, самодержавие и опять, при нас, то же самодержавие. Пекли нас там под прессом. Полуобразованными. Штамповали одним форматом, русских, евреев и прочих чучмеков. Кто мы? Рабы с дипломами, вот кто мы. Свободы ни на зуб не пробовали, потому как с паршивыми пломбами, но с большими апломбами: вырвался, так езжай куда хочешь.
Он несомненно среди них острее всех на язык, этот ревнитель безграничной свободы, но и они держатся на уровне, рабы с дипломами, ныне свободные граждане Израиля, покинувшие Россию.
Ты-то где обитаешь: здесь или там? – это они обращаются ко мне.
Одновременно.
Непонятно.
Слышали, гид говорил, палуба к палубе составляли целый город на воде. Непонятно было, где кончался город, где начинались корабли. Ты стоял на палубе и одновременно как бы на городской площади. И наоборот. Два мира, прошлый и настоящий, впритык, борт к борту. То ли плывешь по суше, то ли шагаешь по воде.
Произнес последние слова и передо мной возникло не видение, а реальность: человек, идущий по воде, вдруг вспыхнул в сознании всей квинтэссенцией иудаизма. Ты можешь совершать невероятное, но истинного не совершишь без поддержки Свыше, той связующей Высшей силы, от которой ты зависишь. Благодаря ей высохший бесплодный Авраам на старости рождает Ицхака. Иудаизм гениально вырывается из клещей язычества, становится над природой, в конечном счете оплодотворив христианство, из трагедии – распятия сына Божьего – из последней тьмы высекает мгновенно высокий свет.
Где-то здесь, на вершине Синая, на поверхности Генисаретского моря нащупывается последняя тайна реальности.
Странные наплывы духа посещают на этой земле.
То, кажется, мельком, коснулся самого ядра тайны, то внезапно накатывает такая отчужденность: жаждешь ее преодолеть, как одолевают болезнь, пытаешься понять, что это за "ситра ахра" – иной мир, иная сторона – виснет ли она на тебе камнем, можно ли слиться с нею до конца, чтобы освободиться, и не в этом ли неотменимость иудаизма, чьи тысячелетние гены – в тебе, и невозможно их вытравить из наследственного кода: он плодотворен и невыносим, обязывает и обессиливает.
Идем вдоль моря, по кромке волн. Я – чуть впереди. Остальные, не перестающие спорить, сзади.
Хотя по последней метеосводке со стороны Европы к нам приближаются грозовые заряды, спирали дождевых туч, лохмы тумана, а на Хермоне даже возможен снег, день пока стоит солнечный, температура – двадцать два градуса тепла, море пасторально, иссиня-голубого цвета, курчавится слабым прибоем у камней, слепит выпуклой до марева далью.
Мужчины на песке играют в шеш-беш, малышка собирает раковины, две "попки" лежат, разговаривая друг с другом, покачивая хвостами волос.
Косо бьет солнце со стороны берега, в лицо, заполняя бескрайнее разомкнутое пространство солнечно-усыпляющей сладкой дымкой, и море, как парное молоко, переливается через камни.
Песок на краю лагун молчалив, светел, погружен в себя.
Огромные ворохи тишины лежат завалами в этом пространстве у моря, завалами созерцания, дремотного ничегонеделания.
Валят в сон.
Отсюда, с кромки моря, дома, пальмы, стены, даже башни – мелки, приземисты, сжаты рядом с огромным морем, расширенным светом слепящего солнца, и потому неохватным.
А вдалеке одинокий, словно бы блуждающий по волнам, грезящий собой – парус…
Удивительное ощущение: гуляют, сидят у моря люди, в одиночку, группами, но даже двое рядом разобщены напрочь грезой, вторгающейся между ними, этим забвенно-шумящим огромным пространством – морем, вечным соперником, третьим, неотменимым.
Иду на север вдоль моря, оно – слева, в левом ухе шумит по-домашнему. Но стоит повернуть голову назад, как в правое ухо, из-за плеча и спины, приходит иное море, отчужденное, шумящее пламенем тысяч горелок. Два шума, два звучания одного моря, как два различных мира, отделяемых друг от друга и сливаемых опять легким поворотом головы.
В раковинах слуха – все море, в изгибах памяти – все прошлое.
* * *
ПЯТИДЕСЯТЫЙ: ОБЪЯВЛЕНА СМЕРТНАЯ КАЗНЬ.
КОЛЕСО ФОРТУНЫ И ГЕРБОВАЯ БУМАГА.
СТИЛЬ ВРЕМЕНИ.
ПРОВИНЦИЯ ПАХНЕТ РИМОМ.
Тринадцатого января пятидесятого, в день, когда мне исполнилось шестнадцать, высочайшим указом в союзе всех республик была объявлена смертная казнь.
В классе гуляла стужа. На переменах мы впадали в отчаянное буйство, прыгали, орали, дрались, пытаясь согреться. Во время урока химичка Юлия Ивановна послала меня за чем-то в учительскую. За столом несколько учителей негромко переговаривались о смертной казни. Навострив уши, я ловил неприятно знакомый, словно бы костяной голос военрука Семен Семеныча Хаита, невысокого, казалось, выточенного из кости человечка в неизменных галифе и сапогах: "…ведут по темному коридору и не знаешь, когда тебе выстрелят в затылок…"
Я шел в класс, школьный коридор был пуст, долог, мрачен, свет – издалека, от входной двери.
Внезапно и отчетливо ощутил ледяное прикосновение ствола к затылку…
В оранжевой проруби раннего заката печально стыли белые шапки крыш, свежий до рези воздух был полон хрустом шагов, где-то выла-плакала собака, и плач неискупимой виной вис над окрестностью, позванивало льдисто ведро в колодце недалеко от дома Андрея, вода была студеной, чистой, дымящейся, подобно юности, чудной и тайной, боящейся оглянуться в завтра, как оглядываются назад и видят холодный блеск смертельного дула.
Я рассказывал Андрею про темный коридор смертников.
Мы гнали от себя мысли, но видения были неотступны.
Что спасало нас?
Наивность ли и молодость в гибельном пространстве – как первобытное незнание дикарей в огромной клетке?
Застойность, отсутствие малейшей тяги.
Заслонка не вынималась, сплошной угарный газ стелился над страной, держа всех в полуживом состоянии, и в глотке свежего воздуха бездумно и радостно ощущалась вся глубина жизни.
На оранжевом закате густо растекался удар медного колокола. Галки, обсевшие карнизы колокольни, сорвались с места, беспорядочно кружась в воздухе обгорелыми хлопьями бумаги: видением погромных пожарищ, погашенных обеспамятевшим северным снегопадом и вновь взвихренных пургой и набатом – черные обрывки священных еврейских книг носились в воздухе.
Вороний грай усиливал неимоверно тоску погружающейся в угарно-дремотную стужу округи.
Впервые, вслед за Андреем, я подошел так близко к церковной ограде. Звонарь на высоте метался черным лохматым вороном, запутавшимся в силках веревок от колоколов и колокольчиков: нежный перезвон меди странной тяжестью давил грудь в эти предсумеречные минуты.
Только однажды, года два назад, влекомый мальчишками, перед всенощной, я мельком увидел внутренности церкви, я тут же сбежал.
Ощущение всегда было таково, что вот, среди по-домашнему знакомого пространства – булыжниковой площади, аптеки, рынка, развалин – как внутри матрешки, упрятано за обычными стенами иное пространство, огромное, высокое, замкнутое, хоральное, с незнакомыми лицами, выписанными на стенах, накладной позолотой иконостаса, запахом горящего ладана, кадильного дыма и хоругвей, в которых невыветривающийся запах вечных похорон, направляющихся по улицам города на кладбище, своим величественным и молчаливым ходом подавляющих гражданские похороны с оркестром военных музыкантов. Церковное отпугивало меня своей тайной и в то же время чрезмерной телесностью; куличи были хлебом, но символизировали плоть.
В сравнении с церковью синагога была местом домашним, но стоило среди кашля и скрипа скамеек раскрыть книгу с нездешними знаками, произнести "Итгадал вэиткадаш шмэ раба", – и без всяких ритуалов и роскошных атрибутов некое дуновение касалось лба, спирало грудь, как бывает под водой, когда ощущаешь последние крупицы воздуха в легких – вся суета окружающей скудной жизни отходила.
Потом ты уже плыл, уставал, начинал сомневаться, но всегда ощущал, что высоты и пропасти духовного Пространства скрыты в этих серых буднях, в резервуарах священных книг, и в самые беспамятные дни жизни через десятилетия предупреждением и тайной поддержкой всплывало продолговатое окно синагоги, неожиданно чистый под самой аркой край стекла, покрытого льдом, и в нем краешек такого голубого, такого забытого неба, что сердце сжималось болью.
Особенно остро церковное воспринималось мною зимой, спиваясь с ранними студеными закатами, снегом, хрустом шагов на морозе, криком галок и колокольным звоном, как будто в этой одновременно угнетающей и влекущей ледяным сном зимней феерии была скрыта сама тайна христианства, его холодный северный лик.
Летом церковь как бы скукоживалась за пылью и тусклым громыханием тележных колес по булыжникам площади и рынка.
Весной, вместе с таянием снегов, запахом гнили, от которого кружилась голова, приходила пасха, мальчишки бегали в церковь на всенощную красть куличи и крашенные яйца, тетки Андрея – Катя и Саша тоже отправлялись, ковыляя, в церковь.
В доме их пахло масляными красками, которыми Андрей наносил на холст портрет Ван-Гога в облике Христа с терниями вокруг головы, а я ковырялся в старой библиотеке Андреевых теток, листал пахнущие прелью времени книги, нашел "Жизнь Иисуса" Эрнеста Ренана с ятями и твердыми знаками, читал взахлеб, упивался нежными, как пастель, пасторально-пасхальными описаниями ландшафтов Палестины – Галилеи, Иудейской пустыни, Иерусалима.
Это щемяще перекликалось со звенящими, как пение жаворонка, любовными строками "Песни Песней", со сладостной тягой весенней ночи и треском последних льдин уходящего по Днестру ледохода за окнами Андреева дома.
Мать Андрея рассказывала об отце, который учился в духовной семинарии, готовился к посвящению, но затем стал летчиком, а теперь сидел в каких-то гиблых застенках: в пасхальные дни он любил слушать духовные песнопения.
Стояла пасхальная ночь, слабое лунное сияние не мешало звездам мерцать, посверкивало на высоких водах реки, легко и забвенно звенящих льдинах.
Андрей провожал меня вдоль берега, я нес, как драгоценность, книгу Ренана, которую дали мне на пару дней, собираясь читать допоздна, взбирался на буфет, доставал из-за карниза завещание бабушкиной сестры, написанное еще в девятнадцатом столетии, которое пролежало там все годы мятежей, войны и мира, всматривался в гербовую пожелтевшую бумагу с ятями, как в сказочный манускрипт, хотя речь в нем шла всего-навсего о распределении между родственниками перин, подушек, золотых и серебрянных ложечек и вилок.
Гербовый лист, искусно выписанная заставка, великолепно тисненный переплет старой книги, редко оброненная фраза по-французски в разговоре Андрея с отцом, – все это ощущалось обломками прошедшего, обладавшего отточенным стилем времени. И несло эти облака стихийным разливом новых времен, напрочь заливающих все беспамятством.
Отцу Андрея даже вменили в вину, что он вообще разговаривал по-французски, ибо что же это означало, как не скрывание опасных мыслей: так понятия девятнадцатого переворачивались и шли на дно в половодье двадцатого – то, что в России считалось достоинством, ныне было преступлением.
Бесстилье дышало гибелью и забвением.
В архивах городской библиотеки, куда меня допускали, как "активного читателя", я отыскивал иллюстрации, вензеля, цветные репродукции под тонко шелестящей папиросной бумагой.
Их накапливалось все больше и больше, уже ощущалось, что материковый девятнадцатый только перекрыло вулканическим пеплом двадцатого, начало которого "серебряным веком" философии, литературы, "мир искусства" особенно выделяло благодушно-подробную, со смесью романтизма и барокко полосу лет в графической вязи Пастернака-отца и Бенуа перед революционным взрывом.
Причудливым рифом проходило это по листам журналов и книг, а вокруг бушевали, налетая на этот остро обозначенный риф, волны бездарного творчества, лишенного всяких приколов массового, взахлеб, энтузиазма с миазмами фальшивого воодушевления, плоских рисунков, примитивных открытий, и это я особенно ощущал, каждый раз открывая единственно сохранившийся после войны том "Вселенная и человечество" из собрания, когда-то приобретенного отцом.
Я знал наизусть, где и что нарисовано: таинственная сила камней и растений, идущая с Востока, ощущалась мною с детства.
Вглядываясь в них, я думал о том, что все же под половодьем беспамятства в череде моей жизни складывается нечто неизменное, что можно будет позже назвать чувством и окраской моего времени жизни, что мельчайшее событие, будь то миг, когда рука сухо-багрового старика подает мне сверток с мацой или звонарь мечется среди веревок и балок колокольни, арест отца Андрея, высылка Фили Ривлина, все это расходится в мир, увязая и увязывая во времени дальнее с ближним.
Особенно это ощущалось в летние вечера, в зарослях над водами Днестра, где мы вели долгие беседы с Андреем, а воды текли мимо в сторону Одессы, Очакова, Черного моря и дальше… в Средиземное.
Вероятно, жизнь у великой проточной воды тайно вкладывает в человеческий характер эту причастность к текучести мира, тягу к далям и тысячелетиям.
Наши дома были окраинными и навсегда вложили в нас тайное ощущение, что за окраиной города или села – край мира: в памяти мгновенно всплывала картинка с человеком, просунувшим голову сквозь скорлупу небесного свода.
Воды реки, наоборот, обнажали тайну открывающегося за излучинами и поворотами – мира.
Слово "провинция" пахло Римом.
"Овидий" был дуновением воздуха, печалью оторванности от рая, так понятного иудейской душе.
Отголосками Рима вставали какие-то холмы на юге Бессарабии, называемые "траяновым валом".
Эти влекущие текучие воды, дальние холмы зелени, погруженные в синевато-алую ауру последних отсветов заходящего солнца, и были моими главными воспитателями.
Приближаясь к текущей воде, я всегда испытывал волнение, ибо в ней как бы таилась моя скрытая связь с дальним миром, последняя серьезность и гибель: она могла нести меня или швырнуть камнем на дно, если я бы не раскрыл тайны плавучести.
Бабушку эти глубины размышлений не интересовали. Я мог купаться голяком, вернуться домой суше ящерицы – неведомым чутьем существа, враждебного водной стихии, по краю трусов она узнавала, что я купался, и ни разу не ошибалась.
Чувствовать себя, как рыба в воде, может существо, более слитое с природой.
Я завидовал бесшабашности товарищей по классу. Мог ли я тогда понять, что я другой, что страх при приближении к воде или наступлении глухих сумерек однажды толкнет меня к листу бумаги, чтобы запечатлеть время жизни, а бесшабашные, как звереныши, исчезнут вместе с собственной юностью, только и останутся мужчины, прижатые к земле плоским существованием и скукой.
Звереныш, слитый с природой, – тоже роль в определенном жизненном ряду: в него лишь вливаются и выпадают, сыграв свою роль.
Какую же я играл и в каком жизненном ряду?
Наперед зная, что своей причастностью к еврейству буду оттеснен к обочинам потока, я уже с тех отроческих лет чувствовал еще смутную, такую цельную прелесть отторженной от потока раковины, лежащей на плоской широко-забвенной отмели, убаюкиваемой то ли рокотом волн, то ли ропотом молитв моих предков, столь же загадочно-влекущим и непонятным, как и набегающие волны, каждой паузой подчеркивающие мою мимолетность и свое бессмертие.
Несомые мимо меня, даже не замечали отброшенной в сторону раковины, некоторые из наиболее шустрых моих соплеменников успевали проскочить в потоке, стереться, быть вышвырнутыми на отмель и бессмысленно оплакивать собственную резвость.
Поток иссякает, слабеет, уходит в песок. Раковины остаются…
Часами одиноко и отрешенно лежу в зарослях над береговым обрывом, не отрывая взгляда от бегущих вод.
То вдруг, несмотря на шестнадцать и наличие паспорта, ношусь, как угорелый, с мальчишками намного младше меня, играю в кости, в лянгу, железным прутом подолгу гоняю ржавое колесо. Ловко останавливаю. Качу в обратную сторону. Подбрасываю.
Может ли кто так управлять колесом Фортуны?
Моей судьбы?
Недолго мне остается, чтобы это узнать, даже увидеть ее равнодушно-жестокое лицо.
А пока день долог, солнце середины лета медленно катится над школьным двором, раскачиваемся на доске, перекинутой через бревно. Неловкое движение. Падаю. Острая боль в локте правой руки.
Что случилось? – испуганно говорит мать, увидев мою бледную физиономию в окно нашего дома, – я предчувствовала…
Вслед за нею плетусь к доктору Бондарю. Маленький, круглый, как шар, с неизменной улыбкой на лице, обеими руками, как бы равнодушно здороваясь, берет меня за руку, внезапно и резко ее поворачивает: кричу не своим голосом, локоть опухает на глазах.
Все в порядке, молодой человек. Обыкновенный вывих. Теперь компрессы.
На целую неделю попадаю под опеку бабушки. Хлопот у нее полон день: каждый час менять компрессы, следить, чтоб я не удрал, строго наказано не двигаться.
На мягком лежать неудобно, постелили на полу, под окном, рядом с буфетом: читать не могу, лежу, уставившись в балясины потолка, на которых играют блики солнца; в маленьком замкнутом вокруг меня мире пахнет смесью спирта и мыла от перевязок, открывающиеся со скрипом кривые рамы окна пропускают свежий воздух, дальние крики мальчишек, пыхтенье речной посудины, испуганную фистулу паровоза, бегущего через мост, вкрадчивые шажки нашего рыжего кота, поводящего усами из-за буфета, отчаянного разбойника и шкодника. Но мы с ним давние друзья. Случилось так, что бабушка, не выдержав его проделок, сговорилась с крестьянкой Марусей из Кицкан, которая у нас часто ночевала: та посадила кота в мешок, увезла за Кицканы и выпустила в поле. Мы с Андреем сбились с ног и прекратили поиски. Прошло более месяца, и однажды ночью разбудил кошачий крик: чуть приоткрыли дверь, как он ворвался, исхудавший, шелудивый, несчастный, забился под буфет, не хотел выходить, ни пить, ни есть, только жаловался. По виноватому лицу бабушки я понял, что случилось.
Ноет вывихнутая рука, лежу навзничь на полу.
Сладкая печаль медленно текущего почти неподвижного времени столбом колышется над головой.
Время измеряется лишь песнями бабушки: ее тонкий голос доносится из кухни, впервые так чисто, на всю жизнь оседает в извилинах моего слуха и памяти, легкой и забвенно-бездумной в эти замершие часы:
Узкая, почти ножевая щель между стеной дома и задней стенкой буфета полна неизменной теменью. Этой темени более пятидесяти лет, и потому, кажется мне, должно в ней таиться нечто необычное и драгоценное: подумать только, две мировые войны, мятежи прокатились над нею, десятки миллионов человеческих жизней исчезли с лица земли, а темень эта постоянна, углублена в себя, самодостаточна, не завидует резным львам на фасаде буфета, чьи прорезающиеся из легенды почти человеческие лица омываются сквозняками, оживляются с восходом и мрачнеют с закатом.
В сосредоточенном безделье, в расслабленно-пустых глубинах сознания – шепотки чьих-то недопроявленных лиц (знаю их, но боюсь проявить до конца, чтобы тем самым не обнаружить и себя как слушателя, следовательно, соучастника).
Шепотки измеряют огромные до забвения пространства.
В эти мгновения, когда я лежу в забытом прохладном углу, а солнце в зените, – ненасытным, как трясина, материком Сибири шевелятся миллионы обреченных-заключенных (виноваты они или нет, об этом и не смею думать, лишь про себя прячу недопроявленно мерцающее лицо отца Андрея), и лишь сторожевые вышки прочно отмечают края этого континента-трясины, который по величине таков, что запросто может поглотить скопом все Европы, и Евразия видится мне тонущим кораблем, чей нос высоко задрался над Атлантическим океаном, а тяжелая корма Сибири погрузилась в глубокие трясины Тихого.
Так изучаемую мной физическую географию обрекают катастрофе кровные ее сестры – политическая и экономическая.
А солнце в зените.
Пятидесятый. Июль.
Недвижно замершая золотая середина двадцатого века.
И мне шестнадцать.
Неужели и свет человечества, Сталин, совершенно вне связи с тонущим континентом, неужели?
Будет, что его не будет?
И не сотрясутся материки, не погрузятся в пучину?
Или Евразия выпрямится, останется на плаву? (Последнее даже не мысль, а так, неуловимое дуновение в извилинах сознания, от которого пытаюсь и вовсе ускользнуть, с трудом перевернувшись на бок, здоровой рукой почесываю за ухом разомлевшего кота.) Но едва ускользнув, проваливаюсь в давно поджидающую меня капканом где-то случайно вычитанную и врезавшуюся в память фразу: "Кладбища полны людьми, без которых мир не мог обойтись".
Странно. Катится жизнь чередой дней. И вдруг – вывих.
Как будто самому времени вывихнуло сустав: потекло по иному руслу, связывая в цепочку необычные, опасные мысли, от которых пытаешься увернуться – вернуться в катящееся листопадом, снегом, ледоходом, пеклом прежнее время и понимаешь, что уже невозможно…
Бабушка вытирает пыль с буфета, подоконника, бабушка требует, чтоб я не давил всем телом на больную руку и немедленно опять перевернулся на спину, тряпкой отгоняет кота. Ее отношение ко мне – в одной фразе – "Золст майне бейнер ыберлейбн" ("чтоб ты пережил мои кости"…). Это ее экзистенциальная правда: меня она любит больше, чем себя, хотя внутренняя ее эгоистичная установка для сохранения жизни такова: "Трайб фун эм арцын" ("Гони от сердца"…), почти святая святых, квинтэссенция медитации и буддизма, о которых, конечно же, она не знает, а я узнаю намного позднее, но в пятьдесят четвертом, когда у меня случится авария с поездом и мама совсем растеряется, остальные будут ко мне внимательны, выполняя самую благородную, но – роль, бабушка будет просто жить моей жизнью, и стремление во что бы то ни стало продлить мне жизнь – в ней будет сильнее, чем во мне самом.
Потом она отпускала меня вэтот огромный, враждебный мир – в Сибирь, Москву, Крым – с такой неохотой отпуская мою руку, не понимая, зачем это надо расставаться, сухонькая и маленькая, с железной волей и единственной нераздумывающей любовью ко мне: в этом русле протекало самое ее сокровенное и жизнестойкое.








