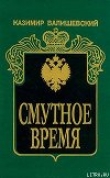Текст книги "Иностранец в Смутное время"
Автор книги: Эдуард Лимонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Спал он плохо. Подушка оказалась слишком высока, и в конце концов он убрал ее. Родители его поднялись еще до рассвета и бродили по квартире, скрипя половицами. Когда они обосновались на кухне и вступили там в продолжительную монотонную беседу, ему удалось заснуть. Проснулся он от того, что по стеклу окна вместе с солнцем прыгала крупная желтогрудая птица. Как может птица прыгать по стеклу? По вертикальной поверхности? Приглядевшись, понял, что птица прыгает по противомоскитной сетке. Матрос встал и поглядел в окно. Увидел белую снежную пустыню. Невзирая на солнце, тень забора внизу была глубинно-синей. Очевидно, было очень холодно. По отрезку неважной дороги в углу окна время от времени проезжали лениво-некрасивые автомобили… Украина. Бывшая степь. Земля казаков, подумал он. Что люди делают тут? Чем живут? Мало того, что его родители обитают в провинциальном городе, так они еще живут в отдаленном «банлье» провинциального города. В самом центре двухмиллионного Харькова проснуться было бы веселее. Хорошо еще вот птица прилетела.
Он пришел на кухню, где горел уже газ. Мать сообщила ему, что она недовольна птицей, испортившей клювом одну сетку и вот теперь портящей вторую. Сын констатировал, что у них с матерью различные позиции. У него эстетическая: «Ах, какие красивые птички!» У его матери крестьянско-практическая: «Подлые птицы, весь урожай на корню склевали!»
Отец, оказывается, уже давно уехал через весь город («Троллейбус, метро, потом опять троллейбус», – сказала мать) на работу. В здании ГООПРОМА, серый каземат рождения тридцатых годов, где помещаются испокон веков харьковские бюрократические учреждения. Сын отказался было от жареной картошки, но под давлением матери все же съел какое-то количество. И выпил, к ее удивлению, несколько больших чашек чая. «Ты чаехлеб!» – сказала мать с осуждением. Он подумал о том, что предпочел бы кофе. И еще с тревогой о хрупком отце своем, путешествующем в этот момент через ледяной город. Никогда не сможет он больше раздражаться на стариков, плетущихся перед ним на узких парижских улочках. И на непарижских улочках.
Мать хотела, чтоб он сидел дома, она боялась, что его увидят соседи. «Ну и что? Положить мне на ваших соседей, – хотел возразить сын, – я в Москве с самым главным «мусором» вашей страны за одним столом сидел!» – но решил не перечить матери. Он объяснил только, что ему следует сегодня же купить обратный билет в Москву. Ему сказали, что уехать из Харькова в Москву непросто. Противореча своему предыдущему пожеланию, мать предложила отправиться вместе в местное агентство предварительной продажи билетов. Там она несколько лет назад покупала билеты на поезд в город, Георгиу-Деж. Они с отцом ездили к бабке Вере. Бабка Вера еще жива, ей 97 лет, а вот тетя Аля, сестра отца, скоро умрет, у нее рак. Мать не была уверена, существует ли еще агентство предварительной продажи, но, в любом, случае, оно находится недалеко, две остановки троллейбусом. И они смогут по пути зайти в магазин. Дома, все есть, но, может быть, они купят еще чего-нибудь. Все-таки сын приехал.
Идти по снежной рабочей окраине с седой женщиной, называя ее «мама», оказалось странным занятием. Большую часть своей жизни Индиана прожил вдали от родителей и вообще от старых людей каждая, новая его жена была моложе предыдущей на целое поколение, потому он не знал, как ему себя вести. Мать сама взяла его под руку. Он подсадил свою мать в троллейбус. Пробил компостером ее и свой билет. Подал ей руку, помогая выйти из троллейбуса. Отвлеченно подумал, что мать его о'кей, вполне живая. Во всяком случае, передвигаться с ней возможно с нормальной скоростью.
Агентство, одноэтажный домик в снегу, оказалось на месте. Ни души не было в совершенно голом зале без единого стула. Или жители микрорайона никуда не ездили, или покупали свои билеты прямо на вокзале. Он попросил у женщины в окошке плацкартный билет до Москвы, и она продала ему плацкартный билет, самое последнее место. «У туалета… – извинилась женщина. – Возьмете место у туалета?» Он кивнул, что возьмет. «Может, на несколько дней позже поедешь?» – сказала мать, глядя на то, как женщина за стеклом жмет на клавиши, выстукивая ему билет. «Не могу, мама…» Уже шагая с матерью по снежной пустыне в магазин, он вдруг спросил себя, почему он купил билет в голый плацкартный вагон, соответствующий третьему классу, имея в кармане пачку денег, плюс по возвращении в Москву ему должны были выдать еще пачку? Он спросил об этом у матери. «Привычка, наверное, – сказала мать. – Ты себе нелегкую дорогу выбрал, всегда бедным был… вот и привык. Да и сейчас, что у тебя есть? Ты мне сам писал, что в очень холодной и маленькой квартире живешь… Денег, если станут платить еще за публикации, нам больше не переводи, тебе деньги нужнее, себе возьми».
«Мама, рубли не меняют на франки. Рубли для меня бесполезны».
«Как же так, сын… что ж, наши деньги, выходит, хуже других, раз ничего не стоят?»
«Стоят, мам, но вы же не члены Монетарного фонда, или какой там организм ответствен за все валюты на планете… я забыл».
«Когда-то у нас не было денег, – сказала мать, – а теперь есть, а что с ними делать? – Мать вздохнула. – Давай я куплю тебе пальто? В нашем универмаге очень хорошие пальто есть. Или возьми отцовское. Ему все равно не сносить… кому останутся?»
«Мама… пожалуйста?» Мать поправила на нем шарф, и они зашагали дальше.
Они посетили два продовольственных магазина. Оба были полны продуктов питания, однако непривычно грубых и страшных на вид. Еда была не расфасована аккуратно в пластиковые пакеты мелкими порциями (такой покупал еду Индиана на рю Сент-Антуан в супермаркете «Монопри»), но лежала на виду в единицах, в которых ее создала природа. Маслянистые копченые рыбины лежали глыбами в эмалированных тазах за стеклом витрин и поверх их, прямо на уровне глаз покупателей, ничем не покрытые, распространяя крепкие запахи. В соседних тазах лежали в соленых растворах соленые рыбины. Глыбы маргарина и масла. Хлеб, твердый и тяжелый, грубыми шершавыми буханками-головами возлежал на полках отдела самообслуживания. Мать нажала на несколько хлебов пальцем. То же самое она проделала с булками. Палец матери, заметил сын, в булки не углубился. «Возьмем булочек? Кажется, они не очень свежие, но они редко бывают.» Сын согласился: «Возьмем».
Мать приобрела целых два кило колбасы, широкой, как труба канализации. «У них сегодня есть корейка. И вполне хорошая. Всего шесть рублей килограмм. Кооперативная. Возьмем пару кусков, сын? Она тебе нравится?» Розово-белая корейка, то есть ветчина, подобно рыбам, лежала в нескольких тазах, поставленных поверх витрины. Покупатели, немногочисленные, указывали на понравившийся им кусок, и бабища в халате взвешивала и объявляла цену. Далее покупатель шел в кассу и платил. С «чеком», выбитым (так и говорили – «выбить чек») в кассе, покупатель возвращался к прилавку и забирал продукт в обмен на «чек». Мать с сыном купили два куска корейки. Сына обидело то обстоятельство, что мать, называя кассиршу и продавщицу по имени и обменявшись с ними приятельскими фразами, не сочла нужным представить им сына. Мать стесняется заграничного блудного сына? Матрос подумал грустно, что, возможно, мать будет стесняться его всегда. Вместо того, чтобы гордиться им. Советская психология особая. Народный коллектив настолько подавил саму идею индивидуума, что «быть как все» есть удовольствие, преобладающее над удовольствием быть умнее, талантливее, изобретательнее других. Мать стесняется, что он не такой, как все здесь – к такому горькому выводу он пришел. Он вспомнил, как, увидев впервые его красивую московскую жену, мать сказала: «Она слишком красива для тебя, сын!» Мать так никогда и не смирилась с тем, что сын ее «слишком».
«Скупившись», мать с сыном пошли, снег поскрипывал под подошвами, домой. Прохожие были редки в холодном поле. Хозяйничал здесь ветер.
«Хорошо, когда сын сумки несет», – сказала мать весело.
«Почему они так неумно разогнали поселок, а, мам? Один дом от другого на сотни метров отстоит. Как в поле живете…»
«Летом зелено, хорошо очень», – сказала мать.
«Печатать меня теперь будут все чаще, раз начали… Давайте я вам квартиру на эти деньги куплю. Если в Москве не хотите, то хоть в центре Харькова, а? А эту продадите».
«Не хотим мы в центр. В центре с едой хуже. У нас магазины хорошие. Да и шумно в городе. К тому же нам недолго осталось жить, чего суетиться-то…»
На подобный аргумент у матроса не нашлось возражений.
Они сели в кухне. Сын выпил рюмку коньяка. У матери, отметил сын, по-прежнему очень чисто в квартире, и в кухне тоже. Мать всегда гордилась своей опрятностью. «Люди мне говорят, у вас как у немки в доме!» Возраст обитателей квартиры, подумал сын, заметнее всего в ванной комнате: там он обнаружил массу ненужных молодым, но абсолютно необходимых старым людям тряпочек, мочалок, ковриков, резиновую грушу. «Помнишь ее? – Мать держала в руках склепанный из алюминия странный сосуд с двумя ручками. – Когда ты был маленький, я в этой кастрюльке кашу тебе варила». Он помнил. Сосуд этот мелькал через все его детство, появляясь, всегда нужный, наполненный то горячей картошкой, то котлетами. «Моя самая первая кастрюлька, – сказала мать гордо. – Еще до войны мне ее один татарин в Казани склепал. Когда я к твоему отцу перебралась жить, эта кастрюля была моим единственным приданым. Я берегу ее, но все равно варю в ней иногда. Ей ничего от времени не сделалось. Потому что тогда люди умели работать по металлу. Видишь, вся из обрезков склепана, а никогда не протекала. Сейчас кастрюли не те. Большую купила, эмалированную, так на ней эмаль через месяц уже полопалась. Народ стал злой, нехороший, потому и работают лишь бы как… Ты знаешь, сын, – мать наклонилась к нему и прошептала, – так много плохих людей появилось… так много! Раньше-то они боялись власти, а теперь не боятся. Опасно стало жить. Я раньше в парк, тут у нас рядом, любила гулять ходить. Теперь не хожу, боюсь. Парня у нас там повесили прошлым летом. Ты где ходить будешь, в Москве или у нас, так ты языком-то не трепи, не говори, что ты за границей живешь… Плохие люди узнают, не дай Бог. Я никому соседям не скажу, что ты приехал, не хочу. Убийств полно вокруг, грабежей, за три рубля готовы жизнь загубить некоторые…»
«С соседями-то дружите?» – спросил сын. Желая отвлечь мать от ее страхов.
«Да и с кем тут дружить, сын? Они все деревенские! Была одна соседка твоего возраста, все ко мне книжки ходила брать почитать. Нина такая. Но они переехали, дети у них выросли, отдельно ушли жить, так они с мужем квартиру сменили, поближе к старшему сыну теперь живут… – Мать вдруг испуганно посмотрела из сына и моргнула. – Надо же… мне в голову сейчас пришло, что у тебя такие дети, как у Нины, уже могли быть. И внуки. У Кольки вон, а он тебя на год моложе, Алеша, внук, ему шесть лет уже!»
Сын понял, что ему придется работать дипломатом, уходить от скользких тем часто. Алеша мог привести их к отсутствию внуков в их семье и к теме смерти.
«А что же вы, мам, опять среди деревенских поселились?»
«Дешевые потому что квартиры были в этом кооперативу. Наша четыре тыщи всего и стоила. Сейчас таких квартир вообще нет».
«На Салтовке у тебя столько подруг было. Все время, помню, ходили к нам, то за советом, то за книгой, то блузку выкроить, то рецепт пирога получить…»
«На Салтовке я молодая была. В молодом возрасте приобрести подруг ничего не стоит. Сейчас я старая. Куда мне с подругами…»
Мать слегка шмыгнула носом. Сын подумал, что это жалобное, совсем детское движение, да на мгновение влажные глаза на остающемся энергичном лице, – единственные слабости его матери. Мать его оказалась крепкой женщиной. Он не ошибся, правильно изобразил расстановку сил в своей семье в повести, которую мать, слава Богу, еще не читала.
«Но вы уж тут давно живете. Я еще в Москве был, когда вы переехали…»
«Двадцать два года живем. Уже крышу пять раз перекрывали… Первые пятнадцать лет мы сами крышу над нашей квартирой смолили, а последние два раза уж побоялись по крыше бродить в нашем возрасте. Ребятки молодые нам крыли. Я их каждый день обедом кормила. Поставлю все на столе, накрою на троих, трое их было, на лестницу влезу, голову на крышу выставлю: идите, говорю, садитесь кушать! А они стесняются – да мы в смоле, говорят, грязные мы… Я говорю: не стесняйтесь, что в смоле, обувь только снимите… Они сядут, а я гляжу, как они с аппетитом едят, ты ведь тоже всегда ел с аппетитом, и плачу. Чего, говорят, вы плачете? Ой, сын у меня, отвечаю, в чужих землях где-то бродит. Вот и его кто-нибудь, надеюсь, накормит в чужой земле…» – глаза матери набухли слезами.
«Они вам только, что ли, крышу крыли?»
«Почему ж нам только… Всему дому…» – мать шмыгнула носом.
«Ну ты не плачь, мам!» – сын несмело погладил мать по плечу. Он не научился как следует обращаться с матерью. У него было мало опыта. Защекотало в глазах. Из затруднительного положения его вывел телефонный звонок. Мать вышла.
«Да… а… но откуда вы… наш телефон…»
Сын перестал прислушиваться и прибавил громкость у маленького радио, прикрытого кружевной салфеткой на подоконнике.
«…мои хозяева, господа Цангль – телефонистка по профессии, зарплата восемьсот марок, ее муж – мастер на фабрике прессов, две тысячи двести марок, дочь Изабелла закончила школу и теперь получает шестьсот марок в месяц, двести рублей по официальному курсу… При этом надо учитывать, что модные колготки стоят одну марку, джинсы – от двадцати пяти до сорока пяти марок…»
Шипучий, колючий и хрипучий голос радио был определенно знаком Индиане,
«…обувь самая модная, до ста марок, полкило ОТМЕННОЙ колбасы – четыре марки, сыра – две и восемь десятых марки…»
СОЛЕНОВ! Ну конечно, Соленов рассказывает о своей жизни в Германии. Раз речь идет о марках.
«Да, и безработные есть, и социальные конфликты имеют место быть, я не закрываю глаза на негативные явления на Западе, – сказал Соленов, как бы увидев, что подключился новый слушатель, иностранец Индиана. – ОДНАКО! – голос Соленова патетически взвился вверх, – семья Цангль каждый год проводит две недели отпуска за границей: на Канарских островах, в Греции, Испании или Марокко. Стоимость такого путешествия три тыщи пятьсот пятьдесят марок, включая и билеты на самолет. Я спросил фрау Цангль, сколько месяцев им приходится копить деньги для такого рода путешествия. Сорок дней, ответила она».
Если народ уже привиделся Индиане в виде слепого могучего ЧУДОВИЩА, то голос его благодетеля и друга СОЛЕНОВА послышался ему впервые голосом хриплого БЕСА, обещающим колбасы и колготки в обмен на души. «Хэй, Пахан, – обратился Индиана к радио, – социолог хуев…»
«Ты что, сам с собой разговариваешь, сын?» – спросила мать входя.
«С радио, мама, – он убавил громкость, – дискутирую».
«Никогда не угадаешь, кто сейчас позвонил. Роза, та, что в киоске на Красноармейской сидела. Она прочла твою повесть в журнале, очень тронута, что ты ее так хорошо описал… Я на всякий случай не сказала ей, что ты приехал. Вдруг наш телефон прослушивают… Надо же, телефон нашла. Я ее лет тридцать не видела… – Лицо у матери, отметил сын, растерянное. – Что же ты повесть нам не послал? Она мне рассказывает, а я слушаю, как дура, не понимая, о чем речь идет».
«Я думал, журнал вам вышлют. Догадаются, – соврал он. – Или, думал, вы сами журнал купите».
«Ха, купите! У нас в Харькове периодику в один день разметают».
Мать села. Тотчас встала и начала мыть посуду тряпкой. «Тридцать лет мы ей не нужны были, а тут сама нас нашла и телефон сумела вот достать. Теперь, когда сын наш знаменитым становится… Пожалуйста, нужны мы ей оказались…» – в голосе матери явственно прозвучала обида.
«Литература, мама, имеет у вас тут до сих пор еще ненормальное влияние на граждан».
«Да, – согласилась мать грустно. – А мы, значит, с отцом никому не нужны, раз литературы не пишем».
И опять у матроса не нашлось возражений.
3Он решил пережить полагающийся ему в Харькове срок, как заключенный в тюрьме, вычеркивая ежевечерне прожитый день. По его просьбе мать отыскала ему его старые гантели, и он стал заниматься поднятием тяжестей дважды в сутки. Наблюдая за ним, полуголым, приседающим с железом, мать сказала: «А ты молодец. Молодой совсем. Отчего отец твой вдруг так состарился? Я ведь ненамного моложе его. Может быть, потому что он никогда физическим трудом не занимался? Я думаю, он помрет скоро…»
«Мама! – остановил он ее. – Как можно такое?..»
«Так это правда! – воскликнула мать, пожала плечами и ушла в кухню. – Есть будешь?»
«Иди кушать!», «Поедим?», «Почему ты не ешь?» были наиболее употребительными фразами в квартире сорок четыре. Вопреки утверждениям французской печати о нехватке питания в Союзе Советских квартира была забита постоянно обновляемыми припасами. Мешочки с крупами на подоконниках, банки с маринадами и вареньями под кроватями. Одного только сахара имелось в доме 30 килограммов. Увидев, что мать выгребла из хлебного ящика нетронутые сухие буханки и открыла крышку мусорного бака, намереваясь выбросить туда хлеб, сын остановил ее: «Что ты делаешь? Не ты ли учила меня, что выбрасывать хлеб в мусор – кощунство и преступление».
«Преступление, – легко согласилась мать. – Но я часто болею. Потому я покупаю хлеб вперед, пару буханок, «а случай, если вдруг слягу».
«А отец?»
«Твой отец, от него толку мало. Он колбасы может купить, яичницу может сжарить, если уж прижмет, но всегда покупает не те продукты, а то, что легче купить, за чем стоять не надо».
«Разбрасываетесь вы тут, – сказал сын. – Газ вот у вас всегда горит. Ведь отопление есть, батареи горячие».
«У всех так, – мать повернулась к нему, в руке тарелка, – все подтапливают газом. А у вас во Франции что, не так?»
«Ха, мам, у нас везде счетчики газа установлены. Чем больше сожжешь, тем больше заплатишь. Если б я, как вы, газ жег, мне бы тысячи каждый месяц пришлось платить».
«Это у вас государство такое жадное? – удивилась мать. – Что ж газ-то считать? Мы каждый месяц три рубля платим. Правда, у нас горбачевские мудрецы хотят тоже как у вас сделать. Телефон вот, уже предложение внесли, за каждый телефонный звонок чтоб люди платили. В зависимости от длительности. Раньше только за междугородные так платили».
Как-то вечером, было едва ли шесть часов, но по тюремному расписанию казалось, что поздний вечер, раздался телефонный звонок. Взяв трубку, мать сделалась суровой. С каменным лицом мать побеседовала с кем-то и, положив трубку, поглядела на сына с вызовом. «Я сказала ему, что тебя нет. Что ты не приезжал». – «Кому ему, мам?» – «Псевдодругу твоему Чурилову. Это он звонил… Ему сообщил сплетник какой-то московский, что ты был в Москве, но из отеля исчез. Наверное, мол, он, то есть ты, в Харькове находится. А я ему на «Вы» и официально: «Нет, вы ошиблись, Борис, у вас неверная информация. Нет его тут». Вот так!»
Отец с кресла поддержал мать: «Не любим мы его, что тут поделаешь. Все за то, что никогда не пришел он к нам о тебе рассказать».
«Вы уже упоминали об этом, – сын вздохнул. – Только вы зря на него. Я многим обязан Борьке, я к нему книжки смотреть ходил по искусству, он единственный был в поселке интеллигентный человек, пусть и рабочий. Он меня от шпаны пытался оттащить…»
«Плохой, плохой он человек, – сказала мать убежденно. – Он заикаться стал, извиняться, что не заходит. Мол, работа, жена, дети… Работает он дома, а зайти к нам, так он рядом, в соседнем микрорайоне, живет, тут пешком десять минут. Восемь лет прошло, как он в Париже тебя видел. И за восемь лет времени не было! Я обижусь на тебя, сын, если ты с ним встретишься!»
Матрос не судил бывшего друга за то, что тот не навещает его родителей. Плохой сын, он не имел права судить плохого друга. Но, пожелав быть хотя бы на неделю хорошим сыном, он пообещал матери, что не станет встречаться с Чуриловым.
Он решил не встречаться ни с кем, посвятить этот приезд родителям. И встречаться, впрочем, мало с кем хотелось. С Чуриловым хотелось, но впервые в жизни он решил послушаться родителей.
Дав себе слово не видеть бывших друзей, он не отказал себе во встрече с городом. Расспросив у матери в самых общих чертах о топографии микрорайона, он совершил первую пробную прогулку к метро. По морозным белым плоскостям, никого ни о чем не спрашивая, он добрался, куда хотел. Тридцать пять минут туда, тридцать обратно, ничего интересного, снег и здания из белого кирпича и серого бетона в снегу. Мороз нащипал ему уши и нос, но грудь не заболела.
На следующий день троллейбусом, затем в неприлично огромном метро (в его времена метро еще не существовало) добрался он до центра, до Советской площади. Ранее она называлась Тевелева. Чем провинился покойный Тевелев, чем заслужил немилость, осталось ему неизвестным, так как матрос об этом никого не спросил, не желая показаться подозрительным. Снег валил в этот день с неба на город и на блудного сына и тотчас же выбелил бушлат и «капитанку». В центре площади, там юный Индиана-книгоноша торговал книгами с раскладных столов, возвышался новый мускулистый монумент из гранита, нескольких темных тел. Дома номер 19, где он жил зеленым юношей с Анной и с тешей, не оказалось. Исчез. На его месте располагались густо-розового гранита плоскости, должно быть, нечто символизируя. Однако кирпичная крепость, когда-то здание ломбарда, краснела сквозь метель. Между первой и второй дверью ломбарда он как-то раз совокупился с Анной. Он обошел крепость и по нескольким ступеням поднялся к историческому месту своей юной любви. Двери были крест-накрест заколочены серыми толстыми досками. Однако самый низ дверей чернел дырою, из дыры вывалился грязный сырой мусор и в обилии экскременты, собачьи или человечьи, было непонятно.
Опустив голову, заснеженный матрос пересек Рымарскую улицу и зашел во двор Исторического музея. Оба танка оказались на месте. Они нисколько не постарели, ни Т-34, первым вошедший в Харьков в 1943 году, ни английский – ровесник его отца. Он потрогал шершавую клепаную кожу английского танка и покинул двор. Сбив капитанкой снег с бушлата, пошел на Сумскую улицу. Ресторан «Театральный» теперь назывался «Фруктовый бар» и был закрыт. В 1964 г. в «Театральном» пел для харьковских воров блатные песни гомосексуалист Авдеев, тип с темными кругами под глазами, вечно подкуренный «анашой». Авдеев часто останавливал его, пьяного юного поэта, бредущего, покачиваясь, ночью домой, и полувшутку, полувсерьез пытался его соблазнить. «Зачем тебе твоя сумасшедшая женщина, а? Будешь жить с интеллигентным человеком…» Еще в Америке Индиане сообщили, что Авдеева зверски убил любовник…
Ресторан «Люкс» назывался теперь просто «Ресторан» и был закрыт по «техническим причинам». Сумская была разрыта во многих местах. Некоторые дома были снесены, но за заборами никто не работал. Протолкавшись сквозь негустую толпу на Театральной площади к забору, он обнаружил среди сотен объявлений ничем не примечательное, но красными чернилами написанное от руки: «Встреча с депутатами Коротичем и Евтушенко». Оказалось, оба поэта – депутаты от Харькова. Индиана хмыкнул, представив себе, что останься он здесь – он тоже, может быть, был бы депутатом этого города. Какую политику преследовал бы депутат Индиана на поколение младше депутатов К. и Е.?
Матрос разглядывал прохожих. Упитанные. В хороших шапках, в пальто с меховыми воротниками. Каменные выражения лиц. Большие женщины. Большие мужчины. Крутые люди. Никто не улыбается. В отличие от московских прохожих харьковские более стабильны, непроницаемые украинцы. В сравнении с прохожими на Сумской средний житель «Европы двенадцати» будет выглядеть женственным пэдэ.
Он не вошел в магазин, где сам некогда работал. Некоторое время поколебался, войти ли ему в книжный магазин, где работала Анна. Вошел. Сюда привел его впервые Чурилов и познакомил с Анной…
Магазин показался матросу крошечным. Несколько покупателей. Книги в обложках грязных цветов. Грязная вода на каменном полу. Ситцевая занавеска прикрывает вход в подсобку. И здесь, Индиана улыбнулся, в подсобке он совокупился с подругой, за занавеской бродили тогда, как сейчас, несколько покупателей. Только было лето. В магазине находились две продавщицы. Одна, очень похожая на Анну, что-то чертила, сидя за столом в углу. Матрос взял в руки наугад книгу, и, листая ее, стал наблюдать за «Анной». Она или не она? Трезвая, резонно не замедлив, вдруг явилась мысль, что настоящая Анна должно быть на четверть века старше девушки за столом. Он ищет те, юные лица. А следует искать морщинистые… Он стал наблюдать за кассиршей. Сквозь слой времени, он, впрочем, не был уверен – множество директрис могли смениться у книжного магазина за четверть века, проступали, кажется, знакомые черты некрасивой девушки. «Ну я закончила, Света», – сказала из своего угла «Анна» и встала из-за стола. Матрос получил подтверждение. Она! И в 1964 году директрисой магазина была Светлана. Он пристально посмотрел на нее. «Света» остановилась на нем взглядом, как бы припоминая. Отворив стеклянные, в железной оправе двери, он вышел в снег. Неузнанный.
Он постоял в заваленном снегом парке у глупого бетонного фонтана, пышно именуемого «Зеркальной струей», присел на заснеженную скамью, где некогда собирались они – «богема» рабочего города. И устроил друзьям перекличку. Сам называл фамилию, сам откликался. «Поэт Беседин? Покончил с собой – перерезал вены. Поэт Видченко? Повесился. Мелихов? Отсидел девять лет в тюрьме. Милославский? Живет в Израиле. Писатель. Публикуется во французском издательстве «Актэ Зюд». Художник Бахчанян? Живет в Нью-Йорке. Поэт Мотрич? По имеющимся сведениям, спился. В последний раз видели на костылях в Харькове. Актер Миркин? Застрелен в Москве, в споре, последовавшем после карточной игры. Художник Кучуков? Живет в Нью-Йорке. Анна Рубинштэйн? Кочует из шиздома в шиздом…» Он встал и пошел под все усиливающимся снегопадом в «Закусочную-автомат», где считалось модным пить кофе в шестидесятые годы.
Пробужденное к жизни перестройкой чувство национальной гордости заставило отцов города переименовать «Автомат» в «Кафе Харкив'янка». Матрос поморщился. В длинной кишке «Харкив'янки» было мокро. Горы жирных сладостей были навалены на прилавках и лежали в витринах. Клиентура сменилась. Уже не изящные юные декаденты и разбитные фарцовщики смаковали кофе, продукт венгерских кофейных машин, но пожирал жирное тесто народ. Среди других два краснолицых милиционера в тулупах… Матрос не увидел знакомых лиц, есть ему не хотелось, его толкнули в колено детской коляской, и он покинул кишку, которая слышала столько пылких споров об искусстве! Венгерские элегантные машины исчезли, должно быть, были выброшены, старые и больные, вон… Повсюду варили дымящиеся варева отечественные вместительные баки…
Он зашел и в старый заснеженный двор, где состоялось в 1965 году мероприятие, пышно названное устроителями «Выставка левого искусства». По-прежнему уходили в небо старые, цвета сырой конины стены. Снег замел, возможно уже неупотребляемый, но все тот же публичный туалет. Здесь, стоя на пригорке спиной к туалету, совсем юный Индиана прочел свои стихи публично.
Он дошел до центральной площади города, имени Дзержинского. Монументальное, с колоннами, тело здания обкома партии символично пересекла сильная трещина, стянутая металлическими скобами.
Дальше в ту сторону города он не пошел, но вернулся на Советскую площадь (язык привычно желал сказать Тевелева) и оттуда прошел к «своей» трамвайной остановке. Дело в том, что здесь он обычно садился на двадцать четвертую марку. Трамваи в Харькове загадочно и оригинально (как автомобили?) называли марками. Двадцать четвертая шла на Салтовский поселок. Он сходил обыкновенно на остановке «Стахановский клуб». Зная путь, можно было через несколько минут дошагать до «дома». Именно там, на Поперечной, всегда будут жить для него его родители, там, где жил с ними множество лет он сам. «Дом» – там.
Остановка существовала. Все так же жались к стенам дома замерзшие кучки пассажиров. Трамваи все подходили с другими марками, и он не пожелал спросить новых жителей его города, куда делась его двадцать четвертая. Он подумал, что путешествие на Салтовский поселок займет у него массу времени, мать будет волноваться. Одновременно он просматривал за якобы убедительной причиной другую, тайную, а именно – нежелание трогать дремлющие в самой глубине сознания воспоминания о Салтовке. Он посмотрел в заснеженную даль в направлении Салтовки как мог пристально и ушел с трамвайной остановки.
Матрос, плененный прошлым, переживал кое-как длинные дни. Дни состояли из четырех принятий пищи, физических упражнений, разветвленных, как колючая проволока, – разговоров с матерью. За окнами валил снег. Самое разрушительное в мире советское телевидение вещало с мазохистским удовольствием о несчастьях и проблемах под аккомпанемент сладкой музыки. На двух языках, русском и украинском. Он совершал прогулки по снежным полям, к метро и обратно. Повсюду на матроса глядели настороженные глаза на мощных лицах. В конце дня, лежа в постели, он заносил в тетрадь впечатления на английском.
Случались Мелкие происшествия, вызванные к жизни публикацией его повести в краснознаменном журнале. Позвонил вдруг классный руководитель Индианы и попросил его мать, чтоб Индиана достал за границей лекарство для его парализованной дочери. Мать не позволила Индиане говорить с классным руководителем, а если бы позволила, Индиана наговорил бы немало. Злость Индианы на фашиста, избивавшего ребят в физическом кабинете, не охладилась всеми этими годами… Позвонила вдруг двоюродная сестра Индианы, он в жизни не видел эту женщину. Из далекого города на Волге. И мать дала ему возможность поговорить с живым родственником. «Здравствуйте, сестра!» – сказал Индиана. Сестра звучала вполне хорошо и не обиделась на то, что двоюродный брат предположил в повести, что сестра уже, наверное, старая и толстая. «Я не толстая…» – сказала она. – «Может быть, вы пригласите меня как-нибудь в Париж?» – «Может быть, отчего нет», – сказал брат, вовсе однако в ни в чем этом не уверенный.
Мать сопроводила звонок двоюродной сестры грустным комментарием: «Она никогда нам не звонила. Никогда! А тут, пожалуйста, и телефон немедленно нашла… И твой классный руководитель нам никогда не звонил. А тут сына печатать стали… и пожалуйста, наш телефон популярным сделался. Какие люди сволочи, сын?» У сына было что рассказать матери на заданную тему, но он ограничился тем, что кивнул, соглашаясь. И ушел в мороз к метро, как узник нетерпеливый приближается каждый день к двери, через которую он намеревается убежать.