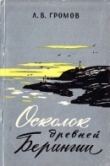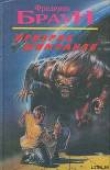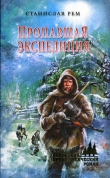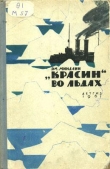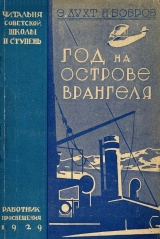
Текст книги "Год на острове Врангеля. Северная воздушная экспедиция"
Автор книги: Эдуард Лухт
Соавторы: Николай Бобров
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Под угрозой зимовки
От Медвежьих островов до пролива Дмитрия Лаптева «Колыма» шла целых десять суток. Частые встречи со льдами тормозили движение парохода. Условия плавания осложнялись еще частыми густыми туманами с мелким дождем, при которых дальше полумили ничего не было видно. При такой погоде совершенно невозможно было пароходу выбирать путь среди льда, вследствие чего, пережидая туман, «Колыма» несколько раз становилась на якорь. При прояснении тумана было видно, что дальше от берега в море, за разбитым льдом, среди которого продвигался пароход, держится сплоченный тяжелый лед.
Медвежьи острова состоят из четырех островков. Мы имели намерение обойти их с севера. При прежних экспедициях был обследован только один проход между южными и двумя северными из этих островков, но на север этим проходом нам проскочить не удалось.
Мы вернулись назад и попытались пройти около самого южного Крестовского острова, но здесь было так мелко, что каждую минуту приходилось промерять глубину.
И все же нас ждала неудача. Пройдя 50 миль, мы опять встретили сплошной лед. Пришлось снова возвратиться.
Трудно рассказать, что испытывают моряки во время такого плавания, тем более моряки «Колымы».
Шли дни. Начинался август, а «Колыма» все еще не могла попасть к устью реки Лены. Опасность застрять во льдах на обратном пути во Владивосток становилась все реальнее и возможнее.
А зимовка во льдах – опасная вещь. Не все переживают ее, и мысль о том, что именно он станет жертвой возможной зимовки, пугала каждого из нас.
Однако внешне все было спокойно. Таким же уверенным тоном отдавал свои приказания капитан, так же бодро отвечала ему команда традиционным морским восклицанием: «Есть!»
Вынужденную остановку использовали для пополнения запасов пресной воды. Воду брали из большой лужи на льдине, образовавшейся от таяния и дождей, и перекачивали прямо по шлангу на «Колыму».
Через полтора суток лед у материка тронулся, и наш пароход снова пошел вперед. С его движением снова ожило общество в кают-компании, послышались веселые шутки и смех.
Отсутствие льдов в этом районе наш капитал объяснил влиянием массы теплой воды, вливающейся в океан из мощных рек Сибири – Лены и Яны.
Сделав всего лишь одну двадцатидвухчасовую остановку, мы дошли до Ново-Сибирских островов, прошли пролив Дмитрия Лаптева и после ряда небольших на этот раз остановок в 7 часов вечера 5 августа прибыли в бухту Тикси в дельте реки Лены.
Здесь нас должен был ожидать Ленский караван в составе парохода «Лена»[18]18
Пароход «Лена» – плавает 52 года – участник мировой экспедиции Норденшельда (на участке устье Лены – мыс Дежнева) на «Веге».
[Закрыть] и нескольких барж, но его еще не было.
Наш капитан, опасавшийся застрять на обратном пути во льдах, на другой же день приказал начать разгрузку товаров, привезенных нами для Якутии, на остров Бруснева, лежащий в дельте.
Мы же с Кошелевым должны были сделать далекую разведку вверх по реке Лене и постараться найти непришедший во-время караван.
Спустили два кунгаса, потом самолет «Юнкерс», катер и шлюпку. На другой день мы собрали «Савойю», пробовали ее в воздухе и отправились в разведку.
Пролетев 60 миль над Быковскими притоками Лены, я не обнаружил каравана и, заметив селение Быково, сделал посадку.

Остров Столбовой в устье реки Лены – место встречи самолета Э. М. Лухта с Ленским караваном
Встреча с «Полярной Звездой»
Селение Быково состоит из туземцев и только одного русского – бывшего сибирского партизана. Мы отбивались от собак, когда он вместе с двумя жителями вышел нам навстречу.
Все остальные туземцы убежали, услышав рев мотора «Савойи». Мы зашли к нему в избу отдохнуть и погреться. Он рассказал нам, что за мысом Быковского протока стоит парусно-моторная лодка «Полярная Звезда», а пароход «Лена» будто бы направился к острову Столбовому на погрузку рыбы.
Через час мы вылетели и скоро были над «Полярной Звездой». Сделав над ней несколько кругов, я убедился, что посадка почти невозможна: борта шхуны заливались высокими волнами весьма значительных размеров. Но с палубы «Полярной Звезды» так усердно махали платками и звали нас, что я все же решил сесть.
Сверх ожидания посадка прошла удачно, не считая разве того, что все мы были залиты водой.
Оказалось, что «Полярная Звезда», по заданию Комиссии Академии Наук по изучению Якутской АССР, отправляется в пролив Дмитрия Лаптева для выбора места установки метеорологической и радио-станций на острове Ближнем. Шкуна имела на борту научных работников, зимовавших в бухте Тикси. Мы провели на шкуне целый час и оттуда вылетели на «Колыму».
Подлетая к пароходу, мы заметили сверху, как от него вдруг отделилась серая точка и быстро поплыла в сторону. – «Сорвало «Юнкерс», – догадались мы.
Мы увидели, как вслед за самолетом погнался катер, но почему-то остановился и пошел назад.
Подлетев поближе, мы поняли, в чем дело: внизу, под водой, простиралась длинная каменная гряда, отлично видимая нами сверху. Катер не мог пройти через нее. Немного погодя, от «Колымы» отделилась и пошла вдогонку за самолетом весельная шлюпка-
Дальнейшее мы уже наблюдали с борта «Колымы», после посадки.
Шлюпка только через два часа поймала сорванный с якоря самолет. При обратной буксировке Кошелеву, Побежимову и нескольким морякам с «Колымы» пришлось тащить самолет по мелководью, идя по колено в ледяной воде.
Измученные, полузамерзшие от сильного ледяного ветра, вернулись они обратно на борт «Колымы», но самолет был спасен.
Через несколько часов к «Колыме» пришла и «Полярная Звезда» за приемкой разных припасов, необходимых дли зимовки научных работников на острове Ближнем. После приемки люди, отправлявшиеся на далекий север, трогательно простились с нами, и вскоре «Полярная Звезда» исчезла в далеких туманных скоплениях, стоящих на горизонте.
Мы стояли на палубе «Колымы» и мысленно посылали привет смелым полярным исследователям.
На другой день сборка «Юнкерса» была закончена и состоялась проба самолета в воздухе.

Суда Ленского каравана, на которые были перегружены с «Колымы» машины для Якутской АССР
Мы находим Ленский караван
Все время сборки стояла дождливая и туманная погода, но восьмого августа небо прояснилось, и мы назначили отлет.
Мы пожелали удачного пути команде «Колымы» и стали готовиться в путь над тайгой и почти безлюдными местностями Сибири.
Для облегчения самолетов выбросили из них все, без чего можно было обойтись, например, даже сиденья в «Юнкерсе», загрузив оба самолета предельным количеством бензина.
По плану «Юнкерс» должен был прямо лететь в самый северный город Сибири – Булун, а «Савойя» – сначала найти Ленский караван, сообщить ему о прибытии и местонахождении «Колымы», и, только выполнив это, отправиться: в Булун.
В 12 часов «Юнкерс» сделал попытку взлететь, но оторваться не смог. Пришлось вылить прямо в воду около 20 кг бензина, без которого можно было обойтись.
Через десять минут, по отлете «Юнкерса» поднялась и «Савойя». Я не стал догонять Кошелева и пошел на розыски каравана.
После длительного скитания над дикими, пустынными островками устья Лены, у одного из них я заметил три маленькие черные точки.
От одной из них шла по ветру в сторону серая волнистая пелена:
«Дым из трубы «Лены», – подумал я.
После посадки я впервые увидел черные береговые скалы Лены и в этой обстановке встретился с теми, кого так упорно дожидался капитан «Колымы» тов. Миловзоров.
Ленский караван забирал рыбу на рыбачьих промыслах, не зная, что «Колыма» уже пришла. Капитан ее сознался, что они и не ожидали ее прихода, – так невероятен был переход «Колымы» даже для моряков.
Моя остановка в караване была непродолжительной.
В разговоре с членом ЦИК'а Якутской республики т. Бакаловым, прибывшим с караваном, я узнал неприятную новость о том, что иркутский бензин еще не прибыл в Булун.
Предстояло сиденье в этом городке.
Это неожиданное обстоятельство заставило меня просить капитана «Лены» о доставке бензина, находящегося на борту «Колымы» и предназначенного для доставки в устье реки Индигирки[19]19
Этот бензин был предназначен для будущего трансарктического перелета Владивосток – Ленинград, как известно, кончившегося в 1928 г. неудачно.
[Закрыть] в город Булун.
Простившись с товарищами из Ленского каравана, я вылетел в город Булун, куда и прибыл через два часа скучного и утомительного пути.
За этот день я прошел около 500 км над дельтой и устьем реки Лены в отвратительных летных условиях. Сильный ветер, дождь, смешанный со снегом, холод – вот условия этого первого перелета на севере Сибири.
Город Булун – начало перелета по Лене
Когда «Юнкерс» показался над Булуном, все жители вылезли из жилищ, но, увидев летящий самолет, снова спрятались в дома. Они боялись, что самолет упадет и раздавит их. Лишь через некоторое время к «Юнкерсу» подошли доктор и председатель местного Осоавиахима в сопровождении представителей власти – двух единственных в городе милиционеров.
Вся остальная «власть», по их словам, выехала в Якутск. Постепенно вслед за начальством, после того как мотор самолета замолк, начали появляться и жители города.
На наивный вопрос Кошелева: – «Где же самый город Булун?» – представители власти объяснили, что весь город, налицо…
Кошелев оглянулся на несколько землянок и хибарок, прислонившихся к скалам, и, вероятно, понял некоторую нетактичность вопроса.
Однако и доктор и председатель Осоавиахима этой самой «нетактичности» приезжего человека не заметили и, ведя Кошелева по городу, говорили, показывали на домики:
– Это здание исполкома… Вот Сибторг… Госторг… Там далее исправдом…
И Кошелев, стараясь загладить свою вину, с деланным интересом посматривал на все эти учреждения, с видом изумленного провинциала, попавшего в столицу.
Наш самолет встречал уже весь город. Благополучная (без падения на головы жителей) посадка «Юнкерса» и агитация председателя Осоавиахима сделали свое дело.
Нас встретили без боязни и так же, как и Кошелеву, показывали и Госторг, и Исполком, и все остальные общественные здания.
Мы остановились на квартире у доктора, а вечером были приглашены «на пирог» к заведующему местным отделением Госторга, где сразу же вошли в курс здешней жизни и местных интересов…
Булун – самый северный город по Лене. Дальше на север жилья нет. Лишь тянутся огромные глыбы торосов северо-полярного моря и замороженные скалы посреди мертвой холодной тундры. Весь город состоит из 28 домиков. Длинными полярными ночами здесь слышится только завывание ветра и вой тунгусских лаек.

Перед отлетом вверх по реке Лене. Вдали видна «Колыма», налево от него самолет «Савойя» и впереди «Юнкерс»
Зимой жизнь катится медленно, монотонно. Приходят длинные полярные ночи, загорается северная часть неба и стелется по небо яркая, огненная, колеблющаяся пелена. Снопы лучей играют и бегают, отражаясь в снежном покрове тундры.
Страна спит мертвым сном в течение восьми месяцев в году, и за это время промерзают до дна реки и озера. Все ждут весны, первой вестницей которой в Булуне является северная ворона.
С февраля месяца начинают готовиться к лету: в каждой хибарке плетут сети, точат крючья, остроги, льют из свинца пули.
Часто по берегам в обвалах находят тунгузы кости мамонтов, хранившиеся тысячелетиями в этих естественных ледниках. В долгие зимние ночи терпеливо вытачивают из нее кустари различные безделушки – портсигары, браслеты и статуэтки, которые сбываются с успехом на приходящие весной суда.
Во вскрывшуюся реку из океана идут стаи рыб, и тогда берега оживают, всюду видны рыбные сушилки, обвешанные гроздьями рыбы.
По реке и к устью сплавляются баржи, груженые пушниной, и около Булуна перегружаются на суда, привозящие запасы продуктов и снаряжения на весь зимний сезон сразу.
В черных скалах устья Лены слои каменного угля выходят на поверхность. Можно ожидать, что скоро они покроются шахтами, и этот мертвый край возродится к новой жизни.
Зимой здесь мечтают о весне, о пароходе, что приедет оттуда – «сверху», что привезет и продукты, которых с каждым днем зимовки становится все меньше и меньше, привезет долгожданные газеты и почту…
На второй день нашего вынужденного пребывания в Булуне мы устроили полеты и «прокатили» трех тунгузов – членов Осоавиахима. Я хотел их сфотографировать, но они сразу же побежали в город, желая немедленно поделиться впечатлениями о полете со своими сородичами.
На третий день, когда мы от скуки успели облазить все окрестные скалы, снова осмотрели город и вечером после ожесточенного шахматного боя перечитывали… майские газеты, послышался гудок парохода.
Все население города бросилось к реке, и мы бежали туда вместе со всеми… Это прибыл буксир «Красная Звезда», привезший нам бензин и масло. Мы узнали у капитана судна о дальнейших пунктах, где оставлен для нас бензин, и отправились спать.
Местное население в эту историческую для Булуна ночь, – в момент пребывания в городе и парохода и самолетов, – не спало.

На рыбных промыслах…Во вскрывшуюся реку из океана идут стаи рыб, и тогда берега оживают…
Волнение жителей не имело границ. Люди стояли на берегу и смотрели на самолеты и пароход, оживленно обмениваясь мнениями.
В четыре часа утра мы приступили к зарядке и осмотру самолетов, готовясь к далекому полету в Иркутск.
Учреждения в городе не работали. Все его население и обитатели близкой тундры стояли около наших самолетов… до трех часов дня.
После обеда под приветственные крики жителей мы улетели из этого замечательного полярного городка.
Вверх по Лене на самолетах
«Война красных с белыми»…
Пройдя 536 км от Булуна, мы сели в ненанесенный на карту пункт Джарджан, чтобы пополнить запас бензина и лететь дальше в Жиганск.
Но найти бензин было трудно. По словам капитана «Красной Звезды», бочки стоят около двух юрт, в которых находятся шесть рабочих, и отмечены красными и белыми полотнищами, разостланными внизу.
Но, как оказалось потом, обе юрты снялись, а флагами рабочие обмотали себе головы, спасаясь от комаров.
Лишь через несколько часов, после ряда поисков, мы нашли далеко в стороне от предполагаемого места оба боченка.
Вслед за этим пришли и рабочие, которые уходили заготовлять топливо для «Красной Звезды» в далекий кустарник.
Они помогли нам перекатить бочки к самолетам и зарядить их.
Наутро, после полета, во время которого было пройдено 420 км, мы спустились в городе Жиганске.
Маленький городок Жиганск по внешнему виду почти ничем не отличается от Булуна. Летом он пустует: мужчины уходят на промыслы, а начальство, как это было в момент нашего прилета, уехало с докладами в Якутск.
Городок предоставлен сам себе. Преимущественно женское население питается слухами.
Когда пароход выгрузил здесь бочки с бензином, около которых были поставлены на шестах красный и белый опознавательные флаги, то поползли слухи, что опять начинается война красных с белыми.
При такой оторванности от общей жизни Союза неудивительно, что когда на горизонте показались две ревущие черные точки, наиболее набожные женщины побежали за советом к священнику:
– Батюшка, что-то летит, свистит.
Священник, чинивший в это время рыболовную снасть, ответил им, что это «вероятно свистит в трубе ветер», но & этот момент самолеты показались над крышей крайнего домика и, быстро повернув, полетели к реке.
Священник постарался успокоить женщин и спровадил их домой, но и сам пойти к месту, где только что спустились два самолета, побоялся.

«Ненанесенный на карты» пункт Джарджан. Типичный безрадостный пейзаж тундры в низовьях реки Лены
Высокий и худой, похожий без рясы больше на рыбака, чем на священника, он с любопытством смотрел с крыши сарая на место стоянки самолетов.
Нас никто не встретил, и после совершения «самолетного туалета», как называл Егер покрывание мотора чехлом и установку самолета на стоянку, мы пошли в город.
Улицы города были пусты, но мы замечали, что изредка в оконцах поднимался уголок кумачевых занавесок и чьи-то любопытные взгляды обмеривали нас.
Неожиданно у колодца встретили двух женщин, которые сообщили нам, что «кроме батюшки, из начальства в городе никого нет».
Мы пошли к дому священника и по дороге встретились с его сыном, – членом Осоавиахима, прежде всего показавшим нам свой значок.
Священник пригласил нас зайти к нему закусить, но мы отказались и пошли в дом Госторга, который он нам отвел для отдыха.
Пищи у нас не было, и мы мрачно ходили по пустому зданию, наполненному затхлым, нежилым воздухом, и думали о… еде…
Через час к нам снова пришел священник и с большим тактом предложил нам организовать чай с закуской – здесь.
Немного погодя мы сидели в его обществе и пили чай. Тут он и рассказал нам о том переполохе и слухах в городе, которые вызвал наш прилет.
Закусив, мы зарядили самолеты. Священник и его сын деятельно помогали нам и по окончании работы пригласили нас пообедать.
За обедом он рассказал нам, как во время гражданской войны ему приходилось укрывать своего племянника, красного партизана, с его товарищами, и как потом раздраженные неудачами белые офицеры, дошедшие в отступлении до берегов океана, по доносу одного из жителей узнали об этом.
А потом пришли регулярные части Красной армии, и его обвинили в укрывательстве белых офицеров и чуть было не «вывели в расход».
…«В общем плохо быть попом!..» – закончил он свой рассказ, и, вероятно, многие из нас искренне согласились с этим.
После обеда мы отправились на берег реки, где уже было много народа, и после краткого объяснения о целях нашего полета, простившись со священником и его сыном, полетели дальше.
Две бочки бензина… у большого дерева
Вскоре за Жиганском мы снова пересекли Полярный круг и, ведя наши самолеты в спокойном полете, продвигались к устью реки Вилюя.
С правой стороны от нас тянулся невысокий горный кряж, а по мере полета налево и впереди вырастали на горизонте Верхоянские горы.
По обоим берегам Лены растянулась на тысячи километров тайга. Первое время она радовала глаз после диких тундр далекого севера.
И солнце здесь, «по эту сторону» Полярного круга, стало ярче светить и начало немного греть.
Когда мы прилетели к устью р. Вилюя, то сразу же поняли, что по данным нам капитаном «Красной Звезды» указаниям найти бензин не удастся.
«Две бочки бензина у большого дерева в устье реки Вилюя», – гласило его сообщение, но где именно находилось это загадочное устье – найти было невозможно.
Это устье отсюда, сверху, оказалось огромной, растянувшейся чуть ли не на 15 км дельтой со многими рукавами реки.
Все же мы решили спускаться и, выбрав наиболее подходящее место с песчаным пляжем, встали у берега…
Сразу же, что бросилось в глаза, были три огромных дерева, выделяющихся среди кустарника, и два из них на расстоянии 15–20 м от нас.
Кошелев и Егер поспорили, под которым из них находится «клад»… то-бишь, бензин, и оба направились к деревьям.
Я пошел к третьему, наиболее отдаленному, но, придя, не нашел никаких следов бензина.
Повернув назад, я увидел разочарованные лица товарищей.

Самолеты в устье реки Вилюя…Все мы решили спускаться и, выбрав наиболее подходящее место с песчаным пляжем, встали у берега…
Дальше по берегу виднелись еще несколько деревьев, которые с известной натяжкой можно было назвать высокими. Мы только что хотели пойти осматривать их, как вдруг увидели выходящих из кустарника вооруженных туземцев.
Это уже совсем получилось как в старинном приключенческом романе: «Мореплаватели потерпели крушение, путь назад отрезан… из дикого тропического леса выходят вооруженные томагавками индейцы, и несколько белых стоят и содрогаются при мысли о своей участи…» И дальше: «Одетый белоснежным облаком вулкан лениво дымился в далеком мареве горизонта, солнце сияло на небосклоне, пели яркие тропические птицы, всюду ликовали и звенели тысячи неведомых жизней, и так не хотелось, чтобы с тебя снимали скальп.
– Сеньоры, не сдадимся без боя! – воскликнул…».
– Это якуты! – хладнокровным тоном сказал Кошелев и перебил мои романические мысли…
Один из якутов подошел к нам и заявил:
– Толкуи нету[20]20
Переводчика нет.
[Закрыть], – и после этого начал свой мимический доклад. Он ловко изобразил сомкнутыми в кистях и разомкнутыми в локтях руками что-то круглое (я подумал – «бочки»), потом отпрыгнул назад и дернул за какую-то воображаемую веревку и, надув щеки, издал звук, отдаленно напоминающий гудок парохода. Вслед за этим он укоризненно покачал головой, поднял руку до головы и, продолжая с упреком смотреть на нас, держа в обеих руках винтовку, опустил ее до земли.
(Тут я подумал, что он хочет выразить обиду, нанесенную ему нами.) Вслед за этим он начал повторять всю эту пантомиму, в чем ему усердно помогали и остальные девять человек сородичей, уже подошедших к нам. Пантомима изредка пояснялась ломаными русскими словами, и в конце концов мы поняли.
Оказалось, что когда по реке идет пароход, то туземцы дают залп, а капитан парохода отвечает им гудком. Это – общепринятое приветствие на Лене и ее притоках, обоюдно свидетельствующее дружеские отношения.
Увидев самолет, они несколько раз стреляли, но мы… не давали ответного гудка, и они были этим страшно обижены.
Чтобы смягчить невыгодное впечатление и не прослыть невежами, я кое-как постарался объяснить якутам, что на самолетах гудка нет.
Якуты успокоились и показали нам место, где капитан «Красной Звезды» оставил бензин. С большим трудом удалось их упросить перенести бензин (он был в бидонах) к самолетам. Для таких невеж, как мы, они, очевидно, не желали ничего делать.
После зарядки самолетов мы приготовились к ночевке, развели огромный костер и были страшно поражены, что неожиданно наступила самая настоящая ночь. Уже полтора месяца от самого Петропавловска-на-Камчатке мы жили в постоянном дневном освещении.
Ночь была коротка, но все же Егер успел, засунув ноги в костер, сжечь свой сапог, не повредив ноги. Нога была спасена только потому, что утро было холодное и дождливое. Полузамерзнув, Побежимов проснулся и, увидев в костре странный предмет, который трещал, дымился и не горел, разбудил всех, в том числе и хозяина несчастного сапога.
Егер снял остатки сапога, от которого шел пар, отрезал половину голенища, отодрал часть подошвы и снова надел сапог. Так он и щеголял в нем в Якутске, поражая своей персоной даже видавших виды золотоискателей с Алдана.