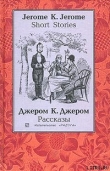Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Эдит Уортон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Эдит Уортон
Рассказы
ГЛАЗА[1]1
Из сборника «Рассказы о людях и привидениях» (1910).
[Закрыть]
Перевод Е. Беловой
I
Удивительная история Фреда Мерчада о том, как его посетил призрак, рассказанная однажды вечером после великолепного обеда у нашего старого друга Калвина, настроила всех на мистический лад.
Окутанная дымом наших сигар, тускло освещенная сонно тлеющими в камине угольками, библиотека Калвина с дубовыми панелями на стенах и темными старинными переплетами была хорошим фоном для подобных историй; а так как после вступления Мерчада никто не хотел слышать ничего, кроме рассказов о привидениях, мы решили узнать, на что способна наша компания, и обязали каждого внести свою лепту. Нас было восемь, и семеро смогли более или менее успешно выполнить поставленные условия. Все мы были немало удивлены, обнаружив, что нам удалось собрать такую коллекцию рассказов о сверхъестественных явлениях, – ведь никто из нас, если не считать самого Мерчада да еще юного Фила Френхема, чья история, пожалуй, была наименее интересной, не имел обыкновения предаваться размышлениям о потустороннем мире. Так что у нас были все основания гордиться своими семью «экспонатами», и никому даже в голову не пришло ожидать восьмого рассказа из уст самого хозяина.
Наш старый друг, мистер Эндрю Калвин, который, удобно устроившись в кресле, молча слушал эти повествования, посматривая на нас сквозь кольца дыма с добродушной терпимостью мудрого древнего идола, был не из тех, кого посещают призраки, хотя и обладал достаточным воображением, чтобы без всякой зависти наслаждаться необыкновенными свойствами своих гостей. По возрасту и образованию он придерживался здоровых позитивистских традиций, и его образ мыслей сформировался во времена эпической битвы между физикой и метафизикой. Но И в те дни, как, впрочем, и всегда, он был, в сущности, лишь сторонним наблюдателем, насмешливым зрителем в огромном беспорядочном балагане жизни, и если он порою потихоньку покидал свое место, то лишь для того, чтобы мимоходом заглянуть в мир кулис, но никогда, сколько нам было известно, не выказывал ни малейшего желания выйти на сцену и исполнить собственный номер.
Среди его сверстников сохранилось туманное предание, будто в далеком прошлом, находясь в каком-то романтическом краю, он был ранен на дуэли, но эта легенда столько же мало соответствовала тому, что мы, люди младшего поколения, знали о его характере, сколько утверждение моей матушки, что в свое время это был невысокий обаятельный человек с прелестными глазами, могло дать представление о его физиономии.
– Он, наверное, всегда был похож на вязанку хвороста, – однажды заметил о нем Мерчад.
– Скорее на гнилушку, – поправил его кто-то, и это сравнение показалось нам весьма удачным.
Его короткое приземистое туловище и в самом деле напоминало обрубок бревна, а лицо с блестящими красными глазами было пятнистым, как древесная кора. Он постоянно пребывал в праздности, которую всячески оберегал и лелеял, стараясь не растрачивать ее на суетные дела. Его заботливо охраняемое время было посвящено развитию утонченного ума и нескольким тщательно подобранным привычкам, и никакие людские треволнения, по-видимому, не омрачали его безоблачного горизонта. Однако бесстрастное созерцание вселенной не улучшило его мнения об этом дорогом эксперименте, а изучение рода человеческого, казалось, привело его к выводу, что все мужчины излишни, а женщины необходимы лишь постольку, поскольку кто-то должен стряпать. В важности последнего пункта он не сомневался ни на йоту, и гастрономия была единственной наукой, которую он почитал как некую догму. Следует признать, что его небольшие званые обеды были убедительным аргументом в пользу подобной точки зрения, и, кроме того, они были причиной – хотя и не главной – верности его друзей.
Его духовное гостеприимство было менее соблазнительным, но не менее увлекательным. Ум его был подобен форуму или какому-то находящемуся на открытом воздухе месту для обмена мыслями; несколько холодному и ветреному, но светлому, просторному и тщательно прибранному, вроде Академической рощи,[2]2
…вроде Академической рощи… – В Древней Греции Академией называлась роща близ Афин, где великий философ Платон (427–347 до н. э.) беседовал со своими учениками.
[Закрыть] в которой облетели все листья. На этой доступной лишь избранным арене человек десять из нас нередко собирались, чтобы помериться силами и поупражняться в красноречии; и словно для того, чтобы сохранить эту, как нам казалось, исчезающую традицию, два-три неофита время от времени присоединялись к нашему обществу.
Юный Фил Френхем был последним и наиболее интересным из таких новообращенных и мог служить хорошим подтверждением несколько мрачных слов Мерчада, что наш старый друг «любит их свеженькими». Действительно, Калвин, несмотря на всю свою сухость, особенно высоко ценил лирические свойства юности. Он был слишком большим эпикурейцем, чтобы губить цветы души, которые он собирал для своего сада, и потому его дружба не оказывала разлагающего влияния на молодежь; напротив, она заставляла юную мысль распускаться в полную силу, а в лице Фила Френхема он приобрел прекрасный предмет для своих опытов. Юноша был несомненно умен, а неиспорченность его натуры была подобна чистейшей глине, покрытой тонкой глазурью. Калвин извлек его из тумана домашней скуки и открыл ему новый, неведомый мир, но это приключение ничуть ему не повредило. И в самом деле, искусство, с которым Калвину удалось возбудить любопытство Френхема, не заглушая в нем благоговейного трепета, казалось мне убедительным опровержением несколько кровожадной метафоры Мерчада. В цветении Френхема не было ничего болезненного, и старший друг даже и пальцем не коснулся столь любезных его юному сердцу предрассудков. И наилучшим тому доказательством служило то, что Френхем до сих пор почитал таковые же предубеждения в Калвине.
– В его характере есть черта, которой вы, друзья, не замечаете. Я уверен, что история с дуэлью не выдумка! – уверял он; и именно эта уверенность заставила его как раз в ту минуту, когда наша небольшая компания расходилась, обратиться к нашему хозяину с шутливой просьбой: – А сейчас ваша очередь рассказать нам о своем призраке.
Входная дверь захлопнулась за Мерчадом и другими гостями, остались только мы с Френхемом; преданный слуга, которому Калвин вверил свою судьбу, принес свежий запас содовой, и его лаконично отправили спать.
Общительность Калвина была подобна цветку, распускающемуся ночью, и мы знали: он всегда ожидает, что после полуночи ближайшие друзья тесным кружком соберутся вокруг него. Казалось, однако, будто просьба Френхема несколько его смутила, и он приподнялся с кресла, в котором только что вновь устроился, проводив гостей в прихожую.
– О моем призраке? Неужели я, по-вашему, настолько глуп, чтобы раскошелиться на собственное привидение, когда у моих друзей в запасе столько прекрасных экземпляров? Хотите еще сигару? – со смехом обратился он ко мне.
Повернувшись к своему ощетинившемуся коренастому другу, стройный Френхем выпрямился во весь рост у камина и тоже рассмеялся.
– Ну нет! Если бы вы встретили привидение, которое вам действительно понравилось, вы никогда не согласились бы поделиться им с кем-нибудь! – сказал он.
Калвин снова погрузился в кресло. Его голова с копной волос утопала в углублении, образовавшемся в потертой кожаной обивке, а небольшие глазки тускло мерцали над только что раскуренной сигарой.
– Что? Понравилось?! О, господи! – проворчал он.
– Ага! Значит, оно у вас все-таки есть! – в ту же секунду накинулся на него Френхем, искоса бросив на меня победоносный взгляд; но Калвин, словно гном, съежился среди подушек, скрывшись за спасительными клубами дыма.
– К чему отрицать? Вы же видели все на свете – значит, вы видели и призрака, – настаивал его юный друг, бесстрашно пробиваясь сквозь эти клубы, – а если вы все же утверждаете, что не видели такового, то лишь потому, что видели сразу двух!
Форма, в которой был сделан этот вызов, казалось, потрясла нашего хозяина. Он как-то странно, по-черепашьи, высунул голову из облака дыма и одобрительно уставился на Френхема.
– Вот именно! – воскликнул он, визгливо рассмеявшись. – Это лишь потому, что я видел сразу двух!
Эти неожиданные слова медленно затихали в глубокой тишине, меж тем как мы с изумлением смотрели друг на друга поверх головы Калвина, а он безмолвно созерцал свои привидения. Наконец Френхем молча опустился в кресло по другую сторону камина и с выжидательной улыбкой наклонился вперед…
II
Конечно, это не какие-то выдающиеся призраки: ценитель не обратил бы на них внимания… Я не хочу вас напрасно обнадеживать… Их единственное достоинство заключается в их количестве – в исключительном факте существования двух призраков одновременно. Правда, я вынужден признать, что в любой момент я, возможно, сумел бы изгнать их, попросив своего врача прописать мне какое-нибудь лекарство либо сходив к окулисту за очками. Но я так и не мог решить, к кому мне обратиться (страдал ли я от расстройства пищеварения или от обмана зрения?), я предоставил им возможность и дальше вести их любопытную двойную жизнь, хотя временами они делали мою собственную чрезвычайно неприятной…
Да, именно неприятной, а вы знаете, что я не терплю неприятностей. Но, когда началась эта история, глупая гордость не позволила мне сознаться в том, что меня может вывести из равновесия поразительное явление, что я вижу сразу двух…
К тому же у меня вовсе не было оснований предполагать, что я болен. Я был уверен, что мне просто скучно, – я буквально умирал от скуки. Однако вспоминаю, что именно благодаря этой скуке я чувствовал себя необыкновенно бодрым и не мог придумать, куда девать излишнюю энергию. Я только что возвратился из длительной поездки по Южной Америке и Мексике и поселился на зиму близ Нью-Йорка у своей старой тетушки, которая знавала Вашингтона Ирвинга[3]3
…знавала Вашингтона Ирвинга… – Вашингтон Ирвинг (1783–1859) – выдающийся американский писатель-романтик, стоявший у истоков национальной литературы США.
[Закрыть] и переписывалась с Н. П. Виллисом.[4]4
…и переписывалась с Н. П. Виллисом. – Речь идет о влиятельном американском поэте и журналисте Натаниэле Паркере Виллисе (1806–1867), основателе журнала «Америкен мансли мэгезин» (1829).
[Закрыть] Она жила недалеко от Ирвингтона в унылом готическом особняке под сенью старых елей, который напоминал сувенирную коробочку, сплетенную из волос. Внешность самой тетушки была под стать этому сувениру, а свои собственные волосы, которых почти не осталось, она, должно быть, пожертвовала на его изготовление.
Я прожил весьма беспокойный год, и мне необходимо было восполнить затраты чувств и денег, и я надеялся, что спокойное радушие моей тетушки благотворно скажется и на моих нервах, и на моем кошельке. Но ведь вот какая нелепость! Стоило мне почувствовать себя под дружеским кровом, как силы вновь стали ко мне возвращаться. Но на что я мог употребить их, сидя в этом сувенире? В то время я ошибочно полагал, будто умственные усилия могут поглотить всю энергию человека, и потому решил написать великую книгу – не помню уж с чем. Мои замыслы произвели большое впечатление на тетушку, и она предоставила в мое распоряжение свою готическую библиотеку, полную сочинений классиков в черных холщовых переплетах и дагерротипов забытых знаменитостей, и я принялся за работу, чтобы пополнить собою их ряды. Желая облегчить мою задачу, тетушка приставила ко мне кузину для переписки моих сочинений.
Кузина была славная девушка, а мне казалось, что для восстановления веры в человечество и, главным образом, в самого себя мне как раз и недостает славной девушки. Бедная Алиса Ноувелл! Она не была ни умной, ни красивой, но мое любопытство привлекло то, что женщина может быть удовлетворена такой непривлекательностью, и я захотел узнать, в чем заключается секрет ее удовлетворенности. Я действовал довольно поспешно и несколько переусердствовал – о, всего лишь на минуту! В том, что я вам рассказываю, нет ни капли самодовольства: просто бедная девочка никогда не видела никаких мужчин, кроме своих родственников…
Разумеется, я раскаивался в содеянном и страшно беспокоился о том, как поправить дело. Алиса жила там же в особняке, и однажды вечером, когда тетушка уже легла спать, она спустилась в библиотеку, чтобы отыскать книгу, которую куда-то засунула, подобно простодушным героиням романов, заполнявших полки. Ее носик порозовел от волнения, и мне вдруг пришло в голову, что к старости ее волосы, хотя тогда они были довольно густыми и красивыми, станут точь-в-точь такими же, как у тетушки. Я очень обрадовался этому открытию, ибо теперь мне было легче решиться сделать то, что следовало, и, когда я нашел книгу, которую она и не думала терять, объявил ей, что на этой неделе отправляюсь в Европу.
В те дни Европа была ужасно далеко, и Алиса тотчас поняла, что я имел в виду. Она отнеслась к этому совсем не так, как я ожидал, – мне было бы легче, если бы Алиса повела себя иначе. Она крепко прижала к себе книгу и на минутку отошла, чтобы прикрутить лампу на моем письменном столе; помнится, на этой лампе был абажур из матового стекла с рисунком из виноградных листьев и со стеклянными подвесками по краю. Затем она вернулась, протянула мне руку и сказала: «До свиданья». С этими словами она посмотрела мне прямо в глаза и поцеловала меня. Я никогда не испытывал ничего более чистого, смелого и вместе с тем робкого, чем этот поцелуй. Это было хуже всякого упрека, и мне вдруг стало стыдно, что я заслужил ее упрек. Я сказал себе: «Я женюсь на ней, и, когда тетушка умрет, она оставит нам этот особняк, и я буду продолжать работать над книгой за этим столом, а Алиса будет сидеть вон там, вышивать и посматривать на меня так же, как сейчас, и мы будем жить так много-много лет». Подобная перспектива меня несколько напугала, но в тот момент ничто не могло напугать меня больше, чем возможность обидеть Алису, и через десять минут мой перстень был уже надет на ее пальчик, и я обещал, что, когда отправлюсь за границу, она поедет со мной.
Вас, наверное, удивляет, почему я так подробно останавливаюсь на этом эпизоде? Дело в том, что именно в тот вечер мне впервые явилось странное видение, о котором я говорил. В те годы я горячо верил в существование необходимой связи между причиной и следствием и, естественно, постарался проследить зависимость между тем, что произошло со мною в тетушкиной библиотеке, и тем, что случилось этой же ночью несколько часов спустя, и потому совпадение этих двух событий навсегда осталось в моей памяти.
Я поднялся к себе в спальню с тяжелым сердцем, сгибаясь под тяжестью первого хорошего поступка, который сознательно совершил; и, как я ни был молод, я понимал всю серьезность своего положения. Однако не подумайте, что до этого я был орудием разрушения. Я был всего лишь безобидным молодым человеком, который следовал своим наклонностям и избегал всякого сотрудничества с Провидением. Теперь же я вдруг взялся содействовать моральному совершенствованию всего света и чувствовал себя как доверчивый зритель, который отдал свои золотые часы фокуснику и не знает, в каком виде он получит их обратно, когда тот закончит свой трюк… Однако уверенность в собственной правоте несколько умеряла мои опасения, и, раздеваясь, я сказал себе, что, когда я привыкну быть добропорядочным, возможно, это уже не будет так угнетать меня. А когда я лег в постель и задул свечу, то почувствовал, что и впрямь начинаю привыкать, и мне показалось, будто это все равно что погружаться в мягчайшую перину моей тетушки.
С этой мыслью я закрыл глаза, а когда я их открыл, было уже, наверное, очень поздно, ибо в спальне стало холодно и необычайно тихо. Я проснулся от знакомого всем нам странного ощущения, будто в комнате появилось нечто, чего не было, когда я засыпал. Я сел и стал напряженно всматриваться в темноту. В спальне была кромешная тьма, и сначала я не мог ничего различить; но постепенно неясное мерцание в изножье кровати превратилось в два глаза, которые пристально на меня смотрели. Я не мог разглядеть лица, которому они принадлежали, но чем больше я всматривался, тем отчетливее становились глаза – они светились во тьме.
Чувство, которое я испытал, когда меня так разглядывали, было весьма далеко от приятного, и вы в праве предположить, что первым моим побуждением было вскочить с постели и наброситься на незримого обладателя этих глаз. Но нет – я просто замер. Не могу сказать, чем это объяснялось, – то ли тем, что я мгновенно ощутил сверхъестественность видения, то ли уверенностью, что если даже и вскочу с постели, я наткнусь всего лишь на пустоту, то ли сами глаза каким-то образом меня парализовали. Я никогда в жизни не видел таких страшных глаз. Это были глаза человека – но какого! Вначале я подумал, что он, наверное, ужасно стар. Глаза у него ввалились, и красные, тяжелые, набухшие веки нависали над ними, словно ставни, сорвавшиеся с петель. Одно веко опустилось чуть ниже другого, отчего взгляд стал кривым и злобным; и между этими складками кожи с редкой щетиной ресниц сами глаза – маленькие, тусклые кружочки с агатовым ободком – напоминали гальку, цепко зажатую морскою звездой.
Но самым отвратительным в этих глазах был вовсе не их возраст. От чего меня просто мутило, так это от их порочной самоуверенности. Не знаю, как иначе объяснить то, что они, казалось, принадлежали человеку, который сделал в жизни много зла, но при этом всегда оставался в рамках дозволенного. То были глаза не труса, а человека слишком умного, чтобы идти на риск, и от их низкого коварства мое отвращение усиливалось. Но хуже всего было даже не это: пока мы продолжали изучать друг друга, я почувствовал во взгляде насмешку и понял, что она адресована мне.
Тут меня охватил порыв ярости, который заставил меня вскочить с постели и наброситься на невидимую фигуру. Разумеется, никакой фигуры не было, и мои кулаки встретили лишь пустоту. Пристыженный и замерзший, я отыскал спички и зажег свечи. Как и следовало ожидать, комната выглядела совершенно обычно, и я возвратился в постель и задул свечи.
Однако стоило комнате вновь погрузиться во тьму, как глаза появились' опять, и на этот раз я попробовал объяснить их присутствие на основе научных принципов. Сначала я подумал, что видение вызвано отблесками догоравших в камине угольков, но камин находился по другую сторону кровати и был расположен так, что огонь не мог отражаться в зеркале туалетного столика, которое было единственным в комнате. Затем мне пришло в голову, что меня могло обмануть отражение угольков на какой-нибудь полированной деревянной или металлической поверхности, и, хотя я не мог обнаружить ничего подобного в поле зрения, я снова встал и, ощупью добравшись до камина, раз-, бросал и без того погасшие угли. Но как только я лег, глаза вновь появились в изножье кровати.
Итак, все ясно: это галлюцинация. Однако то обстоятельство, что глаза не были разыгранной кем-то шуткой, отнюдь не придало им привлекательности. Ибо если они были отражением чего-то в моем сознании, то в чем же причина его расстройства? Я достаточно глубоко проник в тайны различных патологических состояний, чтобы представить себе условия, при которых мозг может быть подвержен подобным ночным галлюцинациям, но никак не мог связать это с теперешним моим состоянием: я никогда не чувствовал себя более здоровым – как умственно, так и физически, и единственное необычайное обстоятельство в моем положении, а именно то, что я осчастливил одну милую девушку, казалось бы не могло привлечь злых духов к моей постели. И тем не менее глаза по-прежнему на меня смотрели…
Я зажмурился и постарался вспомнить взгляд Алисы Ноувелл. В ее глазах не было ничего необыкновенного, но они были чисты, как родник, и, будь у нее побольше фантазии или же подлиннее ресницы, выражение их было бы приятным. Однако они не обладали достаточной силой, и вскоре я заметил, что они каким-то таинственным образом превратились в глаза у изножья кровати. Даже сквозь закрытые веки я ощущал, как они смотрят на меня, это было еще отвратительнее, и потому я вновь открыл глаза и встретился с этим ненавистным взглядом…
Так продолжалось всю ночь. Не могу вам описать, что это была за ночь и как долго она длилась. Приходилось ли вам лежать в постели без сна и стараться не открывать глаз, зная, что, открыв их, вы увидите нечто, внушающее вам ужас и отвращение? Это легко сказать, но дьявольски трудно выдержать. Глаза маячили передо мной и притягивали к себе. Я почувствовал vertige de l'abîme,[5]5
Головокружение, которое человек испытывает, стоя на краю пропасти (фр.).
[Закрыть] и их багровые веки были краем моей бездны. У меня в жизни и раньше бывали минуты, когда я испытывал тревогу, – минуты, когда ветер опасности, казалось, дует мне в спину, но я никогда не испытывал такого напряжения. Нельзя сказать, чтоб глаза эти были ужасны – в них не было величия, присущего силам тьмы. Как бы вам объяснить? Они физически воздействовали на меня, как дурной запах, их взгляд оставлял за собою след, подобный тому, что тянется за улиткой. Я никак не мог понять, какое отношение они имеют ко мне, и все смотрел и смотрел, стараясь разгадать эту тайну…
Не знаю, чего именно они хотели от меня добиться, но добились они того, что рано утром, захватив небольшую дорожную сумку, я удрал в город. Тетушке я оставил записку, что заболел и поехал к доктору; кстати, я и впрямь чувствовал странное недомогание– казалось, эта ночь высосала из меня всю кровь. Но, добравшись до города, к доктору я не пошел. Я отправился к приятелю, бросился на кровать и проспал десять восхитительных часов. Когда я проснулся, была глубокая ночь, и я похолодел при мысли о том, что меня ожидает. Дрожа от страха, я сел и всмотрелся в темноту; ее благословенная поверхность была спокойной и ровной, и, убедившись, что глаз нет, я снова заснул мертвым сном.
Удирая из дому, я не написал Алисе ни слова, так как собирался возвратиться на следующее утро. Но на следующее утро я почувствовал себя настолько измученным, что был не в силах пошевелиться. В течение дня мое изнеможение не исчезло, как бывает после обыкновенной бессонной ночи, а, наоборот, стало нарастать; казалось, воздей ствие глаз усилилось, и мысль о том, что я увижу их вновь, становилась невыносимой. Два дня я боролся со своим страхом; на третий вечер взял себя в руки и решил утром вернуться домой. Приняв это решение, я почувствовал себя намного лучше, ибо знал, что мое внезапное бегство и странное молчание должны были очень огорчить бедную Алису. С легким сердцем я лег спать и тотчас уснул, но среди ночи проснулся и снова увидел глаза…
Это было выше моих сил, и, вместо того чтобы возвратиться к тетушке, я наспех собрался и сел на первый же пароход, идущий в Англию. Когда я очутился на борту, я был настолько измучен, что, добравшись до каюты, лег на койку и проспал большую часть пути. Не могу вам передать, какое блаженство, просыпаясь после долгого сна без сновидений, бесстрашно смотреть в темноту, зная, что больше не увидишь этих глаз…
Я провел за границей год, потом еще год, и за это время глаза ни разу не появились. Даже если бы я находился на необитаемом острове, это было бы достаточной причиной, чтобы продлить мое пребывание там. Другой причиной, разумеется, было то, что за время путешествия я окончательно убедился в полной невозможности жениться на Алисе Ноувелл. Меня раздражало, что я потратил столько времени на это открытие, и я не хотел никаких объяснений. Я одним махом избавился и от глаз, и от второй неприятности, что придало моей свободе особый вкус, и чем больше я ею наслаждался, тем больше она мне нравилась.
Глаза оставили в моем сознании такой неизгладимый след, что я еще долго ломал себе голову над природой этого явления и пытался угадать, вернется ли оно вновь? Но время шло, и постепенно мой страх исчез и в памяти осталось лишь четкое воспоминание. Затем стерлось и оно.
Через год после отъезда из Америки я поселился в Риме, где, помнится, собирался написать другую великую книгу– исчерпывающий труд о влиянии этрусков на итальянское искусство.[6]6
…о влиянии этрусков на итальянское искусство. – Этруски – общее название народностей, населявших в древности Этрурию, провинцию в Италии у Тирренского моря. Этрусское искусство представляло промежуточное звено между греческим и римским искусством.
[Закрыть] Во всяком случае, я нашел предлог для того, чтобы снять солнечную квартиру на площади Испании и бродить по Форуму,[7]7
Форум – у римлян городская площадь для народных собраний, ярмарок и суда.
[Закрыть] и там-то однажды утром ко мне подошел очаровательный юноша. Он предстал передо мною в теплых лучах солнца, стройный, изящный, прекрасный, как Гиацинт;[8]8
Гиацинт – в греческой мифологии прекрасный юноша, любимец Аполлона, убитый им из ревности.
[Закрыть] казалось, он сошел с развалин алтаря, посвященного Антиною;[9]9
…с развалин алтаря, посвященного Антиною… – Антиной – красивый юноша, любимец римского императора Адриана, утопившийся в 130 году в Ниле. В память о нем в Риме были сооружены храм и многочисленные статуи.
[Закрыть] а меж тем он всего лишь прибыл из Нью-Йорка с письмом – от кого бы вы думали? От Алисы Ноувелл. Это письмо – первое со времени нашей разлуки – состояло всего из нескольких слов, в которых она представляла мне своего юного кузена Гилберта Нойза и просила ему помочь. В письме говорилось, что несчастный мальчик «талантлив» и «жаждет писать», но жестокие родители требуют, чтобы он употребил свою каллиграфию на поприще бухгалтерии, и вот, благодаря стараниям Алисы, он получил шестимесячную отсрочку, которую должен провести за границей и, имея в кармане жалкие гроши, каким-то образом доказать, что своим пером может увеличить эту сумму. В первый момент меня поразили необычайные условия испытания; оно казалось почти столь же категоричным, сколь средневековый «суд божий».[10]10
…средневековый «суд божий». – Имеется в виду распространенная в средние века форма определения виновности посредством огня, воды или яда.
[Закрыть] Потом меня тронуло то, что она прислала своего кузена ко мне. Я всегда хотел хоть как-нибудь ей услужить, дабы оправдать себя – правда, не в ее глазах, а скорее в своих, – и теперь мне представилась прекрасная возможность.
Я думаю, можно с уверенностью сказать, что будущие гении не являются вам в лучах весеннего солнца на Форуме, подобно его низверженным богам. Во всяком случае, бедняге Нойзу не было предначертано стать гением. Но он был красивым юношей и прекрасным товарищем. Лишь когда он пускался в рассуждения о литературе, мне становилось не по себе. Я насквозь видел все симптомы его болезни – столкновение между тем, что «таилось в нем», и окружающим миром. Ведь, в сущности, это и есть настоящее испытание! Неминуемо, пунктуально, с неумолимостью законов природы ему в голову всегда приходили исключительно нелепые мысли. Со временем я стал даже развлекаться, заранее угадывая, какая именно нелепость будет следующей, и приобрел поразительную сноровку в этой игре…
Хуже всего, что его глупость не бросалась в глаза. Дамы, с которыми он встречался на пикниках, считали его мыслящей личностью, и даже на званых обедах он сходил за «умника». Да и я, человек, который рассматривал его под микроскопом, порою надеялся, что он все-таки обнаружит хоть какой-нибудь талантишко, способный одарить его удачей и счастьем, а разве не ради этого я старался? Он был так мил и продолжал оставаться таким милым, что самое его обаяние внушало мне эту мысль, и в течение первых месяцев я и вправду верил, что ему еще улыбнется фортуна…
То были изумительные месяцы; Нойз не расставался со мной, и чем больше времени мы проводили вместе, тем больше он мне нравился. Его глупость составляла часть его очарования – она была прекрасна, как его ресницы. И он был так весел, так счастлив со мной, что сказать ему правду было бы все равно что перерезать горло какому-нибудь кроткому зверьку. Сначала я не мог понять, что вложило в эту очаровательную голову бредовую мысль, будто в ней содержатся мозги. Постепенно я понял, что это было лишь мимикрией – бессознательным обманом с целью освободиться от родительского дома и конторского стола. Нельзя сказать, что бедняга Гилберт не верил в себя. В нем не было ни капли лицемерия. Он был убежден, что у него действительно есть «призвание», тогда как я считал, что его украшало именно отсутствие оного и что немного денег, немного свободы и немного развлечений превратят его в безобидного бездельника. К несчастью, денег ждать было неоткуда, а так как перед ним маячил конторский стол, он не мог отложить свои литературные опыты. Его писанина была ужасна, и сейчас мне понятно, что я знал это с самого начала. Однако нелепо было бы решать судьбу человека по результатам первого опыта, и это несколько оправдывало то, что я откладывал свой приговор, а возможно, даже слегка поощрял Нойза: ведь чтобы расцвести, человеческое растение нуждается в тепле.
Как бы то ни было, я продолжал придерживаться этой точки зрения и добился продления испытательного срока. Когда я уехал из Рима, он отправился со мной, и мы беззаботно провели восхитительное лето между Капри и Венецией. Я сказал себе: «Если в нем что-то есть, то это обнаружится именно теперь». Так и получилось. Он никогда не был так очарован и так очарователен. Во время нашего путешествия бывали минуты, когда казалось, что красота, рожденная плеском морской волны, отразилась на его лице, но, увы, лишь для того, чтобы вылиться в потоке бледных чернил.
Однако пришло время запрудить этот поток, и я знал, что, кроме меня, сделать это некому. Мы возвратились в Рим, и я пригласил его к себе – я не хотел, чтобы он оставался один в своем пансионе, когда ему придется отказаться от своих честолюбивых замыслов. Разумеется, решив посоветовать ему оставить литературу, я полагался не только на собственное суждение. Я посылал его сочинения разным людям – и издателям, и критикам, – но они всякий раз возвращали их с одинаковым ледяным молчанием. Да и о чем было говорить?
Признаюсь, я никогда не чувствовал себя так скверно, как в тот день, когда вознамерился поговорить с Гилбертом начистоту. Легко сказать себе, что мой долг– разбить надежды бедного юноши, но хотел бы я знать, бывал ли случай, чтобы добровольная жестокость не оправдывалась подобными аргументами? Мне всегда претила необходимость присваивать себе функции Провидения, а когда я вынужден это делать, я предпочитаю, чтобы они не были связаны с необходимостью кого-то уничтожить. Да и, в конце концов, кто я такой, чтобы всего лишь после годового испытания решать, есть ли у бедняги Гилберта талант или нет?
Чем больше я думал о той роли, которую решился исполнить, тем меньше она мне нравилась, и она понравилась мне еще меньше, когда Гилберт сел напротив меня и свет лампы упал на его откинутую голову – точь-в-точь как сидит сейчас Фил… Я просматривал его последнюю рукопись, и он это знал; знал он также, что его будущее зависит от моего приговора – на этот счет у нас с ним было молчаливое соглашение. Рукопись, а это был роман – если хотите знать, его первый роман! – лежала на столе между нами; он наклонился вперед, положил на нее руку и посмотрел на меня так, словно от этого зависела вся его жизнь.
Глядя на рукопись, чтобы не встречаться с ним глазами, я встал и откашлялся.
«Дело в том, мой дорогой Гилберт… – начал я. Тут я увидел, что он побледнел, но тотчас же вскочил и посмотрел мне прямо в лицо. – Помилуйте, не надо так волноваться, друг мой. Я совсем не собираюсь разносить вас в пух и прах».
Его руки легли мне на плечи, и он засмеялся с высоты своего роста с какой-то убийственной веселостью, поразившей меня в самое сердце.
Он держался с таким достоинством, что я не мог продолжать эти жалкие рассуждения о своем долге. Я вдруг представил себе, какие страдания причиню другим, заставив страдать его: прежде всего самому себе, ибо отправить его домой значило потерять его, но особенно бедной Алисе Ноувелл, которой я так стремился доказать свое усердие и желание быть полезным. И в самом деле, казалось, что, предавая Гилберта, я вторично предаю ее…