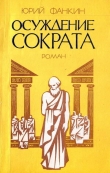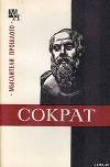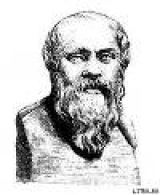
Текст книги "Сократ. Его жизнь и философская деятельность"
Автор книги: Е. Орлов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Рядом с этим самообладанием стоит его мужество. Как мы выше уже указали, он далеко не был нечувствителен к удовольствиям и страданиям нашего бренного тела; напротив, он охотно шел навстречу первым и не менее охотно избегал вторых. Но он умел придавать им должную цену по отношению к духовному своему миру, и там, например, где наслаждения грозили чистоте его нравственного самосознания или страдания являлись неизбежным условием сохранения ее, он умел спокойно, без дальнейших размышлений, без внутренней борьбы уклониться от одних и встретить лицом к лицу другие. Такого рода положения вовсе не представлялись ему дилеммами, как они представлялись и представляются большинству человечества: самой мысли о выборе не существовало для него, – тем менее о компромиссе. Отсюда-то его мужество, непоколебимое, спокойное, сознательное и, вместе с тем, без рисовки, которое с такою силою действовало на воображение его современников. Его хладнокровное и бесстрашное поведение на войне – в сражениях под Потидеей, Делием и других – вызывало всеобщее удивление и похвалы; но еще больше – его стойкость при столкновениях с народом и тиранами. Об этих двух замечательных случаях из его жизни стоит рассказать, так как они чрезвычайно ярко иллюстрируют данную выше характеристику Сократа.
В 406-м году, после длинного ряда неудач, афиняне, наконец, одержали при Аргинузах такую блестящую победу над лакедемонянами, что на радостях все поголовно рабы, состоявшие в экипаже флота, получили свободу и даже некоторые права гражданства. Ликование было всеобщее, но (увы!) оно вскоре было омрачено известием, что навархи (адмиралы) не только не собрали и не предали земле плавающие трупы убитых, но даже не позаботились о том, чтобы по окончании сражения подобрать увечных и раненых, предоставляя им погибать на обломках судов. Такая небрежность по отношению к последним была в то время не менее преступна, нежели теперь; но нужно еще вспомнить то религиозное значение, которое древние греки придавали обряду погребения умерших, – обряду, без которого душам последних приходилось скитаться по берегам Стикса без приюта и привета до скончания веков (вспомним, например, Софоклову драму “Антигона”, всецело построенную на этом поверье), чтобы реализовать хоть сколько-нибудь полно то огромное впечатление, которое это известие должно было произвести на Афины. От безграничной радости город сразу перешел к трауру; плач, жалобы и стоны наполнили воздух, и негодованию на победоносных, но преступных навархов не было пределов. Их вытребовали к суду, и народ, обезумевший от горя и поджигаемый интригами олигархической партии, настаивал, вопреки писаным законам конституции, на поголовном осуждении и наказании обвиняемых. Напрасно утверждалось, что это требование беззаконно, что оно идет вразрез с основными принципами гражданской свободы и что, наконец, имеются обстоятельства, извиняющие если не всех, то, по крайней мере, некоторых из злополучных навархов: народ неистовствовал и шумел, как расходившееся море, отказываясь выслушать обвиняемых и настаивая на немедленном и коллективном их наказании. Пританы – председательствующая триба – должны были сдаться на угрозы и, после некоторых размышлений, малодушно решили поставить на голосование вопрос о виновности навархов в желательном народу смысле; только один из них отказался дать свое согласие на такое незаконное действие суда: то был Сократ. Несмотря на дикие угрозы народа и общие клики бешенства и ярости, он спокойно, но решительно заявил свой протест против такого явно несправедливого и нелицеприятного поведения суда и оставил собрание, предпочитая встретить мучительную смерть от рук разъяренной толпы, нежели быть соучастником в преступлении.
Другой случай произошел двумя годами позже, когда афинским государством правили пресловутые тридцать тиранов. Захватив власть и укрепив ее за собою при помощи спартанских мечей, эта горсть аристократических якобинцев не замедлила удариться в террористическую вакханалию: конфискации имущества, тюремные заключения, ссылки, казни и прочие насилия сыпались градом на головы злосчастных демократов, и не было среди последних человека, выдающегося по своему влиянию или богатству, или убеждениям, который рано или поздно не пал бы жертвою исступленной реакции. Между прочим, боясь острого языка Сократа, они еще в начале своего правления издали указ, запрещавший философам обучать искусству аргументировать и спорить (эвристике), и наш философ чуть не поплатился за свое упрямство. Ввиду многочисленных казней Сократ однажды публично заметил: не странно ли, что в то время как пастухи, у которых стада почему-то уменьшаются, считаются негодными, – правители, при которых население также по каким-то таинственным причинам убывает, продолжают смотреть на себя как на людей способных и годных к взятой на себя роли? За это тираны призвали его к себе и, сделав строгое внушение, посоветовали ему держать язык за зубами и не употреблять впредь никаких иллюстраций и притч о пастухах, так как де, в противном случае, Сократ собственной своей персоной поспособствует уменьшению народного стада. Намек был достаточно ясен и циничен, но все же Сократ дешево отделался, – быть может, благодаря заступничеству Крития, главаря тридцати и бывшего слушателя Сократа. Но уже вскоре представился другой и более благовидный случай погубить мудреца: ему и четверым другим популярным горожанам поручено было отправиться на остров Саламин и привезти оттуда некоего Леона, демократа с большими средствами, бежавшего от преследований олигархов. Это была одна из обычных уловок хитрых правителей, старавшихся связать со своей судьбою сколь возможно больше людей, если не сочувствием, то своекорыстием, а если не последним, то хоть соучастием, вольным или невольным, в преступлениях, Сократ был слишком умен, чтобы клюнуть на такую грубую удочку, и слишком честен, чтобы играть роль, и вот в то время, как его товарищи беспрекословно повинуются гнусному приказу, он невозмутимо, как ни в чем не бывало, отправляется домой и спокойно ждет своей участи. Гибель его была неминуема, но, к счастью, вскоре камарилья была свергнута и Сократ был спасен.
Что в этих поступках Сократа поражает больше всего – это совершенное отсутствие драматических моментов, которые мы привыкли ожидать всякий раз, когда видим столкновение эгоистических интересов с требованиями долга или убеждении. Вы видите перед собою человека, для которого дилеммы со всеми их патетическими или сентиментальными аксессуарами не существуют. Сократ не раздумывает, не рефлексирует, не рассуждает, а просто в силу инстинктивного тяготения ко всему хорошему и честному избирает путь, на который ему указывает совесть и на который он вступает с таким же легким сердцем, как если бы его ждали розы, а не смерть. Современное человечество, исковерканное своим историческим воспитанием с его уродливой обстановкой и ложными, больными идеалами, пожалуй, не в состоянии по достоинству оценить красоту этой простой и цельной натуры; но античному обществу, еще не дошедшему до духовного раздвоения и не видевшему красоту нигде, кроме как в здоровой и совершенной гармонии всех сил человеческого существа, личность Сократа должна была казаться высшим проявлением божественного гения νοδζ, одним из совершеннейших идеалов счастливого человечества. В этом именно смысле Сократ был исключительным явлением даже в глазах своих современников: “Вы можете себе легко вообразить, – говорит Алкивиад, – что, например, Бразид и другие полководцы походили на Ахилла, а какой-нибудь Перикл – на Нестора и Атенора. То же самое можем мы сказать о любом великом человеке, но не о Сократе: этому странному существу вы не найдете никого другого, хоть сколько-нибудь подобного, – ни среди тех, которые живут ныне, ни даже среди тех, кто жили до нас”.
После таких отзывов процесс Сократа с его обвинениями в растлении общественной морали нас ставит в тупик, но об этом мы поговорим в заключительной главе; теперь же скажем два слова о его пресловутом “демоне”, без чего этот очерк мог бы показаться неполным. Очень часто, когда Сократ предпринимал решение, либо важное само по себе, либо шедшее вразрез с ожиданиями его друзей, он ссылался на голос “демона” δαιμόνιον, запретивший ему поступить иначе, как он поступил (голос этот только возбранял, но никогда не побуждал). Больше мы об этом ничего не знаем; но несмотря на это или, быть может, именно поэтому уже с давних пор придумывались гипотезы о том, что бы такое этот демон мог собою обозначать. Теории существуют разные, вероятно, столько, сколько было голов, задававшихся разрешением этого вопроса. Одни считают этого демона ангелом-хранителем или, по крайней мере, гением Сократа; другие полагают, что то был голос его совести; третьи, в истом духе современной психопатологии, утверждают, что Сократ был просто-напросто одержим психозом, периодически подвергавшим его галлюцинациям, а четвертые совсем не верят в демонов и говорят, что ссылка Сократа на них была не больше, как желание помистифицировать почтеннейшую публику, – желание, вполне объяснимое его любовью к иронизированию. Мы не намерены своим собственным мнением еще больше увеличить число этих теорий, да оно и бесцельно: чем бы этот демон в конце концов ни оказался, оно нам нисколько не поможет ни полнее оценить личность Сократа, ни лучше понять его учение. Мы предоставляем поэтому читателю полную свободу выбирать между вышеуказанными теориями, равно как и выдумывать свою собственную: пусть он только помнит, что, каковы бы ни были его мнения на этот счет, они не будут ни основательнее, ни новее, чем сотни других, провозглашавшихся ex cathedra[1]1
с кафедры (лат.), в порядке поучения; обычно иронически, о манере высказываний, претендующих на непререкаемость.
[Закрыть] и иным путем.
ГЛАВА II
Источники. – Сократово сознание своего невежества. – Что такое знание для Сократа? – Этика и прочие науки. – Презрение к естественным и физическим наукам. – Исторический момент. – Крушение древнего строя и миросозерцания. – Роль софистов: их заслуги и недостатки. – Отношение к ним Сократа и исходная точка его философии. – Добродетель-знание. – Добродетель-благо. – Значение логических определений и их место в Сократовой системе. – Диалектический метод и эленх. – Иллюстрации Сократовых приемов. – Религиозные и политические убеждения Сократа
Приступая к обзору учения Сократа, мы в самом начале встречаем крупное затруднение. Сам философ, за исключением пары стихотворных переложений на Эзоповы темы, сделанных им за несколько дней до своей смерти, никогда в своей жизни не написал ни строчки, и все, что мы знаем о нем или о его учении, мы почерпнули, главным образом, из Ксенофонтовых “Воспоминаний” о Сократе и из диалогов Платона. Что касается первых, то они, при всей несомненной правдивости и честности автора, страдают большими недостатками: написанные уже после смерти Сократа, эти “Воспоминания” имели исключительной своей целью ответить на те обвинения, жертвою которых пал любимый учитель. Этим определяется не только характер, но и содержание и объем сочинения. “Воспоминания” касаются личности философа лишь настолько, насколько это необходимо для реабилитации памяти покойного, а учение его излагается лишь в том объеме и тех аспектах, которые имеют отношение к вопросам о неверии и развращении молодого поколения. Кроме того, вся книга отличается чрезвычайной поверхностностью и мелкотою: мещанский и близорукий ум Ксенофонта, по-видимому, был неспособен проникнуть за внешние покровы Сократовой души в глубь ее изгибов, где билась горячей волною его великая, бессмертная мысль. При таких условиях мы вряд ли сумели бы составить себе более или менее отчетливое представление о Сократе и его деятельности, если бы нам на подмогу не явился другой ученик Сократа, Платон, один из гениальнейших мыслителей, какого мир когда-либо видел. Про него уже нельзя сказать, что он не понимал своего учителя; но, к сожалению, и он, взятый сам по себе, не мог бы служить вполне надежным путеводителем. Платон, как известно, сделал Сократа носителем и выразителем своих, Платоновских, идей: в диалогах его фигурирует не он сам, а Сократ, который ведет разговор, развивает Платоновские доктрины, аргументирует, защищает, опровергает противников и пр., так что иногда очень трудно, а подчас прямо-таки невозможно различить, где говорит Платон устами воображаемого Сократа и где говорит исторический Сократ сам. Тем не менее, в общей верности набрасываемого портрета и в подлинности там и сям обрисовывающейся Сократовой доктрины мы не имеем основания сомневаться, – особенно в тех случаях, когда показания Платона совпадают с Ксенофонтовыми и не представляют внутренних противоречий. Знаменитая “Апология Сократа” и, в несколько меньшей степени, диалоги “Федон” и “Критом” составляют для нас главные авторитеты, и при дополнении их сведениями, взятыми у Ксенофонта, нам кое-как удается, – далеко не полно и не совершенно, но все же в общем правдиво, – составить себе некоторое представление о том, чему учил афинский мудрец.
В “Апологии” Сократ рассказывает, как один из наиболее горячих его поклонников Херефонт отправился однажды в Дельфы спросить оракула, кто самый мудрый из всех людей. Пифия ответила, что мудрее всех, без сомнения, Сократ, и последний был так поражен, что готов был не поверить божественным словам. Однако он вскоре отогнал нечестивые эти помыслы и решил как-нибудь добиться смысла этого загадочного ответа, так как сам лично он сознавал себя не только не мудрецом, но прямо-таки круглым невеждою. Он начал сравнивать себя с другими людьми: он отправился к одному из выдающихся общественных деятелей, почитаемому всеми за чрезвычайно умного и знающего, и вступил с ним в разговор. Увы! он скоро должен был признать, что тот, в сущности, ничего не знает, как и он сам, и что только другие почему-то почитают его за мудреца. “Тогда я оставил его и подумал: хотя я и не верю, чтобы кто-нибудь из нас обоих действительно знал, что такое истина, добро и красота, но за мною все-таки то преимущество, что в то время, как он ничего не знает, но думает, что знает, я точно так же ничего не знаю, но вместе с тем сознаю, что я ничего не знаю”. Он идет к другому и третьему деятелю подобной репутации, но находит везде одно и то же самомнение невежества. Тогда он обращается к поэтам, этим толкователям законов божеских и человеческих, и предлагает им объяснить некоторые отрывки из их же сочинений. И что же? “Поверите ли, мне почти стыдно говорить об этом, но я должен признаться, что вряд ли есть здесь (в зале суда) человек, который не мог бы лучше истолковать поэзию, нежели поэты сами. И я понял, что не мудростью творят поэты поэзию, а каким-то особенным духом и вдохновением: они, подобно прорицателям, произносят прекрасные вещи, не понимая их смысла”. И, что всего хуже, эти люди не только не мудры, но еще, “опираясь на свою поэтическую славу, претендуют на исключительную мудрость даже в таких вещах, которые к сфере их деятельности вовсе не относятся и которым, в сущности, они совершенно чужды”. После этого Сократ идет к художникам и ремесленникам, но здесь встречает то же самое: хотя в своей специальности они и мудрее прочих людей, но они разделяют общее с поэтами заблуждение, считая себя мудрыми даже в таких вещах, о которых они не имеют ни малейшего представления. Тогда только выяснился Сократу смысл Аполлоновых слов: он такой же невежда, как и все прочие люди, но он уже тем мудрее их, что сознает это самое свое невежество.
Этот рассказ, претендующий указать на происхождение сократовской философии и деятельности, не верен ни исторически, ни психологически. Исторически – потому, что не только Херефонт, как видно из рассказа, был ученик Сократа, и последний, стало быть, уже начал свою философскую деятельность, но и слава философа должна была уже к тому времени значительно распространиться так, чтобы у Херефонта могла зародиться мысль сравнить своего учителя с прочими современниками. Рассказ неверен и психологически, так как для того, чтобы судить о невежестве других и своем, Сократ уже должен был знать, что такое мудрость, каковы ее признаки и каково ее мерило: без этого он не мог бы констатировать ее присутствия или отсутствия ни в себе, ни в других. При всем том этот рассказ имеет для нас первостепенное значение: он сразу раскрывает перед нашим взором основной характер и основную точку зрения Сократовского миросозерцания. В самом деле, в силу чего находит он этих людей – общественных деятелей, поэтов и ремесленников – невежественными, а потому немудрыми? Он готов признать, что первые довольно успешно правят государством, что вторые пишут прекрасные поэтические произведения и что третьи даже лучше, нежели он сам, Сократ, понимают свое дело, – словом, что каждый из них обладает довольно сносными знаниями в своей специальности и профессии; какие же требования, в таком случае, он предъявляет им, что неумение удовлетворить им он признает за невежество? Ответ на этот вопрос указан самим Сократом: “хотя я и не верю, чтобы кто-нибудь из нас обоих действительно знал, что такое истина, добро и красота” и т. д. Истина, добро и красота – эта этическая троица греков – является во мнении Сократа единственно важным предметом изучения и знания, без чего человек, как бы сведущ он ни был в других областях, есть не что иное, как невежда. И именно в силу того, что все прочие люди, не зная – как и он сам – что, собственно, такое эти истина, добро и красота, вместе с тем даже не сознают самой важности такого знания и потому не замечают в себе столь существенного пробела, Сократ пришел к заключению, что он все же мудрее их. Другими словами, уже одно то, что он, единственный из всех людей, сознал ценность этического знания, дает ему право считать себя мудрейшим на земле, несмотря на то, что этих знаний у него, как и у тех, еще нет: он богаче всех других тем, что знает, чего ему недостает; они бедны, как жалкие рабы, тем, что не сознают даже того, чего у них нет, и в то время, как он знает, к чему следует стремиться как к истинной цели жизни, все прочее человечество как бы осуждено на вечное прозябание в беспросветном мраке. Таков истинный смысл Сократовского сознания своего невежества: это не было скромное или смиренное паче гордости заявление своего незнакомства с теми или другими отраслями знания, как это принято думать, а грандиозное завоевание человеческого разума, – целый переворот в системе философского мышления. Нравственная сторона человеческого существа была поставлена этим в центре вселенной, и изучение ее во всех положениях и отношениях провозглашено самым ценным и важным делом в области нашей познавательной деятельности. Вся предыдущая философия, начиная от Фалеса, занималась исключительно вопросами космологическими, ища то в области математики, то физики, то психологии ключ к уразумению мироздания, его законов, его происхождения, его общего смысла. Сократ же первый, – если не считать попыток Элеатской школы, более важных исторически, нежели с точки зрения развития мысли, – стал настаивать на изучении человеческого духа как важнейшего объекта нашего познания, – и в этом заключается его бессмертная заслуга перед европейской философией.
Вместе с тем, в силу того чрезмерного увлечения своими идеями, которому так часто предаются новаторы, Сократ делал нравственность не только важнейшим, но и единственным предметом, достойным изучения. Труды современных и других философов казались ему смешными. Неужели, – говаривал он, намекая на занятия их астрономией и космологией, – неужели эти господа считают свое знакомство с человеческими делами настолько полным и совершенным, что находят возможным заниматься небесными? Ему даже казалось непонятным, каким образом вообще возможно дойти в этих областях до истины, когда нет ни одного положения, на котором все философы сходились бы и смотрели как на установленный факт: одни считают, что все существующее – едино, а другие, – что оно бесчисленно; одни, – что все движется, а другие, – что все находится в абсолютном покое; одни, – что в мире все рождается и погибает, а другие, – что ничто не рождается и ничто не погибает. Где же, в таком случае, искать правды? А если даже она и будет найдена, то кому и какая от этого польза? Разве эти ученые смогут произвести дождь? или изменить порядок времен года? или удлинить день и укоротить ночь? Нет, решает Сократ, все это – мнимое и бесцельное знание, которое нисколько не касается человека и ни на волос не увеличивает его счастия. Истинная и реальная наука – та, которая занимается вопросами животрепещущего, земного, человеческого интереса, как, например, вопросами о том, что есть благочестие и что нечестивость, что – справедливость и что несправедливость, что храбрость и что трусость, что есть государство и что государственный человек, и т. д., и т. п.
Нам теперь нетрудно понять, как глубоко ошибался Сократ в своих взглядах на математические и естественные науки: отделенные от него опытом многочисленных поколений и вековою работою мысли на почве научных изысканий и философских исследований, мы в состоянии теперь видеть, как плодотворны были труды тех ученых, которых афинский мудрец не стеснялся сравнивать с сумасшедшими, не понимающими, чего им надо и к чему они стремятся. Истина в этих областях не только была найдена, но и легла в основу всей нашей жизни, отдав в наше распоряжение могучие силы природы и окружив нас тем материальным комфортом, который так резко отличает наш век от всех предшествовавших. Мало того: это самое “мнимое и бесцельное знание”, которое, казалось, “нисколько не касается человека”, является, как мы теперь все более и более убеждаемся, необходимым условием или, скорее даже, базисом для построения тех наук общественно-этического характера, которые Сократ признавал за единственно реальные и полезные. Мы уже ясно видим, что без знания законов, которым подлежат явления в мире физическом, мы не в состоянии сделать ни одного правильного шага по пути завоевания истины в области социальных и нравственных отношений и что, следовательно, как бы прав ни был Сократ, утверждая, что самым важным предметом науки должен быть сам человек в его отношениях к другим себе подобным, он все же глубоко заблуждался, полагая, что эта наука может быть разработана и построена независимо и раньше всех прочих, – хотя бы то были астрономия или космология. Все попытки, которые до сих пор делались в желательном Сократу направлении, – попытки, в которых нередко принимали участие величайшие умы человеческой расы, – оканчивались всякий раз если не плачевно, то бесплодно, и только теперь, когда высшие отрасли естественных наук принимают все более и более строго философский характер, мы в состоянии приблизиться к тому конкретнейшему из конкретных предметов научного исследования, каким является психический и нравственный мир человека.
Все же, несмотря на всю свою незрелость и несостоятельность, Сократовы взгляды на сравнительную важность тех или других наук имеют за собою огромную долю исторической правды: его устами говорила эпоха, и ее-то нам нужно очертить, чтобы понять это резкое утверждение этики как науки par excellence.[2]2
по преимуществу (франц.).
[Закрыть]
То было время всеобщего разрушения, когда старые устои афинского общества впервые стали качаться от размаха освобожденной персидскими войнами мысли. Коренное изменение в общественно-политических отношениях страны – изменение, выразившееся в крушении старого аристократического порядка и замене его демократической конституцией, – было лишь сигналом к массовому восстанию против всей совокупности понятий и идей, существовавших доселе как незыблемые истины. Жизнь Афин, как и всех гражданских общин древности, покоилась в гораздо большей степени, нежели жизнь современных обществ, на целой системе религиозно-нравственных и политических понятий, выработанных трудами многочисленных поколений и передаваемых из века в век. Эти освященные традициями понятия казались чем-то стоящим выше человеческого разума: они считались божественного происхождения, и, как таковые, вечными, непреложными, неприкосновенными. Но развитие на почве реальных условий жизни демократического духа с его требованиями личных и равных прав для каждого отдельного члена общества нанесло смертельный удар всем этим устаревшим основам социальной жизни: гражданская личность, достигнув своего самосознания, не остановилась перед древними понятиями и верованиями, которые стояли на ее пути к занятию полноправного положения в обществе. Она пробила в их стене брешь и тем самым навсегда разрушила те чары, которыми, казалось, они были окружены. Личность сознала себя державною не только в сфере общественно-политических, но и в сфере нравственно-религиозных отношений, и унаследованные традиции потеряли в ее глазах свое прежнее обаяние. Дерзкою рукою было сдернуто с них покрывало, – и вместо страшного крушения всего социального здания, как то предсказывали консервативные Кассандры, перед пылающими энергией взорами смельчаков предстали во всей их уродливой наготе старые, сгнившие подпорки, еле-еле выдерживающие тяжесть строения. Сердце забилось в ускоренном ритме, кровь заволновалась и заходила с лихорадочной быстротою, и мысль, вздрогнув, зашевелилась живей и сильней. Одна за другою прадедовские идеи стали призываться на суд критического разума, и одна за другою они признаны были негодными. Разрушение было полное, обломки усеяли весь пол общественного здания, и над ними в каком-то восторженном опьянении высились могучие фигуры бойцов.
Читатель узнает знакомую картину: она не раз появлялась на подмостках европейской, да и нашей собственной истории. Это – эпоха подведения великих итогов своего национального прошлого и сметания в кучу всего того негодного сора, который образовался от векового гниения общественных устоев. Деятелями этой эпохи были те самые софисты, “развратители афинского общества”, пороки которых мы со времени Платона перечисляли на всевозможных языках с неутомимостью и самоуверенностью, достойными лучшего дела. Размеры этого очерка не позволяют нам входить в опровержение ходячих мнений об этом “столь оклеветанном племени людей”, как их называет Льюис: мы отсылаем читателя за этим к Гроту; здесь же мы укажем лишь на их деятельность и отношение к ним Сократа.
Софисты являются энциклопедистами V века до Р. X. с тою, однако, особенностью, что они были не только теоретическими мыслителями, но и практическими деятелями, которые с киркою и заступом в руках ломали обветшалое здание. Под ножом их скептического разума старые понятия разрушались одно за другим: прежние истины оказались ложью, старые обычаи – творением хитрых и своекорыстных правящих классов, а древние общественные узы – одною лишь тиранией. Личный разум индивида занял верховное место как в политике, так и в морали, и все, что не в состоянии было оправдаться на суде этого разума, признано было обманом. “Человек есть мера всех вещей”,– гордо провозгласил Протагор, наиболее блестящий вождь софистов: не только свойства, но и самое существование вещи зависит от суждения разумной личности. В этом мире все относительно и вещи имеют значение лишь постольку, поскольку они признаются за таковые мыслящим субъектом. Объективная истина, таким образом, исчезает, и на ее место становится субъективное наше мнение о ней. Этот принцип и есть та единственная связь, которая соединяла целый ряд людей с разнообразным родом деятельности и профессий в одну общую школу софистов, и из него вытекал тот крайний скептицизм, которому другой выдающийся мыслитель того времени Горгий дал выражение в своих знаменитых положениях о том, что ничто не существует, что если бы что-нибудь и существовало, то мы все-таки не могли бы его познать, и что, наконец, если бы мы и познали, то мы все же не могли бы передавать наше знание другим. Общий смысл довольно ясен: и здесь на место объективных вещей ставятся индивидуальные мнения о них, уже одним своим разнообразием доказывающие нереальность этих вещей и невозможность во всяком случае какого бы то ни было знания их. Такое крайнее развитие индивидуализма, такой, если можно так выразиться, философский анархизм, был лишь логическим выводом из тех посылок о державности личного разума, во имя которых эти деятели разрушили древний мир понятий и отношений. Но именно эта сильная сторона была вместе с тем и слабою. Общественное сознание не может долго жить одним отрицанием, и деятельность общества лишь на короткое время в состоянии ограничиться одним разрушением: как только поле очищено от старого хлама, на сцену появляются иные запросы, имеющие своей целью уже не дальнейшее разрушение старого, а созидание нового. Горе тому, кто, увлекшись своей работой или не поняв изменившегося характера общественных нужд, не сумеет остановиться вовремя и станет продолжать дело разрушения! Сделавшись живым анахронизмом, он не только навлечет на себя насмешки, а потом ненависть со стороны тех, кто трудится над созиданием, но действительно выродится в конце концов в болтуна или вандала, против которого будет возмущаться общественная совесть. Именно такова была судьба позднейших софистов, которых и имели в виду Платон и Аристотель. Не Протагор и не Горгий служили им мишенью, а те эпигоны их, которые пережили самих себя и превратились в своекорыстных отрицателей без убеждений и без совести. Этих-то эвристиков, безнравственных спорщиков о чем угодно и как угодно, драпировавшихся в устаревший и более уже не идущий им плащ софистов, и обессмертили вышеупомянутые писатели, совершив, однако, непростительную ошибку тем, что не провели достаточно ясной грани между обоими поколениями софистов: до – и послесократовских.
Во всем этом Сократ сыграл главную роль: ему греческая мысль была обязана своим поворотом в сторону положительного построения, и, стало быть, он был виновник нравственного банкротства софистов и гибели репутации их. С инстинктом натуры глубокой и уравновешенной он не мог удовлетвориться одним отрицанием, и тенденция софистических учений казалась ему тем опаснее, что развитие их в теории и на практике не встречало на своем пути никаких преград. В самом деле, если, говоря словами Целлера, “вечной и незыблемой истины не существует, то не может существовать и вечного и незыблемого закона; если человек в своих представлениях является мерою всех вещей, то он неизбежно должен стать мерою и всех своих поступков; и если для каждого отдельного человека только то истинно, что ему кажется таковым, то для него и справедливое и хорошее вскоре явится не чем иным, как то, что ему кажется таковым. Другими словами, всякий человек имеет естественное право следовать своему произволу и желаниям, и если закон и обычай ставят ему на этом пути те или другие преграды, то получившееся в силу этого отклонение от естественного права есть принуждение, которому никто не обязан повиноваться, кто только обладает достаточной силою, чтобы устранить или обойти его”. Справедливость требует нас признать, что такого рода ницшеанство никогда не проповедовалось ни одним из известных софистов – современников Сократа, а Калликл, который действительно развивал подобную противообщественную доктрину, не только не был софистом, но, как свидетельствует сам Платон, был даже врагом их. Тем не менее, такого рода положения казались или могли казаться положительным умам, вроде Сократова, весьма возможными выводами из Протагоро-Горгиевых тезисов, и немудрено поэтому, что наш (философ решил им противодействовать, выдвигая против их бесконечного отрицания новую философию, построенную на положительных основаниях. Эта философия должна была быть этикою, потому что в области этических понятий и отношений царил хаос.