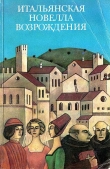Текст книги "Амето"
Автор книги: Джованни Боккаччо
Жанры:
Европейская старинная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Джованни Боккаччо
Амето
Комедия флорентийских нимф
Здесь начинается комедия флорентийских нимф
I
Разнообразные события, необычайные превратности жизни, изменчивые милости фортуны постоянно вносят тревогу и томление в души живущих: оттого-то одним отрадны рассказы о кровопролитных битвах, другим – о честолюбивых победах, третьим – о мудром заключении мира, а четвертым – о любовных делах. Одни – таких много – с охотой слушают о тяготах и бедствиях Кира, Персея[1]1
Персей – последний македонский царь, разгромлен римлянами в 168 г. до н. в.
[Закрыть], Креза[2]2
Крез – последний лидийский царь, пленен Киром в 546 г. до н. э.
[Закрыть] и прочих; ведь если знаешь, что не тебе первому и единственному пришлось худо, легче сносишь собственные невзгоды. Другие, удачливые в стяжании благ, горделиво тешат ум рассказами о великих подвигах Ксеркса[3]3
Ксеркс – персидский царь (485—465 гг. до н. э.); предпринял поход на Грецию.
[Закрыть], богатствах Дария[4]4
Дарий – персидский царь (521—485 гг. до н. э.); законодатель и полководец.
[Закрыть], щедрости Александра[5]5
Александр – Александр Македонский (336—323 гг. до н. э.).
[Закрыть], счастливом возвышении Цезаря и, точно для того, чтобы потом рухнуть с большей высоты, постоянно устремляют помыслы к высокому, избегая смиренного. А третьи, раненные двоевидным сыном Венеры, обретают утешение или отраду в любовных историях древности – в который раз с вожделеющим сердцем похищают Елену, разжигают любовью Дидону, оплакивают Гипсипилу и замышляют обмануть Медею.
Но павший не подымется, найдя товарищей по несчастью; время, как ни медли, не остановится; взнесенный фортуной не удержит своего счастья, цепляясь памятью за чужое; и только читая о прошлой любви, с тем большей охотой разжигаешься новой любовью: вот почему я, с должным почтением служа Амуру, и никому более, воедино собрал здесь разрозненные усилия, в надежде, что, обдумав мой труд, никто не станет хулить восхваляемого мною. Сострадательный сын Цитереи[6]6
Сын Цитереи – сын Венеры, Амур.
[Закрыть], в ее водах закаляющий стрелы, извлекает из жаркой груди людей вздохи иные, нежели Рамнузия[7]7
Рамнузия – эпитет Немезиды, богини возмездия; у Боккаччо Рамнузия отождествляется с Фортуной.
[Закрыть]: те вздохи вызваны злополучной долей, эти надеждой на желанную радость; те свидетельствуют о постылой холодности, эти о любовном жаре. Амур – наставник и учитель жизни, он изгоняет из сердец легкомыслие, низость, жестокость и алчность и бдительно заботится о том, чтобы его подданные были деятельны, великодушны, щедры и украшены любезностью; всех, кто служит ему верой и правдой, он приводит к радостному концу, осияв лучами своей звезды, и вознесенные им не боятся крушений.
Много похвал сведя воедино, скажем, что силой его удерживается в движении небо, его вечным законом направляются звезды, а в живущих укрепляется воля к добрым делам. О любви с охотой слушал бы Крез в огне, Кир в крови, Кодр[8]8
Кодр – вошедшее в поговорку имя бедняка из третьей сатиры Ювенала; возможно, Боккаччо смешивал его с Кодром, легендарным царем Аттики.
[Закрыть] в бедности, а Эдип в вечном мраке[9]9
…Эдип в вечном мраке. – Имеется в виду самоослепление Эдипа.
[Закрыть]. И Марс, внимая любовным историям, сложил бы оружие или, если надо, пустил в ход с большим рвением; Паллада и та, слушая о проделках Амура, порой так смягчается душою, что прерывает излюбленные занятия; и мощная Минерва укрощается, слушая о любви; и холодная Диана теплеет, и Аполлон пламеннее шлет стрелы. Что же еще? Сатиры, нимфы, дриады, наяды и прочие полубоги, служа Амуру, обретают благообразие, – словом, его дела всем по душе. Найдется ли здравый умом человек, который ради иной заботы откажется служить под началом такого вождя? Нет, конечно, а если найдется, то уж, верно, это буду не я. А раз я ему служу, как я и делаю в угоду своей душе ради дамы, прекраснее коей не создала ни мудрая природа, ни изощреннейшее искусство, то мне пристало воспеть не триумфы Марса, и не разнузданность Вакха, и не изобилье Цереры, а победы моего властелина. Ими полнится земля и небо; счесть их труднее, чем звезды или морской песок.
Поэтому голосом, подобающим моему скромному состоянию, не боясь упреков, не как поэт, но как влюбленный, воспою я свою даму. И, обойдя молчаньем то время – как будто его не бывало, – когда Любовь, может быть несправедливо, казалась мне мученьем, – чтобы одарить надеждой тех, кому она мученье теперь, и возрадовать тех, кто счастливо владеет сим благом, – я на свой лад расскажу о сокровищах, какие мне, недостойному, были явлены на земле. И да внемлют мне любящие, до прочих мне нет дела, пусть предаются своим заботам.
II
Орфея встарь подвигнувшая сила
сойти за Эвридикою в Аид
желанную подругу возвратила
тому, кто улестил угрюмый Дит
своей кифары сладостным звучаньем;
святая сила мне теперь велит,
исполнившись и дерзостью и тщаньем,
твой, Цитерея, восхвалить завет
и твой чертог прославить величаньем.
Во имя Неба, где среди планет
сияешь ты, прекраснее стократно,
чем та, которой Феб[10]10
…та, которой Феб… – Луна, отражающая свет Солнца (Феба).
[Закрыть] дарует свет;
и ради Марса, чья беда понятна,
и бедного Энея, и того,
кто всех тебе милее[11]11
…кто, всех тебе милее… – Адонис, возлюбленный Венеры, сын Мирры и Кинира, растерзанный вепрем.
[Закрыть], вероятно, —
от Мирры получила ты его;
и в честь огня святого, чей служитель,
пою причину пыла моего,
когда твоя счастливая обитель
за Солнцем, где живет могучий бык,[12]12
Могучий бык – Юпитер, под видом быка похитивший Европу.
[Закрыть]
Европы легковерной похититель,
ты позаботься, чтобы я постиг
с достойной силой сил твоих истоки,
и сообразный чувству дай язык,
который бы достигнул подоплеки
и описал божественность твою,
дающую столь дивные уроки.
Еще Эроту славу воздаю
и стрелы золотые и победу
над Аполлоном радостно пою;
прошу его, счастливца-непоседу,
я ради нимф (но вряд ли хоть одна
такому приглянулась сердцееду
или в любовный список внесена),
молю его и нощно я и денно
в моем убавить сердце пламена
от пылких стрел – иначе непременно
зажженный ими сладостный недуг
меня дотла испепелит мгновенно.
Пускай уж лучше повествует дух,
не побежденный страхом и свободный,
то, чем пленились и глаза и слух.
А ты, что красотою благородной
нежна, ясна, прелестна и славна,
благая донна, светоч путеводный,
кому душа верна и предана
настолько, что не мыслит о награде
и счастьем среди мук упоена,
моли богов – твоих молений ради
все ниспослать готовы небеса;
но ты проси не о земной усладе,
а чтобы тот, кому твоя краса
огнем неутолимым сердце гложет,
твои сумел восславить чудеса.
Ужели кто из олимпийцев может
божественной такой не внять мольбе?
Любой бессмертный тотчас же предложит
среди бессмертных место и тебе,
и ты тогда из горнего чертога
ко мне склонись и призови к себе;
хоть значу я не очень-то и много,
но без тебя мне и надежды нет;
пребудь со мной, опора и подмога,
подай мне благодетельный совет,
а я, руководим твоим указом,
прославлюсь между тем на целый свет.
Ты видишь – пламенеет пылкий разум
и ждет поддержки, к прочим божествам
он равнодушен, раб твоим приказам;
и, уподобив дивным волшебствам,
я помощь ту почту небесным даром
и силу страсти передам словам;
и докажу, что скаредно недаром
Юпитер прочих красотой дарил,
глаза твои переполняя жаром,
и расточителен в щедротах был,
тебя даря прелестным окруженьем,
которое я, недостойный, зрил,
меж тем как птицы дивным песнопеньем
с цветущих лавров оглашали луг,
и был изящен речью и движеньем
тебе во всем сопутствующий круг,
вкушающий беспечности щедроты,
в делах любви исполненный заслуг;
и вот я жду благой твоей заботы,
чтоб крепче сладилась строка к строке,
а слогу моему прости просчеты —
пишу таким, какой мне по руке,
себе ища твоей хвалы сердечной,
тебе – хвалы на всяком языке
во славе неземной и вековечной.
III
В Италии, затмевающей блеском дольние страны, лежит область Этрурия, ее средоточие и украшение, а в ней – богатой городами, славной благородными племенами, повсюду украшенной замками и нарядными селеньями, обильной тучными нивами – в срединной и счастливейшей части ее благословенного лона к самым звездам вознесся плодородный холм, древними прозванный Коритом[13]13
Корит – Имеется в виду современный Фьезоле.
[Закрыть] еще до того, как взошел на него Атлант[14]14
Атлант – титан, легендарный основатель Фьезоле.
[Закрыть], первый его житель. Склоны холма меж высоких круч густо поросли лесом из буков, елей, дубов, простирающимся до самой вершины. Справа от него бежит по камням светлый ручей, рожденный в благодатных недрах соседних гор, говором струй оживляющий долину, куда прибыв, после недолгого бега теряется он вместе с названием в водах Сарно. В лесных рощах по склонам Корита таятся отрадные поляны, – прохладные тени и рыщут хищные, быстрые, свирепые звери; многоводные ключи в разных местах орошают свежие травы. Там скитался молодой охотник Амето, навещая фавнов и дриад, обитателей чащ; сам, должно быть, происходя от древних жителей окрестных холмов, как бы памятуя о кровном родстве, он оказывал почести лесным божествам; за то и они дарили его покровительством, когда, одержимый охотничьим пылом, он преследовал в дебрях пугливых зверей, пока Аполлон пребывал высоко над землей. Редко случалось так, чтобы примеченный им зверь – благодаря ли быстроте погони или хитроумным уловкам – не был ранен его луком или настигнут собаками либо, изнемогший, не попал в засаду или не запутался в тенетах; оттого всякий раз Амето являлся к жилищу, отягощенный добычей. Однажды, преуспев больше обычного в излюбленной забаве, радостный, со всех сторон обвешанный дичью, он возвращался со сворой домой и, сбежав по склону холма, очутился в приятной долине, близ того места, где пресекаются струи Муньоне; здесь, истомленный долгим путем, тяжкой ношей и гнетущим зноем, он сложил под раскидистым дубом богатый трофей, простерся всем телом на молодой траве и подставил загрубелую грудь мягким дуновениям ветерка; с лица отер грязный пот жесткой ладонью, пересохшие губы увлажнил росистой зеленой листвой и, вновь обретя бодрость, стал подразнивать собак, то одну, то другую, и с ними кататься по лужайке; потом вскочил на ноги и, перебегая с места на место, принялся таскать их которую за загривок, которую за хвост, которую за лапы; тотчас резвая свора вцепилась в него со всех сторон и не раз повергала в гнев, вырывая клочья небогатой одежды; потом затеял новую потеху: то повалит собак навзничь, то им даст себя повалить. И так в забаве проводил он время – а жар все не спадал, – когда до его слуха донесся с ближнего берега прелестный голос, певший неведомую песнь. Немало тому подивившись, он подумал:
«Не боги ли это сошли на землю, сегодня как раз тому были предвестья, но я им не поверил: рощи больше обычного полны были дичью, Феб жарче изливал на землю лучи, ветерок скорее прогонял истому, травы и цветы казались пышнее, возвещая их приближенье. Должно быть, разомлев от зноя, они, как и я, избрали поблизости место для небесных услад, звуком голоса посрамляя земные. Как бы мне хотелось взглянуть на них, узнать, так ли они прекрасны, как говорят люди. Пойду взгляну, каковы они, пусть солнечные лучи направят меня; а если у них нет дичи, я умилостивлю их, щедро поделившись своей, лишь бы они ее не отвергли».
Насилу утихомирив собак, одних лаской, других грозным взглядом, окриком и дубиной, он склонил голову к левому плечу, напрягая слух, постоял, послушал и вернулся к собакам; соединив их сворой, ремнями привязал к соседнему дубу; взял в руки суковатый посох, на котором, по обыкновению, носил за плечом добычу, облегчая себе тяжелую ношу, и направил стопы в ту сторону, откуда донесся сладостный голос; устремив перед собой взгляд, еще прежде, чем светлые воды ручья, он увидел толпу юных дев на пестреющем берегу, под сенью приятных кустов, меж цветами и высокой травой; из них одни бродили в ручье, обнажая ступни в мелких водах, другие, отложив охотничьи луки и стрелы, приклоняли к воде разгоряченные лица и умывались, погружая белоснежные руки в прохладные струи, третьи, позволяя ветерку проникать под одежды, сидели на траве, внимая самой радостной из подруг, чью песнь, прежде достигшую его слуха, тотчас узнал Амето. Только он их завидел, как, в уверенности, что перед ним богини, боязливо отступил и упал на колени, с перепугу не зная, что и сказать. Тут собаки, лежавшие подле нимф, вскочили, приняв его, верно, за зверя, и ринулись к нему с громким лаем. Схваченный ими Амето, видя, что бегством не спасешься, как мог, отбивался от их клыков, помогая себе руками, посохом, бранью, но свора, привыкшая к женственным звукам, от его голоса только пуще свирепела, донимая его, полуживого от страха; вспомнив об Актеоне, он уже ощупывал лоб, ища рога, и клял обуявшее его дерзостное желанье увидеть бессмертных богинь. Но тут нимфы, потревоженные в своих забавах яростным лаем, поднявшись, звонкими голосами уняли буйную свору и с ласковым смехом, разобрав, кто он такой, утешили и ободрили Амето; приветив его, они возвратились на прежнее место и продолжили песнь:
IV
Кефис[15]15
Кефис – река в Беотии; здесь: божество этой реки.
[Закрыть], текущий в Аонийском крае,
то прямо, то излучины плетя,
извивами приятными играя
и волны обольстительно катя,
с невиданным до сей поры уменьем
Лириопею[16]16
Лириопея – нимфа, любимая речным богом Кефисом, мать Нарцисса (см. Овидий, Метаморфозы, III, 339 и ел.).
[Закрыть] совратил, шутя,
и так он воспылал к ней вожделеньем,
что отнял девственность, мольбам не вняв,
и пренебрег ее сопротивленьем,
и породил меня; среди дубрав
ручьям я поклоняюсь и потокам
и чту в них средоточье отчих прав;
к тому же, наклонясь над водотоком,
своей красой любуюсь – всякий раз
себя увидя в зеркале глубоком;
и норовлю украситься подчас
травинками, веночками, цветами,
милей от милых становясь прикрас,
И, часто пребывая над водами,
я причащаюсь их былых услад
и проникаюсь давними страстями,
которым не последовал мой брат,[17]17
…мой брат… – Нарцисс.
[Закрыть]
прекрасный видом и стрелок успешный,
без жалости отвергнувший подряд
всех, кто пылал к нему любовью нежной,
пока однажды, заглянув в поток,
не увидал себя и, безутешный,
в цветок не превратился; на цветок
печально глядя, я вздохну порою
от жалости, хоть неуступчив рок.
И голос тот не властен надо мною,
губительный для брата моего
(он сам, безумец, этому виною).
И как отрадой было для него
погоню учинять лесной дичине,
не упустив из тварей никого —
вот так и я, но по другой причине,
не оставляю лука, стрел, сетей,
работу задавая им доныне.
Изобретаю множество затей,
лесных богов тревожу поневоле
средь заповедных круч и пропастей;
и – чем он пренебрег в земной юдоли —
любовь и жажда нравиться другим
мне по сердцу и нравятся тем боле.
И будет всяк лелеем и любим,
кто красотой моей в душе пленится
и сердце мной наполнит, – и таким
то самое сторицей подарится,
что любящему слаще всех услад,
когда огнем влеченье разгорится.
И многих удостоятся наград,
кто служит мне достойно и умело,
как послужили те, кого стократ
за верный труд я наградить сумела
и радостных им уделила прав,
сподобив высочайшего удела.
Отцову страсть за образец избрав,
от матери я приняла в именье
изящный облик и приятный нрав.
Мое искусство и мое уменье
мне дали имя Лия; мир вокруг —
красы моей достойное владенье.
И тот огонь – мой сладостный недуг, —
каким пылать не устает Кифера,[18]18
Кифера – Венера.
[Закрыть]
и шумных празднеств нескончаем круг,
мной заведенных в честь твою, Венера.
V
Оправившись от испуга и снова заслышав ангельский голос, Амето робко приблизился к нимфам, обхватил ладонями суковатый посох, оперся на него косматым подбородком и в забытьи, точно грезя, устремил взор на певшую нимфу; давно уже смолк последний звук ее песни, когда он наконец очнулся, видом походя на того, кто, разбуженный посреди глубокого сна, озирается сонными очами, едва постигая, где он и что с ним; увидев его таким, подруги Лии насилу сдержали веселый смех, уже подступивший к глазам и готовый вырваться наружу. С трудом, опершись на крепкий посох, он устоял на ногах, однако не упал, а когда вовсе вернулся к яви, не говоря ни слова, уселся подле нимф на траву; отсюда, любуясь прелестной нимфой, резвящейся с подругами на пестром лугу, он видел, как лицо ее озаряется тем светом, каким сияет Аврора, когда Феб являет новое утро, как золотистые волосы, окруженные пышным венком из желуденосного дуба, прихотливо вьются по белоснежным плечам, и, неотрывно созерцая ее, все в ней находил достойным хвалы, а с тем вместе и грацию, и голос, и слова, и напев услышанной песни; и не без основания полагал в душе счастливцем того, кому дано обладать прелестью юной нимфы; пребывая в таких раздумьях, он и себя самого оглядел, как бы колеблясь, стоит или нет попытать с ней удачи; поначалу, сочтя себя во всем достойным, он возликовал, потом, осмотрев себя более придирчивым взглядом, упал духом, проклиная и грубую свою наружность, и некстати обуявший его восторг; но от этой мысли снова склонился к первой, а от нее опять ко второй, поочередно то кляня себя в душе, то восхваляя. А между тем, покуда одна мысль поборала другую, в нем возгоралось влечение к той, кого он ни разу прежде не видел; и чем больше он мнил, что желанию его не суждено достигнуть чаемой цели, тем сильней распалялся.
Новичок в подобных делах, не разумеющий, откуда исходит и кем подстрекаема подобная страсть, лицезреньем нимфы он пролагал путь неведомой дотоле любви и, ощущая, что в глазах ее черпает утоление своего желанья, оттого все больше и больше притягивался к ним взором, в надежде, может быть, созерцанием их облегчить муку, но лишь сильнее томился, все больше воспламеняясь; и сам не зная как, глазами впивая неизведанный огонь, весь им запылал. Как пламя, метнувшись, лизнет поверхность жирных предметов и, облизав, бежит прочь, чтобы тотчас вернуться снова, так Амето, возжегшись от созерцанья, только потупит глаза, как пламя кинется прочь, но стоит ему снова взглянуть, как оно ринется назад свирепее, чем поначалу. Прежде юноше не случалось остерегаться, как бы неугасимая любовь не полонила навечно жаркую душу. Вот отчего, перевернув в уме каждое слово услышанной песни и все их наконец постигнув, он одного не уразумел, кого же все-таки называли Амуром; про себя он так о том рассуждал:
«О небожители! Деля с сатирами кров, я немало наслышан от них о вашем могуществе, и каждый из богов хоть отчасти мне ведом; не пойму только, что это за Амура она воспела, и отчего ей так радостно, что он ее настиг; я его не видел, какими путями он ходит, не знаю; вас и Амура самого ради благости его молю, позвольте мне узнать, каков он. Я хочу понять, как понравиться той, чей взор обладал силой вызвать меня из прохладной тени, заставил позабыть охоту, оставить собак, лук и стрелы. Она одна мне по сердцу, не знаю, то ли называют Амуром или это лишь проявление его божественной силы, от него заемлющее имя. Коли таков Амур, значит, он мне милее всего на свете, а не таков, что ж, все равно она мне по сердцу».
Размыслив таким образом, он снова устремился к ней взглядом; но только встречал ее томный взор, как, разом устыдившись, потуплял глаза долу, полагая безумным желанье созерцать столь прекрасный предмет. И, однако, снова, понуждаемый тайным огнем, обращал к ней глаза, говоря: – О божество, обитающее в ее глазах, кто бы ты ни было, не донимай меня с такой силой: умерь натиск и пощади неопытную душу, если хочешь, чтобы я склонился к твоим усладам; тебе и так легко будет меня одолеть. А немного погодя, спохватившись, говорил:
– Увы, чему я поддаюсь? Разве я не слыхал, как тягостна власть дев, как они на миг не оставляют в покое тех, кто им подвластен? Да кто мне велит отречься от извечного блага, моей свободы? Ясный день и темная ночь мои, я, как хочу, употребляю время; сам решаю, дать ли отдых гибкому луку и стрелам, скрыться ли в тень или ее покинуть; и добычей от усердной охоты я распоряжаюсь по своей воле. На что я иду? На то, чтобы служить, сам не знаю кому. О жалостливые боги, отриньте от меня эту напасть; не мне, увальню, пристало служить столь прекрасной деве. Одежда моя убога, я рожден и вскормлен в лесах, пусть берутся за это те, кто более меня опытен в подобных делах. Одному Юпитеру она под стать красотой, он, наверно, из-за самых звезд расслышал ее песнь и теперь найдет способ ее прельстить куда проворнее и искуснее, чем я; мне в том отказано, что ему пристало. Нет у меня ни красоты Адониса, ни сокровищ Мидаса, ни кифары Орфея, ни воинственности Марса, ни хитроумия Атлантова внука[19]19
Атлантов внук – Меркурий.
[Закрыть], ни спесивой власти Циклопов, каковыми свойствами или хоть одним из них я мог бы ее прельстить или против воли проникнуть в душу, как она проникла в мою красотой. К тому же, богами рожденная, она, верно, и детей захочет от бога, а не от простого охотника. Оставлю-ка я лучше все это, не пора ли воротиться к старым заботам: с ними начав жизнь, с ними и кончу.
Но чуть повернулся к Лии, как опять передумал, едва ее красота проникла к нему в глаза; и снова решил понравиться ей во что бы то ни стало на свой неотесанный лад, а все иные помыслы отогнать. Тотчас убрал с лица свисающие в беспорядке пряди; пригладил, чтоб не торчала, косматую бороду; как умел, прикрыл изъяны ветхой одежды и, устыдившись того, что полагал в себе безобразным, снова принялся рассуждать:
– Прекрасная нимфа, впервые представшая моему взору, если я не ослышался, песней не кого-то другого, а меня манила к своим прелестям. Зачем же малодушно бежать оттуда, откуда не гнали? Дерзну – кто может ведать судьбу? Немало было и таких, что пастухов предпочли богам, а кто знает, к кому больше лежит ее сердце. А мне что стоит попробовать; будет толк, душа моя обретет вечное утешенье, не будет, займусь тем же, чем раньше. Но я все же понравлюсь ей; пусть не лицом, но делами, ими я возмещу все недостатки. Эта нимфа любит охоты, а я вырос в лесах, что ни день с луком и стрелами преследую диких зверей, и никто не сражал их вернее меня, я не боюсь с острой рогатиной выжидать в засаде вспененного кабана, мои псы отважно бросаются на свирепых львов; я знаю все звериные логова в чащах; никто лучше меня не выберет, где натягивать сети, никто не выдумает силков для пернатых птиц, каких бы я не видал или не умел смастерить. Всем послужу ей и себя отдам в придачу. Сильный, я понесу для нее по кручам лук, колчан и сети, отягощу плечи обильной добычей. Проворный, я заберусь в теснины, куда ей, нежнейшей и пугливой, не под силу проникнуть. Я покажу ей зверей, научу находить их логова и норы; в любой миг быстро переправлюсь через студеные волны, сплету ей венки из листьев, добытых с вершин могучего дуба, и защищу ими прекраснейший лик от лучей палящего Феба, и еще многим ей послужу. И если все это достойно хоть малой милости, я ее удостоюсь, ибо не верю, что столь юную красоту запятнает неблагодарность. Пусть даже она поскупится на вознагражденья, все равно я никак не буду в накладе, раз не лишусь излюбленного занятья; напротив, раньше один, а теперь с любезной спутницей проникну в лесные дебри; ведь только лицезреть столь прекрасную деву и то немалая награда за все труды. Итак, последую за тем, что так пленяет мои глаза.
Но и разрешив сомненья, Амето, как ни думал, не мог додуматься, как же приступить к делу; не раз он готов был попытать броду жалостливыми речами, исполненными мольбы, да не умел начать. Мешал своенравный властелин, которому по неведению он дал воцариться в своей душе; и, покорствуя ему, он, пристыженный, всякий раз отступал. Не будь лицо его красно от солнца, он перед всеми обнаружил бы свой стыд, но, движимый благим советом, вскочил и по жарким лугам устремился туда, где оставил трофеи. Там смыл с лица пыль в прозрачных водах ручья, возложил на могучие плечи добычу и с нею предстал перед нимфой. И хотя видел, что у нее и своей добычи довольно, с отвагой в лице и робостью в сердце предложил ей дань, а те немногие бессвязные слова, какие он сумел выговорить, смешались с звонкими голосами нимф; их шутливым речам, которые он едва ли разумел, и разным затеям не было бы в тот день конца, если бы наступившие сумерки не отозвали под кровли жилищ каждую из них и Амето.