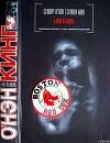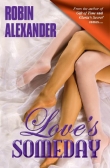Текст книги "И проснуться не затемно, а на рассвете"
Автор книги: Джошуа Феррис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Из Рефидима они бежали в Асор, где куксились и зализывали раны, гадая, что им делать теперь. Израильтяне, похоже, решили сжить их со свету, да и бог у них могущественный, не то что всякие молеки, умеет сосредоточиться и работать эффективно. Их богу, похоже, не плевать на свой народ… Тут Агага осенило. Он вновь собрал людей (история повторялась… я невольно испугался за судьбу тех, кто охотно пошел на собрание) и обратился к ним с речью: «Все боги несли амаликитянам разрушение и скорбь, и теперь лишь один бог может нас спасти, тот самый бог, что дал врагам нашим землю, текущую молоком и медом, утвердил уставы неба и земли, и дал им день субботний, и очистил их души, и заключил с ними вечный завет, который они будут хранить до скончания времен и передавать от отца к сыну. Так услышьте же меня, дети Амалика, – продолжал вещать Агаг на страничке с моей биографией, – Бог живой – с Израилем, со всеми сынами Ефрема! И если вы полюбите живого Бога Израилева, помилует он вас и от меча убережет».
Не можешь побить врага – перейди на его сторону. А что, хитро! Отчаявшиеся амаликитяне готовы были пойти на что угодно. Они выбрали одного из своих, как две капли воды похожего на израильтянина, и отправили его тайком в израильтянский лагерь с наказом все разузнать. Через три дня он вернулся и поведал следующее: чтобы стать как израильтяне, надо построить ковчег из дерева ситтим стольки-то локтей в высоту и стольки-то локтей в длину, при строительстве ковчега и храма соблюсти множество условностей, а если кто согрешит, должен он найти молодого здорового тельца и принести его в жертву за грех, и еще нельзя налагать на брата своего работы рабской, и еще много всякого. Ах да, самое главное: всем надо сделать обрезание. Тут амаликитяне, понятно, вскинулись: «Чего? Обрезание? Это еще что такое?» Юноша, похожий на израильтянина, все им объяснил, и они такие: «Силы небесные! Да ты шутишь!» А он такой: «Если бы». В итоге все амаликитяне сделали себе обрезание и отправили к израильтянам гонцов с вестью о том, что они сделали. И стали молиться Богу Израилеву о пощаде и защите.
Как только израильтяне прослышали, что их враги сделали себе обрезание и «были в болезни», тут же взяли они свои мечи и смело напали на амаликитян. «И никто из них не спасся, кроме четырехсот юношей, которые сели на верблюдов и поднялись на гору Сеир».
Текст на моей страничке заканчивался такими словами: «Из Кантаветиклов, стихи 25–29». Я посмотрел на Конни, которая читала вместе со мной.
– В еврейской школе нас по-другому учили, – сказала она.
Снова я, – написал я, – Если честно, мне и самому странно, почему я до сих пор тебе пишу, Эл. Толку от этого никакого, один вред. Но теперь я по крайней мере знаю, кто ты такой, и могу подать на тебя в суд. Может, пора прекращать? Особенно меня бесит эта религиозная чушь. Лучше бы уж денег потребовал, ей-богу. Обрезание? Чувак по имени Агаг? Надеюсь, ты действительно во все это веришь: если Бог все-таки существует (что крайне маловероятно), гореть тебе в аду.
Иногда я сгоряча бросал какую-нибудь фразу типа «Да я повешусь», «Проще перерезать себе вены», «Единственный выход – коллективное самоубийство». Она мгновенно мрачнела, замирала на месте и начинала пылко вещать: «Надеюсь, вы это не всерьез говорите? Самоубийство – не повод для шуток!» Пока я размышлял над ее словами – она выражала надежду, что я говорю не всерьез, и тут же отчитывала меня за шутку, – тирада продолжалась: «Лишь Господь дарит и забирает жизни. Самоубийство – это отрицание всего, что он создал, всего прекрасного и радостного, что есть на свете. Неужели вы не видите вокруг себя ничего прекрасного?» Я отвечал, а она говорила: «Слышать не желаю про эти омерзительные сайты! Я имела в виду восходы и закаты, цветы в ботаническом саду, младенцев в колясках! Неужели ничто вас не радует, кроме взрослых женщин, публично порочащих себя в Интернете?» Я отвечал, и она говорила: «Свобода – это лишь понятие. Но так и быть, я принимаю ваш ответ. Однако самоубийство – это не свобода. Это вечный плен. Силы небесные, да вы бы хоть по сторонам посмотрели! Сколько вокруг красоты! Неужели нельзя иногда сказать себе: «Смотри, смотри!» – и порадоваться птичкам, облакам и всему, что наполняет сердце ликованием?» Я отвечал, и она говорила: «Да, согласна, все это мимолетно. Но, Пол, разве суть не в том, чтобы вкусить прекрасное во всей полноте, пока оно длится? Все пройдет. Даже плохое. Даже боль. Нельзя всю жизнь концентрироваться на плохом, пока хорошее проходит мимо!» Я отвечал, и она говорила: «А я не считаю такой подход честным. Я считаю, вы просто не в состоянии жить полной жизнью. Разве вы не хотите жить полной счастливой жизнью?» Я отвечал, и она говорила: «Вы не один. У этого чувства даже есть название: отчаяние. Многие люди, прежде чем уверовать в Господа…» Тут я бесцеремонно ее обрывал, как делал уже тысячу раз, и она уступала: «Хорошо, на время забудем о Боге. Это самая страшная и самая частая ошибка, но, раз я должна привести весомый аргумент, давайте забудем о Боге. Подумайте вот о чем: если жизнь так коротка и в ней не так уж много счастья, то почему нельзя сознательно искать хорошее? Стараться во всем видеть только красоту, просто чтобы не падать духом?» Я отвечал, и она говорила: «Я понимаю, что в инфекциях и запущенных абсцессах сложно увидеть красоту, ну а по дороге на работу и домой? На этих ваших экскурсиях по городу? Разве так мало на свете прекрасного, разве мало того, что помогает нам жить дальше?» Я отвечал, и она говорила: «Да знаю я, что в метро тоже полно несчастных! – Она в отчаянии вздыхала, но все равно продолжала меня терроризировать, великолепная, неукротимая Бетси. – Я говорю не об этих изможденных на скамейках, – тут я вставлял еще пару слов, – и не о калеках с бомжами, я говорю о дороге до метро!» Я отвечал, и она говорила: «А почему вы все время пялитесь в телефон? Неужели нельзя его отложить на минутку?» Я отвечал, она говорила: «Если вы сами признаетесь, что он помогает вам не думать о всяких гадостях, тогда вы, стало быть, сознательно становитесь рабом технологий!» Я отвечал, она говорила: «Ничего более богохульного в жизни не слышала. Технологии никогда не займут место Всевышнего. Это же Всевышний, силы небесные! С мобильными телефонами или без, все люди имеют внутреннюю потребность к молитве, согласны?» Я отвечал, она говорила: «Обмен эсэмэсками и электронными письмами – не новый способ молиться! Как вы не понимаете: эта крохотная машинка, отвлекая вас от мыслей о Боге и о том, что он сотворил, только преумножает ваше отчаянье!» Я отвечал, она говорила: «Мир, созданный технологиями, гроша ломаного не стоит. Он никогда не сравнится с творениями Господа нашего». Тогда я спрашивал ее, куда же я должен смотреть, если не в телефон, и задавал несколько наводящих вопросов. Она отвечала: «Да, на асфальт! Да, на дома! Да, на людей! Вы удивитесь, сколько вокруг прекрасного и радостного. Разве вы не хотите чаще удивляться?» Я отвечал, а она склоняла голову набок, чуть поджимала губы, протягивала мне руку и произносила: «Нет, молодой человек, еще не поздно. Ох, лапочка, да это никогда не поздно!»
Позже ко мне подошла Конни и спросила:
– Ты когда-нибудь рассказывал моему дяде Майклу анекдот про священника и раввина?
Дядя Майкл был женат на сестре ее матери, Салли. У него была своя фирма по оценке недвижимости. Салли сидела дома с детьми, уже давно взрослыми. Они жили в небольшом домике в Йонкерсе – небольшом, но во всех смыслах прекрасном домике. Лучше и пожелать нельзя – именно такое впечатление у вас создавалось, когда вы ступали на порог этого дома. В нем жили разумные, доброжелательные и отзывчивые люди, которые ценили имеющееся и не желали большего. Я побывал у них в гостях всего один раз, когда умерла матушка дяди Майкла и они сидели по ней шиву. Я никогда раньше не сидел шиву и вообще почти ничего не знал об этой традиции. Пришлось даже порыскать в Интернете, чтобы не опозориться перед Конни. На шиву в скромном доме Майкла и Салли каждый вечер собиралось столько народу, что я едва не оглох, когда они все разом запели поминальный кадиш, мгновенно превратив полупраздничную атмосферу в похоронную. Конечно, рядом с дядей Майклом и тетей Салли атмосфера не была праздничной, как и рядом с их ближайшими родственниками, однако все остальные, включая меня, вели весьма оживленные светские беседы. Наверное, так бывает на любых поминках: безмолвное ядро скорби всегда окружено шумным ореолом. Однако шива произвела на меня неизгладимое впечатление, я никогда не испытывал ничего подобного. Ирландец похоронит покойника, сходит на поминки и будет скорбеть дома в гордом одиночестве. А у еврея есть семь дней, чтобы разделить горе с близкими и друзьями.
– Анекдот про священника и раввина? Это ты к чему? Я Майкла не видел сколько… полгода?
– Это было давно.
– Так с чего ты вспомнила?
– Пошли слухи. Я тогда не обратила на них внимания. Думала, родня просто вредничает. Ты знаешь такой анекдот или нет?
Я помолчал.
– Да я много анекдотов знаю.
– Сколько из них про священников и раввинов?
Я сделал вид, что пытаюсь вспомнить.
– Расскажи хотя бы один.
Я откашлялся.
– Священник и раввин… кхе-кхе, прости… Значит, однажды священник и раввин решили поиграть в гольф. Пришли они спозаранку на поле, а оно занято. – Я умолк. – Конни, мне этот анекдот гольфисты рассказали, когда я еще играл. Это было очень давно. Я не играл уже… Зачем тебе это вообще?
– Я хочу знать, какой анекдот ты рассказал дяде Майклу.
– Я не уверен, что рассказывал его твоему дяде.
– Давай уже, Пол.
Вообще-то я предпочитаю, чтобы на работе меня звали доктор О’Рурк или, на худой конец, доктор Пол, но я решил не придираться к этому нарушению субординации.
– Ну, подошли они к смотрителю… А, нет, там был еще имам. Я же говорю, давно было дело… Значит, они втроем подходят к смотрителю и просят разобраться. «Мы уже двадцать минут ждем, а эти четверо впереди даже с места не сдвинулись! Что такое?» Смотритель извиняется. «Я понимаю ваше недовольство, но потерпите. Эти бедолаги – слепые». Имам возносит молитву Аллаху, священник благословляет играющих…
Я умолк.
– Почему ты замолчал?
– Мне продолжать?
– А что, это конец?
– Нет.
– Рассказывай до конца.
– Раввин же отводит смотрителя в сторонку и спрашивает: «А нельзя им ночью поиграть?»
– Смешно, – без улыбки сказала Конни.
– Ты даже не улыбнулась.
– Мне любопытно, почему ты решил рассказать этот анекдот дяде Майклу.
Если я и впрямь его рассказывал, то только с одной целью: рассмешить дядю Майкла. Понравиться ему. Понравиться всей семье. Стать Плотцем. Я хотел стать евреем Плотцем, который сидит шиву, ходит в синагогу и делает с Конни детей под защитой неприступного бастиона – ее дружной и многочисленной семьи.
– А что? Разве он антисемитский? Вроде бы нет…
Я всегда до одури боялся ляпнуть что-нибудь антисемитское.
– Дядя шиву сидел! У него умерла мать!
– Что?!
– Тебе не пришло в голову, что это не самое подходящее время для анекдотов?
– Погоди, Конни, если я и рассказывал ему этот анекдот, то уж точно не во время шивы. Да я вообще никаких анекдотов на шиве не рассказывал! С чего ты взяла?
– Говорю же, слух прошел. Я тогда не взяла в голову.
– А теперь – взяла? Конни, брось, я бы не стал шутить шутки с человеком, который сидит шиву. Что у меня, мозгов нет?
– А разве есть, Пол Сол? Расскажи мне про свои мозги, с удовольствием послушаю.
Я ушел лечить пациента.
За годы работы на Парк-авеню я тысячи раз проходил мимо магазинчика «Редкие книги и антикварные вещицы Карлтона Б. Зукхарта», но ни разу не находил повода туда заглянуть и даже не мечтал, что такой повод у меня появится. А в пятницу я зашел в магазинчик. Часть его занимала витрина с редкими книгами, часть – шкафы, полные всяких диковинок. Главный зал был целиком отделан толстыми досками бразильских твердых пород, которые оглушительно ревели и стонали под ногами, точно корабельная палуба, которая вот-вот разлетится в щепки. Лестница такого же дерева и цвета каталась вдоль высоких книжных полок, нашептывающих рассказы обо всех роковых и ключевых моментах человеческой истории. Письменный стол хозяина находился тут же, на небольшом возвышении, за легкой тонкой балюстрадой, словно бы изготовленной из выдувного стекла. За письменным столом в плексигласовом коробе помещался древний меч с рукояткой, инкрустированной драгоценными камнями. «Участвовал в Крестовых походах», – сказал хозяин, проследив за моим взглядом. Справа на полке выстроились человеческие черепа, послушно глядевшие в вечность. Наша беседа началась с его рассказа о камне, лежавшем у него на столе – вроде бы самом обыкновенном и ничем не примечательном. Выяснилось, что это – ценная археологическая находка, обнаруженная в Иерусалиме. Зукхарту она служила пресс-папье. Я мысленно посочувствовал бедному камню – ему пришлось покинуть царство погребенных тайн ради того, чтобы придавливать стопку накладных в темной каморке на Восемьдесят второй улице.
Я рассказал Зукхарту о внезапном появлении сайта моей клиники и странных текстах, написанных от моего имени.
– Вы что-нибудь знаете о Кантаветиклах?
– Кантаветиклы?.. Что это?
– Собрание кантонментов?..
– А что такое кантонмент?
Легкий выговор Зукхарта чуть-чуть не дотягивал до липового британского акцента. Рукава его рубашки были закатаны до локтей, обнажая буйные заросли белых кудрей на руках, которые он все время (и прямо-таки сладострастно) поглаживал.
За годы работы Зукхарт несколько раз становился посредником при крупных и широко освещаемых в прессе сделках: одна из них касалась части свитков Мертвого моря, другая – подлинного экземпляра Библии Гутенберга. В обоих случаях он выступал агентом со стороны продавца. В конце 90-х, однако, репутация Зукхарта здорово пострадала, когда один частный коллекционер обвинил его в продаже подделки. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст страницы из пропавшей части Кодекса Алеппо на несколько столетий больше, чем должен быть. Все-таки Интернет – это кладезь информации.
Я вручил Зукхарту распечатанную страничку с биографией, и он стал оглаживать все свое тело в поисках очков, которые обнаружились на столе.
– Нет, нет, тут все переврано, – сказал он, дочитав. – Израильтяне не нападали на амаликитян. Это амаликитяне напали на израильтян. – Послюнив большой и указательный пальцы, он принялся со скоростью Гугла листать страницы Библии Короля Иакова, что лежала у него на столе. – «Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути, и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога».
– Вот это я понимаю – знание Библии, – сказал я.
– Ох, молодой человек! – проговорил Зукхарт, вновь начиная поглаживать свои кущи на руках. – Поработали бы вы с мое в торговле антиквариатом, тоже знали бы Библию наизусть.
– На моей странице написано про их попытку обратиться в иудаизм.
– В иудаизм? Маловероятно. Амаликитяне были безбожниками и дикарями, только и умели, что верблюдов красть.
– Что с ними сталось?
– Да то же, что и со всеми прочими. С хеттеями, евеями, аморреями, ферезеями, иевусеями, идумеями, моавитянами… Может, их поглотили более крупные племена? Может, они эволюционировали в индоевропейцев? Или просто вымерли?
– Но в конце истории четыреста человек уцелели и спаслись бегством.
– Согласно этой версии – да. – Он показал на распечатку. – Но библейская версия весьма от нее отличается, весьма и весьма.
– И что же написано в Библии?
– Уцелевших амаликитян стерли с лица земли.
– Стерли с лица земли?
Он улыбнулся, с удовольствием вспоминая эту древнюю резню.
– Уничтожили. Истребили. По Божьему велению, разумеется.
Он снова послюнил большой палец и зашуршал страницами Библии.
– «Из них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сеир пятьсот человек… И побили уцелевший там остаток Амаликитян, и живут там до сего дня». – Зукхарт откинулся на спинку кресла. – Первый письменно зафиксированный геноцид в истории человечества.
Я нашел в телефоне «свой» комментарий под статьей в «Таймс» и показал его Зукхарту.
– «Этот народ восстал из пепла истребленных амаликитян», – прочитал он вслух, задумчиво поглаживая своих пушистых питомцев. – Что за народ, интересно?
Полюбив Сэм Сантакроче, я заинтересовался и католицизмом. Я узнал, как слово «папский» стало ругательным, а еще – с каким количеством предрассудков столкнулись католики, когда впервые попали в Америку. Страна была отнюдь не папская, а местные поселенцы и революционеры (исключительно протестанты той или иной разновидности) открыто сомневались в патриотизме католиков, ведь те могли быть верны только Риму. Протестанты делали все, чтобы не пустить в страну иноверцев, а когда это не сработало, сослали всех (если мне не изменяет память) в новообразованный штат Мэриленд. Я был потрясен. Я и не подозревал, что в стане христиан имела место такая лютая вражда. Все-таки главный герой их преданий обычно изображается если не распятым на кресте, то в окружении ягнят и детей. Однако же христиане в самом деле горячо ненавидели друг друга. Поскольку Сантакроче, – которые устраивали охоту за яйцами на Пасху, разъезжали на блестящих иномарках и с любовью вспоминали всех усопших собак семьи, словом, олицетворяли собой сбывшуюся американскую мечту, – поскольку эти чудесные люди были католиками, я тоже перешел на сторону католиков.
Однажды вечером, уже после нашего воссоединения с Самантой, когда мне немного открылись глаза на несовершенства семьи Сантакроче, но я все еще хотел стать одним из них, приобщиться чистой сантакрочевской святости, мы отправились на праздничный семейный ужин. И вот посреди застолья я обратился к Бобу Сантакроче с речью о том, сколько бед и лишений выпало на долю католиков. Я рассказал ему пару фактов, которые узнал еще несколько лет назад, когда моя маниакальная любовь была в зените. Я упомянул казнь Томаса Мора, расхожее мнение, что Вавилонская блудница – это Рим, а также клятвы верности, не позволявшие католикам в Америке XIX века становиться чиновниками и сотрудниками муниципальных учреждений.
– А чего стоят эти восстания филадельфийских нативистов в 1844 году! – непринужденно добавил я.
Затем я упомянул беспрецедентную речь кандидата в президенты Джона Ф. Кеннеди, который отказался «отчитываться перед папой». Боб Сантакроче был крупный мужчина с темно-русыми волосами и голубыми глазами. По неведомым мне причинам – но вряд ли со зла – он называл меня Хилари.
– Ага, – рассеянно сказал он и посмотрел на меня так, словно только что увидел. Вдруг в его глазах загорелась некая мысль. – Как тебе новая квартира?
Мы с Сэм жили вместе, и ее родители были в курсе. Но чтобы не объяснять ничего благочестивым друзьям и родственникам, которые бы пришли в ужас от нашего добрачного сожительства, Сантакроче предложили снять на мое имя квартиру, которая бы большую часть времени пустовала, но в нужный момент предоставляла им возможность избавиться от моего присутствия. Когда к Сантакроче приезжали в гости – или друзья семьи, или друзья Сэм, чьи родители дружили с ее родителями и могли распространить нежелательные слухи, – меня просили на время перебраться в эту квартиру. Иногда я проводил там всю ночь. Когда, к примеру, родители Сэм приезжали на пару дней, они не желали видеть меня в «дочкиной» квартире и на каждом шагу сталкиваться со свидетельствами нашей греховной связи. Я согласился на этот обман – я! подумать только! – потому что Сэм настояла и потому что я сам на короткое время пал жертвой чудовищного обмана. До меня стало медленно доходить, что без чудовищных обманов, без лжи и лицемерия не может быть идеальной американской жизни, о которой я мечтал. Совершенство всегда поверхностно, и на какие только грязные уловки не идут люди, чтобы соблюсти внешние приличия.
– Отлично, – ответил я. – Вы очень щедры, спасибо вам за крышу над головой.
– Мы подумали, что вряд ли у тебя много денег. Все на учебу уходит.
– Это правда, – ответил я. – Живу впроголодь.
– А на полу спать ты вряд ли захочешь.
– Ага. Не самое приятное занятие.
– Ладно, Хилари, пойду глотну еще мартини. Бывай.
Позже на том же праздничном ужине мы слушали его воспоминания об учебе в университете Дрекселя – как они с однокурсниками жульничали и списывали на экзаменах.
И почему я решил, что такому человеку, как Боб Сантакроче, – простому, жизнерадостному, не обремененному мыслями о тяготах жизни и несовершенствах мира, – есть дело до ущемленных прав католиков? Да плевать ему на антикатолицизм, он никогда не мешал ему заводить друзей и делать деньги. То, что я сам остро среагировал на несправедливость – принял все это близко к сердцу, потому что смотрел на Сантакроче и не мог понять, как такие славные люди могут быть предметом чьей-либо ненависти, – было, по сути, признанием в любви, которого Боб Сантакроче не разглядел в моих патетических речах (да и кто в своем уме ждал бы от него такой чуткости?). Ну и, разумеется, я был начисто лишен такта и понятия об уместности определенных высказываний. Он ведь был обыкновенный добродушный простак, который легко наживался на любых обстоятельствах, умея извлечь из них выгоду. Да к тому же пропустил за вечер четыре мартини. Умей я болтать на вечеринках только о бейсболе, возможно, я сейчас был бы его зятем.
Познакомившись с Плотцами, я твердо вознамерился беседовать исключительно о спорте, погоде, знаменитостях, новых моделях автомобилей, политических скандалах, ценах на бензин, правильных клюшках для гольфа и прочих пустяках. Я взял на себя обет сдержанности в отношениях с Конни, а значит, и в отношениях с ее родными. Этот обет не позволял мне вести себя по-идиотски. В конце концов, мне было тридцать шесть, я имел высшее образование и процветающий бизнес. Кому и что я должен был доказывать? До меня Конни притаскивала на семейные ужины немытых блохастых музыкантов да поэтов-неудачников, которые (как я понял по некоторым непринужденным замечаниям ее родных) воровали вино и прощупывали подушки диванов на предмет денежных заначек. Я хотя бы прилично зарабатывал. Сидел бы себе за столом, помалкивал да улыбался. С таким подходом они, возможно, примут меня в семью, говорил я себе. И даже, если очень повезет, когда-нибудь полюбят.
Однако Плотцы не вели пустяковых бесед, какие были приняты на коктейльных вечеринках Сантакроче. На их семейных сборищах человек успевал только поднять какую-нибудь тему, как его тут же перебивал второй, а второго через минуту обрывал третий. Никакой пустой болтовни за столом. Плотцы живо интересовались политикой – и нашей, и израильской – и имели свое мнение о происходящем. Каждое новое мнение защищалось более рьяно и громогласно, чем предыдущее, и каждое было делом жизни и смерти. Даже такая ерунда, как книги, фильмы, рецепты и плата за парковку, была делом жизни и смерти. Эти люди, чьи дедушки и бабушки работали разносчиками и торговцами в Нижнем Ист-Сайде, чтобы устроить детей в вечернюю школу, ничего не принимали на веру. Им во всем нужны были весомые доводы. Никакого легкомыслия. Мне это очень понравилось, и я проникся к ним куда большим уважением, чем к Сантакроче. Сколько бы я ни уговаривал себя быть сдержанным, помнить о своем возрасте, профессии и печальных ошибках прошлого, удивительная семья Плотцев – первая в моей жизни семья американских евреев – сразила меня наповал живостью своих застольных бесед и редким в наши дни единодушием.
Атеисту приходится несладко по многим причинам, и отсутствие в его жизни Бога (а значит, всех благ и утешений, которые дарит божественное присутствие) – еще не самое скверное. Самое скверное заключается в том, что атеист утрачивает доступ к существенной части словаря. Милосердие, прощение, сострадание – все это я ценил не меньше, чем самый истовый верующий, пусть наши взгляды на первопричину разнились. Однако для этих понятий у меня не было подходящих слов. В ту пору я придумал для описания своих чувств какое-то другое слово, но сейчас могу сказать, что в кругу Плотцев я почувствовал себя благословенным.
Большую часть времени я вел себя хорошо, но пару-тройку сомнительных поступков все же совершил. Про то, как я расточал комплименты и танцевал хору на свадьбе сестры Конни, вы уже знаете. А еще я однажды (когда Конни куда-то отошла) предложил ее дяде Айре и тете Анне бесплатное лечение в моей клинике.
– Приходите в любое время, – сказал я, вручая Айре свою визитку. – Можно даже без записи.
Айра тщательно изучил карточку со всех сторон и передал жене.
– У меня уже есть стоматолог. Зачем мне еще один?
– Он просто хочет сделать нам приятно, Айра! – воскликнула Анна, отмахнулась и поблагодарила меня за предложение. – Но он прав. Мы уже двадцать лет ходим к одному стоматологу. Доктор Лакс, знаете такого?
Я помотал головой.
– Конечно, не знаете, он ведь из Нью-Джерси. Лучше стоматолога, чем доктор Лакс, я в жизни не встречала.
– Хорошо, но мое предложение всегда в силе. Просто имейте в виду – мало ли, вдруг срочная помощь понадобится.
– Если мне понадобится срочная помощь, я позвоню доктору Лаксу, – сказал дядя Айра.
Анна нахмурилась.
– Это он так говорит спасибо, – сказала она.
Примерно в то же время я начал интересоваться иудаизмом: при любой возможности шел в библиотеку и читал. Почему-то меня задевали за живое истории не о римлянах (слишком давно было дело) и не о фашистах (слишком общеизвестно), а об эпизодах меньшего масштаба: кучку евреев обвинили в каком-то нелепейшем преступлении и казнили, после чего местные чиновники тут же распродали все ими нажитое; пятьдесят евреев сожгли на деревянном помосте на кладбище, и их крики потом подробно описывались в дневнике некоего христианина; детей вытаскивали из огня и крестили против воли родителей, наблюдавших за происходящим из костра. Мир никогда не казался мне таким жестоким, бессмысленным и больным, как на страницах истории еврейского народа. И таким безнадежным.
В общем, вы понимаете, меня так и подмывало поделиться с кем-нибудь своими соображениями, разразиться очередной позорной неадекватной тирадой, как тогда с Бобом Сантакроче. Только вот антикатолические настроения по сравнению с антисемитскими – просто цветочки. Больше всего мне хотелось побеседовать с дядей Стюартом. Не знаю почему. Наверное, меня притягивали его чувство собственного достоинства, его выдержка и твердость принципов. За столом он всегда ел очень мало, словно потребление обычной пищи было ниже его и он питался чем-то другим, высокодуховной пищей, которую находил в Торе и в молчании. Однако эти порывы я сумел побороть. Дяде Стюарту меньше всего нужны были мои извинения за дела давно минувших дней, да я и не был виноват. Мне не хотелось, чтобы он подумал, будто я извиняюсь или жалею его и весь еврейский народ, вместе взятый. Я просто хотел, чтобы он знал: я все знаю. Но что я знал? Даже если бы я прочитал все, абсолютно все о еврейской истории, об их страданиях, о вере (а это было невозможно), – что бы мне это дало? Допустим, я подошел бы к дяде Стюарту и сказал: «Знаете, я тут читал про крестовые походы». Или про погромы. Или про насильственное обращение в христианство. Но разве я говорил бы о крестовых походах, погромах и обращениях? Нет, я говорил бы о себе. Как и тогда с Бобом Сантакроче, я лишь пытался бы продемонстрировать свою осведомленность и политкорректность. Только в отличие от Боба Сантакроче, дяде Стюарту было не плевать. Я боялся, что, если подниму все эти темы, дядя Стюарт услышит только: «Крестовые походы, ого! Погромы, ничего себе! Насильственные обращения, вау!» Словно это какой-нибудь хит-парад исторических событий, на которые так просто смотреть с правильной стороны на данном этапе истории. Я поклялся держать свои романтические симпатии в узде, и история антисемитизма – изгнание евреев из Франции, Испании и Англии, Холокост, – величие и масштабы этих событий помогали мне молчать, делали молчание единственно возможной тактикой поведения.
А потом на дне рождения Тео, двоюродного брата Конни, я допустил ошибку.
У читателя может сложиться впечатление, что я был атеистом всю жизнь. Это не вполне так. Мои родители были весьма равнодушными прихожанами протестантской церкви, которую мы все вместе посещали от силы раз десять. Только однажды, когда мне было восемь, мы ходили туда шесть недель подряд, не пропуская даже воскресную школу и обеды по средам. Это была идея моего отца, который таким образом надеялся удержать нас всех на пути истинном. Видимо, по чьей-то подсказке он решил, что Бог поможет ему избавиться от проблем, включая привычку приносить домой из «Сирза» все имевшиеся на распродаже утюги, а потом плакать в ванной, пока мама их возвращает. (Представьте, каково мне – здоровому ребенку – было смотреть на все это со стороны; я был удивлен поведением взрослых не меньше, чем расстроен слезами отца.) После самоубийства отца моя мама – видимо, в попытке что-то сделать со своей реакцией на немыслимое, – обошла великое множество церквей: баптисткую, лютеранскую, епископальную, церковь Ассамблеи Бога, церковь Христа, заурядные церкви и евангельские церкви, церкви, одобряющие самопожертвование, и церкви, одобряющие щедрые пожертвования… Потом она возвращалась домой, садилась на диван и скорбела, как скорбят большинство американцев: наедине с телевизором.
За это время я узнал – от теток, которые нагибались ко мне, упирая руки в колени, и от дядек в черном, которые штабелировали стулья, и от старых священников, предлагавших сесть к ним на колени, – что Бог есть. Он жив, он присматривает за мной, он добрый, всемогущий и прогонит все дурное. Он послал своего сына, Иисуса Христа, умирать за наши грехи, и Иисус полюбит меня, если только я ему позволю. Если я полюблю его всем сердцем, он вернет мне отца – мы снова встретимся в чудесном месте под названием «рай». Он исцелит папины раны и простит ему грехи. Папа больше никогда не будет грустить, а мама – плакать, и мы всегда будем вместе, и ничто нас не разлучит. Мне очень хотелось в это верить, и я поверил.
Примерно в ту же пору я впервые услышал о Мартине Лютере. В воскресной школе нас учили, что он – герой, человек, который выступил против папы Римского и вернул Библию народу. Допускаю, что после знакомства с ярыми католиками Сантакроче Лютер немного упал в моих глазах, однако я по-прежнему считал, что именно Лютеру мы обязаны Америкой, со всеми ее многочисленными разновидностями протестантизма. Однако с точки зрения иудаизма Лютер был отнюдь не герой. Он верил, что, стоит ему справиться с папским засильем и явить миру истинную мощь Писания, евреи тут же массово обратятся в христианство. Нормально так замахнулся, а? Евреи не предали свою веру во времена Христа, не дрогнули перед лицом Римской империи, пережили разграбление Иерусалима и огонь крестовых походов. Европейские короли отобрали у них все нажитое и отправили их вместе с детьми умирать в ссылке, однако и тут их вера не пошатнулась. Но теперь-то, решил Лютер, когда я раздам каждому по Евангелию, они одумаются. Евреи не одумались. Тогда Лютер передумал и написал памфлет «О евреях и их лжи», название которого весьма полно и точно отражало его истинные чувства.