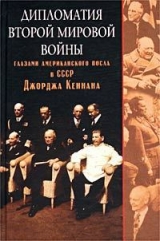
Текст книги "Дипломатия Второй мировой войны глазами американского посла в СССР Джорджа Кеннана"
Автор книги: Джордж Кеннан
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
"Немногие из тех, кто у нас занимается внешней политикой, знают о немецких зверствах столько же, сколько и я, мало у кого из них есть такие же личные основания ими возмущаться. Я видел немецкую оккупацию в ряде стран (кроме стран Восточной Европы), и люди, которых я близко знал, пали жертвами самых отвратительных форм жестокости гестапо. Но с тех пор, как мы приняли русских в качестве союзников в борьбе против Германии, мы молчаливо приняли как факт (даже если мы сами не делаем этого) обычаи ведения войны, принятые повсюду в Восточной Европе и Азии в течение веков и которые еще, вероятно, надолго останутся таковыми в будущем.
Я подчеркиваю, это общие обычаи, не являющиеся свойством только немцев.
История, вынося суд о жестокости тех или иных участников этой борьбы, не будет делать различий между победителями и побежденными. Если мы хотим, чтобы наши суждения выдержали испытание историей, не следует об этом забывать. Если при всем этом кто-то желает высветить все зверства, совершенные в этой войне, пусть так и поступает. Уровень относительной вины, который могут выявить подобные разыскания, есть нечто такое, о чем я, как американец, предпочитаю ничего не знать".
Таким образом, весной 1944 года после кратковременной службы в Лондоне я был разочарован нашей германской политикой и не верил в реальность сотрудничества с Россией в управлении Германией. Отчасти по этой, отчасти по другим причинам я также выступал против развертывания программы денацификации Германии. Я уверяю, что не питал симпатий к нацистским лидерам, но мне не хотелось вместе с русскими организовывать суд над этими лидерами. Впоследствии я понял, что несколько преувеличивал, но не совсем без оснований. Все эти тревоги, связанные с американской политикой в отношении Германии, определили мои настроения в период предстоящей двухлетней службы в Москве.
Когда после долгого отпуска я вернулся в Вашингтон весной 1944 года, Чип Болен, представитель Госдепартамента в Белом доме, решил устроить мое назначение в Москву на должность советника посла Гарримана, поскольку его прежнего советника в это время перевели на другую работу. Болен познакомил меня с Гарриманом, и было решено, что я займу эту должность. Назначение состоялось, хотя я знал, что мои взгляды на политику Советского Союза во многом не совпадают со взглядами администрации. В то время на эту должность смотрели как на чисто административную. Посольство наше делилось на две части-миссии: гражданскую, которую предстояло возглавить мне, и военную во главе с генералом Дином. Посол разделял взгляды президента, что в военное время по всем существенным вопросам следует советоваться прежде всего с военными, а потому мало внимания уделял гражданской миссии. Ему нужно было просто, чтобы кто-то руководил там всей рутинной работой в условиях военного времени. Сыграли свою роль мой предыдущий опыт работы и знание русского языка.
В начале июня 1944 года я вылетел из Вашингтона в Лиссабон, где находилась моя семья. Я сказал своим родным, чтобы они отправлялись в Москву вслед за мной, сам же отправился в Москву через Италию, Каир и Багдад. Во время этого путешествия я сделал огромное количество путевых заметок и ознакомлю читателя лишь с некоторыми из них. Прежде я не бывал в регионах южнее Лиссабона, который находится на той же широте, что и Вашингтон. Конечно, именно с этим связаны по преимуществу мои отрицательные впечатления от пребывания в таких жарких южных районах, как Каир или Багдад. Конечно, они были поверхностными и не вполне верными, но они, так или иначе, повлияли на мои размышления о международных делах, в частности о том, что следующее поколение назовет "помощью развивающимся странам".
19 июня я покинул Казерту в Италии, где гостил в резиденции нашего главнокомандующего. Уже в Бенгази, по пути в Каир, началась страшная жара. Наш самолет летел над Киренаикой и Западной пустыней. Здесь уже почти ничто не напоминало о недавних сражениях. В Эль-Аламейне еще сохранились полузасыпанные песком траншеи и места, где находились батареи, но года через два и здесь не останется следов недавней войны.
Лишь поздно вечером самолет сел в аэропорту в 30 милях от Каира. В 10 часов вечера я, ни живой ни мертвый от жары, стоял в вестибюле гостиницы "Шеферд". Здесь для меня не нашлось номера. Служители не хотели разменивать мои долларовые и фунтовые чеки, и мне нечем было даже заплатить носильщикам. Связаться с нашей миссией никто не мог или не хотел. Это был один из самых неприятных моментов в моей жизни. Лишь под утро, после многих испытаний, я смог прилечь на диван в квартире американского секретаря ИМКА, любезно пригласившего меня к себе.
Вот некоторые из моих путевых заметок, связанных с дальнейшим путешествием.
"20 – 21 июня 1944 года
Оба эти дня слишком похожи друг на друга. Египет, точнее орошаемая земля вокруг дельты Нила, страдает от горячих ветров. Повсюду здесь чувствуется жаркое дыхание пустыни. Жара не щадит ни жителей глинобитных домиков на окраине Каира, ни иностранцев в бетонных особняках. Люди не выходят из домов, а автомобили стоят в подземных гаражах, чтобы они не стали раскаленными.
Вечером первого дня стало попрохладнее. Пожилые англичане выбрались из жилищ, чтобы поиграть в гольф. Арабы-кочевники, днем лежавшие на мостовой в тени стен, поднялись, чтобы заставить своих упрямых ослов стронуться с места и продолжить бесконечное путешествие. Колонна военных джипов проехала по дороге, обогнав караван верблюдов. В гостинице "Мена" двери на террасу открылись настежь. И бармен начал торговать на улице спиртным. В музыкальной комнате польская беженка заиграла Шопена на пианино.
К вечеру следующего дня страшная жара закончилась песчаной бурей. Пальмовые деревья в садике гнулись и скрипели под ударами ветра. Люди сидели, закрыв ставни, включив свет, и слушали бесконечные завывания бури. К утру она постепенно улеглась. На рассвете, когда я стал собираться в аэропорт, свежий ветерок принес прохладу. Но беспощадное солнце уже всходило в безоблачном небе, и я знал, что вскоре на этой земле снова воцарится страшный зной.
23 – 25 июня 1944 года, Багдад
Весь день мы сидели запершись в здании посольства. Температура, кажется, не опускалась ниже 90 градусов{24}. В такое пекло могут отважиться путешествовать, как сказано в песне Ноэля Коварда, "только бешеные собаки да англичане". Ночью становится значительно прохладнее, и можно спать в относительном комфорте. Однако и в это время покидать территорию посольства небезопасно, потому что по ночам из пустыни сюда являются настоящие бешеные собаки и шакалы. Лишь рано утром мы можем ненадолго выбираться на свободу. Воду приходится пить весь день, но все равно жара выматывает нервы. Здоровье здесь можно сохранить только путем жесткой самодисциплины.
Но довольно о наших неприятностях. Что можно сказать о работе в Багдаде? Это страна, в которой людской эгоизм разрушил почти все естественные ресурсы, в которой растения могут жить только по берегам больших рек, а климат неблагоприятен для здоровья людей. Население здесь лишено гигиены, ослаблено болезнями, склонно к религиозному фанатизму. Женская половина населения содержится под своего рода домашним арестом и выключена из общественной жизни. В целом весь жизненный уклад определяется психологией пастухов-скотоводов и потому столь отличается от земледельческой и промышленной цивилизации. Сейчас здешние жители поддерживают немало контактов с Западом, и у их правящего класса появилась потребность во многом из того, что можно получить только на Западе. Эти люди не любят англичан и не доверяют им, они были бы не прочь использовать нас как противовес англичанам, которые стесняют их жизнь. Если бы мы дали нужное им, то на время получили бы их расположение. При этом мы бы в какой-то мере ослабили английское влияние и взяли бы на себя часть ответственности за действия местных политиков. Если бы они стали предпринимать что-то не отвечающее нашим интересам, а англичане не смогли бы их уже сдержать, то часть вины лежала бы на нас самих, и нам бы пришлось как-то исправлять положение.
Желаем ли мы брать на себя подобную ответственность? Я, как и все американские реалисты, знаю, что мы не желаем этого. Наше правительство технически неспособно проводить на долговременной основе определенную политику в этих слишком отдаленных регионах. Наши действия в сфере иностранных дел обычно являются конвульсивными реакциями политиков на нашу внутреннюю политическую жизнь. Те из американцев, которые помнят, как наши предки некогда осваивали нашу страну, могут задаться вопросом, нельзя ли в здешних краях изменить климат, сделать его более благоприятным для земледелия и экономического развития. Но это лишь мечты, не имеющие отношения к реальности. Не мешает вспомнить проблемы с сохранением земли в нашей собственной стране и необходимость завершения многих социальных улучшений, чтобы оставить надежды на возможности, связанные с Ближним Востоком, и обратиться к проблемам, которые надо решать у себя на родине".
28 июня я добрался до Тегерана, чтобы завершить свое путешествие в Россию. Вот запись, касающаяся этого путешествия:
"7 июля 1944 года
Мы прибыли в русский аэропорт в 5 часов утра. Еще час мы ждали, пока нас встретит сопровождающий. Сначала на летное поле забежала лошадь в седле, но без седока. Когда служащим аэропорта удалось ее поймать, русский лейтенант, которого мы ждали, еще не появился. Наконец за ним послали машину, он прибыл в аэропорт и смущенно принес извинения за свою оплошность. Сначала мы долетели до Баку, а оттуда уже прямо в Сталинград.
В Сталинграде оказалось разрушенным все, кроме здания аэровокзала, отстроенного заново. Вокруг аэродрома повсюду видны были обломки уничтоженных самолетов и танков. Мы пообедали в столовой, где был всего один стакан и не хватало стульев. Но все окружающие, настроенные доброжелательно, готовы были помочь. К русским начинаешь относиться с симпатией, когда забываешь о пропаганде их правительства".
Глава 8.
Москва и Польша
Первые недели, проведенные в Москве, были для меня странным временем. Во многих отношениях у меня возникло впечатление, будто я пришел из потустороннего мира. Я словно свидетельствовал жизнь на земле, но не решался напоминать остальным о своей былой жизни и прежних воспоминаниях. Ни в нашем посольстве, ни во всем дипломатическом корпусе не осталось ни души из тех людей, которые работали здесь во время моей первой службы в Москве. В свои сорок лет я уже был здесь старшим членом дипломатического корпуса. Мои коллеги представляли новое поколение людей с новыми интересами; особенно это касалось самого нашего посольства. Воспоминания же о первых годах существования посольства стерлись в связи с войной, со многими кадровыми переменами, а также – в связи со свежими воспоминаниями о недавнем переселении в Куйбышев, где нашли убежище иностранные миссии, когда немцы подошли к Москве.
Первые четыре недели мой предшественник еще продолжал выполнять свои обязанности, и мистер Гарриман любезно разрешил мне поселиться в резиденции посла. Тогда, в условиях военного времени, помимо свиты посла, там размещалось также большое количество младшего военного и гражданского персонала, а роль хозяйки здания любезно взяла на себя дочь посла Кэтлин.
За пределами нашего дипломатического оазиса начиналась огромная и во многом загадочная страна Россия, интересная для меня как ни для кого другого в мире. Я сам не мог участвовать в жизни этой страны. Несмотря на военный союз США и СССР, как я понял, американские дипломаты по-прежнему жили в изоляции.
С точки зрения тайной полиции мы, хотя и считались союзниками, оставались все же врагами, которых не следовало подпускать к советским гражданам, наверное, для того, чтобы мы не попытались выведать какие-то секреты советской службы безопасности, продолжавшей хранить их даже от нас, представителей союзной державы.
Но все это не мешало мне бродить по городу, гулять в парках, ходить в театры, а иногда выезжать на отдых за город. Там я был среди простых людей и старался утолить свою жажду новых впечатлений. Я пытался общаться с окружающими на равных, но при этом мне не следовало рассказывать людям, кто я такой, потому что это бы их смутило или испугало. Однако, соблюдая инкогнито, я мог вступать в контакты с окружающими: ведь они не знали, кто я, а потому их и нельзя было бы осудить за общение со мной. Для советских властей, особенно в сталинское время, мое естественное любопытство иностранца в отношении русской жизни расценивалось, я не сомневаюсь в этом, как замысловатая форма шпионажа. Я привожу краткий рассказ об одной воскресной загородной поездке, которую я совершил вскоре после приезда в Москву, чтобы дать читателю представление об атмосфере московской жизни военного времени.
"9 июля 1944 года
В то июльское утро погода в Москве была прекрасная. Я встал пораньше, желая осмотреть две церкви в Московской области, говорят, построенные еще во времена Ивана Грозного.
Выйдя из метро, я смешался с толпой людей, направлявшихся на Брянский вокзал{25}. Многие несли примитивные мотыги и другие странные инструменты. У пригородных касс выросли очереди и началась сутолока. На платформе стоял пригородный поезд. Хотя локомотива еще не было, все места в вагонах уже заняли. Впрочем, не было уже свободных мест и в проходах, и в тамбурах. Люди стояли даже на ступеньках, и новоприбывшие вроде меня метались по перрону, надеясь найти хоть одно место, где можно было бы стоять. Наконец я нашел ступеньку, где, как мне казалось, мог поместиться только один человек. Однако вслед за мной на эту ступеньку вскочила девушка и, ухватившись руками за перила, закричала, обращаясь к какой-то подружке на перроне: "Соня! Я нашла место!"
Вскоре локомотив загудел и поезд тронулся. Вдоль дороги повсюду тянулись огороды, где в основном выращивали картофель. На полях работали женщины, обрабатывая землю большими мотыгами. В одном месте я увидел окопы и противотанковые "ежи". Вероятно, здесь русские защищали железную дорогу в 1941 году от наступавших немцев. Среди полей тут и там возвышались одинокие деревья, а на горизонте темнела громада сосновых лесов. Пассажиры в тамбуре разговаривали на разные темы. Кто-то прочел в утренней газете известие о новом постановлении по вопросам семьи, и женщины оживленно обсуждали идею поощрения многодетных семей. Какая-то крестьянская девушка рассказывала о страданиях ее односельчан во время немецкой оккупации и о гибели ее мужа и всех родных. Я старался устроиться поудобнее, чтобы лучше слышать разговоры, но при этом случайно толкнул пожилую женщину надо мной. Она повернулась ко мне и закричала: "Что это такое, товарищ? Что за грубость! Вы толкаете меня уже десятый раз! А с виду вроде культурный человек". На это я не нашелся что ответить и промолчал.
Наконец поезд прибыл на нужную мне станцию. Церковь, в которой шла воскресная служба и пел хор, была видна с вокзала, и я без труда нашел к ней дорогу. Церковное пение здесь, однако, не самое лучшее, но слаженное и приятное. Интересно, кто в этом пригородном районе с его разношерстным населением взял на себя труд учиться григорианскому песнопению.
Я присел на бугорок, чтобы сделать несколько зарисовок церкви. Так прошли час или два. Служба продолжалась долго и завершилась к тому времени, когда я закончил рисовать. Прихожане, в основном пожилые женщины, вышли из церкви и разошлись по домам. На паперти остались старая нищенка и две женщины с детьми. Потом появился священник, явно пребывавший в дурном настроении, обошел вокруг церкви, прогнал женщин и ушел, бормоча, что дела идут плохо и даже на кусок хлеба заработать трудно. Я отправился на станцию, чтобы узнать расписание поездов и найти что-нибудь попить. В небольшой лавочке продавали минеральные воды и квас, но только в свою посуду, поэтому мне пришлось уйти ни с чем.
Ехать назад было еще рано, и я решил погулять. Около церкви стояло кирпичное здание в древнерусском стиле, окруженное кирпичной стеной с башнями, словно все это сооружение было выстроено как подражание Кремлю. У входной двери стоял одноногий солдат. Я спросил его, что это за здание. Женщина в белом платье с сеткой для продуктов в руке вмешалась в разговор. "Откуда ему знать? – сказала она. – Это старинный дом, его еще при Иване Грозном построили. Тут раньше какой-то боярин жил. Теперь мы живем. Хотите посмотреть?" Она проводила меня наверх, на второй этаж. В комнате за столом сидел мужчина, также хромой, которого моя спутница представила как своего мужа. Это, очевидно, был ветеран, который никак не мог привыкнуть к будням мирной жизни. Комнату перегораживал большой шкаф, позади которого, видимо, жил кто-то еще. Та часть комнаты, где мы находились, служила и гостиной, и столовой, и спальней, и вся, заставленнная разными вещами, напоминала складское помещение. Толстые кирпичные стены и форма окон свидетельствовали, что здание это действительно старинной постройки, хотя, может быть, и не такое древнее, как считали хозяева. Я спросил у женщины, как ей нравится жить в боярском доме, и она ответила, что здесь сыро и печка никуда не годится. Я пытался расспросить ее поподробнее об этом доме, но она сказала, что сама мало знает. Когда-то он, как и эта церковь, были частью боярского поместья, а неподалеку стоял большой барский дом, выстроенный позднее, в котором давно, "еще в мирное время", располагался музей. Но потом дом сгорел. Она спросила, не художник ли я, поскольку видела, как я рисовал церковь. Я ответил, что не художник, просто иногда люблю порисовать, показал им свои эскизы и распрощался.
Я пошел на север по тропинке через лес, вышел к речке и перешел на другую сторону. На маленьком картофельном поле работали две крепкие, широколицые женщины с сильными, загорелыми руками. Рядом на траве лежал мужчина и смотрел на них. Женщины работали с шутками и смехом, и было видно, что они получают удовольствие от солнечного летнего дня. Я спросил у них, как пройти к Минской дороге, и, получив ответ, отправился в дальнейший путь".
Вообще следует заметить, что стремление советских властей изолировать дипломатический корпус особенно угнетало меня в период после моего приезда в Москву в последние месяцы войны. Это мало соответствовало и внешнему духу добрых союзнических отношений, и чувствам многих из нас. Мы искренне сочувствовали страданиям русских людей в военное время и ценили их героизм.
Мы желали им только добра. Поэтому особенно тяжело было видеть, что на нас смотрели как на носителей какой-то инфекции.
В моем дневнике сохранилась запись, касавшаяся моего разговора с одним из московских знакомых в конце июля 1944 года. Тогда я говорил с ним о различии в советской и американской идеологиях и выразил недовольство по поводу того, что в их стране существует диктатура. Мой знакомый сказал: "Да ведь нам нельзя без диктатуры. Если наших людей предоставить самим себе, то они станут неуправляемыми".
Я ответил, что не стану делать комментариев по поводу их системы. Она, с ее сильными и слабыми сторонами, сложилась исторически, и это их внутреннее дело. Однако, продолжал я, "по-моему, вам не следует все время держаться на расстоянии от ваших друзей. Вернувшись в вашу страну, я нашел, что здесь существует та же нелепая система изоляции иностранцев, которая была и десять лет назад. Мы – ваши союзники, а у меня сложилось впечатление, что вы каждого из нас считаете чуть ли не шпионом".
Мой собеседник ответил: "Мы должны учить наших людей бдительности в отношениях с иностранцами. Только так можно воспитать самоконтроль, который им необходим".
Я заметил на это: "Вы слишком боитесь шпионов, так нельзя. Судя по этим вашим опасениям, вас можно принять за какую-то слабую страну, существование которой зависит от возможности исключить иностранное влияние. Разве ваши победы не принесли вам уверенности? Если бы мы были вам враждебны, зачем мы стали бы вам из года в год предоставлять помощь стоимостью в миллиарды долларов? Неужели, предоставляя вам такую помощь, наше правительство вместе с тем предписывало бы дипломатам плести какие-то интриги против вас?"
Мой знакомый ответил: "Нам не следует забывать, что мы живем в капиталистическом окружении, и сегодняшний друг завтра может стать недругом".
Я заметил: "Хорошо, вы можете вести себя так, как будто весь мир является вашим врагом. Но вы должны быть готовы принять и результаты такой политики – ту отрицательную реакцию окружающих, которую она не может не породить".
"Мы не боимся этого, – отвечал он, – нас это устраивает. Мы добились сейчас многих успехов, а чем больше у нас успехов, тем меньше обращаем мы внимание на мнение о нас за границей, имейте это в виду".
На этом наш разговор закончился.
Еще в одно воскресное утро летом того же года я, стоя на бульваре у резиденции посла, стал свидетелем неприятного для меня зрелища. По городу, от одного вокзала до другого, проводили колонну немецких пленных, всего около 50 тысяч человек. Стояла сильная жара. У пленных был изможденный вид, и я не сомневаюсь, что они страдали от голода. Верховые конвоиры, очевидно из советских пограничных войск, постоянно подгоняли этих людей, заставляя двигаться быстрее. Некоторые падали, и их оттаскивали на тротуар, чтобы потом подобрать.
По военным меркам это была не очень большая жестокость. Известно, что сами немцы поступали гораздо хуже с русскими военнопленными в первое лето войны, когда сотни тысяч из них погибли в лагерях от голода и холода, а остальные подверглись всяческим притеснениям. Да и по сравнению с дальнейшей судьбой самих этих немцев, с ожидаемым их тяжелым принудительным трудом, испытание, которому они подверглись на этом бульваре, выглядело не очень суровым. И все же меня поразило и опечалило это зрелище. Пленные были очень молоды, по возрасту, как мне показалось, не старше студентов колледжа. Каждый из них жил в семье, знал любовь и заботу родных и близких, а политические дела от них не зависели. Даже отвращение к нацизму не позволяет забыть обо всем этом. Ведь у них никто не спрашивал, начинать ли эту войну, и никто не требовал от них одобрения разных злоупотреблений, связанных с нацизмом. Они не сами также отправились на фронт. Будучи фронтовиками, они вряд ли активно участвовали в зверствах гестапо, СС и немецкой военной полиции в тылу. Так правильно ли, спрашивал я себя, наказывать всех этих людей за деяния их правительства, которое пришло к власти, когда они были детьми и никак не могли противостоять его политике? Разве можно признать оправданной жестокую месть в ответ на жестокость врага? Кого в этой ситуации можно считать правым?
Я отметил про себя, что в этом случае, и так было и будет всегда, я встал выше страстей войны, свидетелем которых был все эти годы. Повсюду – в Берлине, в Москве, Вашингтоне – у меня возбуждали негодование лицемерие, искажение фактов, мстительность, слабодушие. Но негодование мое возбуждали средства, а не цели, поставленные людьми. Цели их я считал странными, амбициозными, даже едва ли реальными, так что мне их трудно было принять всерьез. Как я заметил, одна из человеческих слабостей состоит в том, что людям надо верить в какие-то цели. Средства же, применяемые людьми, реальны. И как в военное время, так и в дни мира, меня больше всего интересовало не то, к чему люди стремились, а то, как они этого добивались. Связан ли такой подход со слабостью характера или более достойными качествами (об этом, я знаю, не может быть единогласного мнения), но я никогда не был человеком, для которого цель – главное.
Несмотря на благие намерения, посол, как и я, не мог полностью оставаться в стороне от политических проблем. В первую очередь это польская проблема, которая в то время создавала известные затруднения в советско-американских отношениях. Кратко напомню суть этой сложной проблемы.
В период действия советско-германского договора о ненападении советская и немецкая стороны достигли договоренности о разделе польской территории. Естественно, советское правительство игнорировало польское правительство в изгнании, которое отказывалось признать законность этих договоренностей. В то же время советские власти провели депортацию нескольких сотен тысяч человек из захваченных Советами районов Польши из Западной Украины и Западной Белоруссии во внутренние районы России и в Сибирь. Эти люди в большинстве не совершали каких-то особенных преступлений против советских властей, но они принадлежали к тем категориям населения, которые могли создать какие-то осложнения для укрепления советского режима в этом регионе.
В дополнение к этому советские власти, говорят, интернировали около 200 тысяч польских военных, пытавшихся всего лишь оборонять свою страну в 1 939 году. Из их числа около 10 тысяч польских офицеров, включая резервистов, советские полицейские подразделения расстреляли весной 1940 года, хотя польская армия не предпринимала агрессии против СССР и едва ли оказывала серьезное сопротивление советскому захвату польской территории. Не было это связано и с индивидуальной виной тех или иных офицеров. Их просто уничтожили "как класс". Это преступление получило известность после того, как немецкие оккупационные власти наткнулись на эти захоронения зимой 1943 года. О депортациях, конечно, знали и раньше, но о судьбе польских военнопленных и о деятельности советских полицейских властей в период действия советско-германского договора о ненападении общественному мнению стран Запада стало известно только теперь.
Летом 1941 года, после нападения Германии на Советский Союз, сталинский режим уступил требованиям западных союзников, согласившись признать польское правительство в изгнании, амнистировать поляков, арестованных или интернированных в СССР, и создать на советской территории армию из польских военнопленных и вообще из поляков под началом генерала Ан-дерса{26}.
Остается гадать, знал ли Сталин, идя на указанные уступки, о том, что сделала его полиция примерно с 10 тысячами офицеров. Ведь при формировании указанных польских военных частей, конечно, должен был встать вопрос о возможности их включения в состав этого войска. Все же в тот период делались значительные уступки западным союзникам, но потом эта тенденция прекратилась.
Даже в самое тяжелое военное время Сталин не пожелал возвратить Польше районов, занятых советским войсками в 1939 году{27}. Англичане же, в первую очередь представлявшие интересы польского правительства в изгнании, не стали последовательно проводить этих требований, видя в борьбе русских армий единственный шанс разгромить Гитлера.
К концу 1941 года, всего через несколько недель после этих уступок полякам, Сталин, видимо, стал сожалеть о них и постарался лишить их реального содержания. Начиная с того времени, в последующие 15 месяцев были приняты меры в этом направлении. Советское правительство отказалось признать польское гражданство тех депортированных, которые не могли доказать, что они поляки по происхождению, и, не спрашивая их согласия, просто признало советское гражданство за всеми, кто был квалифицирован как евреи, русские, белорусы и вообще неполяки. Это, конечно, значительно ограничило число людей, с которыми могло связаться в России правительство в изгнании. Но все же сформированные польские военные части по общему соглашению были удалены из Советского Союза. На советской территории разрешили создать (и даже поощряли его создание) Польский коммунистический комитет{28}, который вовсе не желал признавать авторитета правительства в изгнании. Попытки этого правительства связаться с соотечественниками и помочь депортированным постоянно натыкались на препятствия и постепенно потеряли практический смысл. В январе 1943 года советское правительство объявило всех поляков, оставшихся в СССР, советскими гражданами. В апреле того же года, когда нацисты объявили о найденных в Ка-тыни захоронениях, польское правительство в изгнании потребовало расследования этого дела Международным обществом Красного Креста, после чего советское правительство совершенно прекратило отношения с польским правительством в изгнании.
Незадолго до моего возвращения к службе в Москве в 1944 году я беседовал с советником польского посольства в Вашингтоне Яном Вжилаки обо всех этих проблемах, и мы пришли к соглашению, что враждебность Сталина к правительству в изгнании связана с желанием советского правительства иметь в Польше не просто дружественное правительство, как полагали многие на Западе, но полностью коммунистическое под советским контролем. Еще будучи в Тегеране по пути в Россию, я записал в дневник некоторые из своих идей относительно польской проблемы. Понимая, что на советской территории мои записи могут стать объектом пристального внимания советской тайной полиции, я постарался придать им дипломатичную форму, но суть от этого не изменилась. Я предлагаю читателю ознакомиться с некоторыми из этих записей.
"Будучи в Ираке, я имел случай поразмышлять о русско-польском вопросе. Это и понятно, ведь как человек, склонный к аналитическому мышлению, я не мог не понимать, что этот вопрос не раз возникнет в период моего пребывания в Москве, мешая развитию советско-американских отношений. Факт есть факт: для миллионов людей в нашей стране эта проблема остается пробным камнем в смысле желания России проводить гуманную и достойную политику, направленную на сотрудничество в Европе. Если желание есть, значит, у России и США есть и перспективы для развития плодотворного сотрудничества. Если же нет – то англосаксонским странам остается только поделить Западную Европу на сферы влияния и установить с Россией нейтральные отношения. Я понимаю, что сложность ситуации определяется в первую очередь не территориальными проблемами, а вопросом о польском правительстве. Советское правительство само для себя осложнило ситуацию в этом вопросе. Разумные люди понимают, что в настоящее время политика советского правительства, имеющая огромное значение для будущего всей Европы, не должна быть поставлена под сомнение из-за ошибок в прошлом, сделанных какими-то группами или лицами внутри советского правительства. Думаю, что польское правительство сможет также понять это обстоятельство в настоящее время. Существующие в России требования полного прекращения деятельности польского правительства и ликвидации его документов могут служить интересам определенных групп внутри советского правительства, ответственных за ошибки в прошлом. Они не служат интересам советского правительства или советского народа в целом. Ведь если свести деятельность польского правительства на нет, то люди, в нем работавшие, составят ядро польской эмиграции, которая годами будет вести пропаганду о предполагаемых эксцессах русских властей в отношении поляков в период действия русско-германского пакта о ненападении. Если же будет достигнуто разумное соглашение именно с этим правительством, что не обязательно связано с решением каких-то территориальных проблем, то данное польское правительство отнесется с пониманием к ошибкам, имевшим место в прошлом. При настоящем же курсе все будущее международных отношений России окажется под вопросом".








