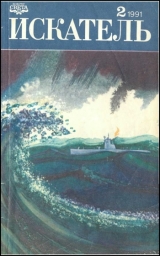
Текст книги "Искатель. 1991. Выпуск №2"
Автор книги: Джон Кризи
Соавторы: Николай Черкашин
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Вечернее солнце зацепилось за частокол труб доз крейсера, дымившего у входа в Стрелецкую бухту.
– Дмитрий Николаевич сделал Оленьке предложение, сообщила Михайлову Надежда Георгиевна.
– Ну что ж, – усмехнулся кавторанг. – В этом своя логика… Царевич Елисей, разбудивший спящую красавицу… Я бы хотел, – вздохнул он, – чтобы наши свадьбы были сыграны вместе… Быть может, даже в этом ресторанчике… Я бы хотел снять погоны и всецело отдаться науке… Война близится к концу, и все это так реально, как то, что я держу сейчас твою руку в своей… Но между вами еще год – глубокий, как пропасть. Все будет через год, если удастся перейти эту бездну. А пока возьми вот это, – Михайлов достал из нагрудного кармана кителя изящную серебряную вещицу на цепочке – небольшую копию боцманской дудки.
– Что это?
– Манок для дельфинов… Я сделал его так, что он издает иерозвук, на который охотно идут дельфины… Когда тебе станет грустно, позови их. Это надо делать вот как…
Они вышли на обрывистый берег бухты, где разрозненные колонны древних базилик подпирали вечернее небо, и Михайлов приложил к губам свой чудо-свисток. Вскоре и в самом деле водную гладь взрезали спины играющих дельфинов.
…Генуя просыпается рано. Среди белых домов и черепичных крыш, так похожих на севастопольские, катило по горбатой мощеной улочке ландо, запряженное парой мулов в соломенных панамах. На мягких подушках покачивались русский военно-морской агент в Италии барон Дитерихс и командир строящейся подводной лодки «Святой Петр» кавторанг Михайлов.
– Я должен предупредить вас, Николай Николаевич, о том, что в здешних морских кругах много говорят о вашем изобретении…
Барон многозначительно поднял брови. Михайлов улыбнулся, давая понять, что он не разделяет опасений морского агента.
– Пустяки… Просто мне приходится много заказывать в здешних мастерских и магазинчиках… Приборы, детали, материалы… У нас в России нет того, нет сего…
– Говорят, вы сооружаете на лодке какой-то чудо-аппарат, способный распознавать и указывать корабли противника.
– Ничего особенного. Опытная установка. Раз уж представилась такая возможность, грех ее упускать Шутка ли – можно монтировать параболические антенны прямо в прочном корпусе – без ущерба для штатного оборудований
– И все-таки я считаю своим долгом напомнить вам – настаивал на своем Дитерихс, – что Генуя, – город прифронтовой и потому наводнен разведками всех мастей. Будьте осторожны!
– Будьте покойны! Еще месяц-другой, и никакая разведка не сыщет нас в море.
В портовой траттории русские и итальянские моряки собрались поглазеть на петушиный бой. Одного петуха раззадоривал боцман Деточка, другого – итальянский унтер-офицер. Хохот, крики, подначки… Но петухи вели себя архимирно, налетать на соперника и клевать его не желали, норовили отскочить в сторону друг от друга.
Наконец морякам это надоело. Деточка поднял своего незадачливого бойца и показал его зрителям.
– Вот, к примеру, петух! На что уж глупая птица, а и та понимает: драться не резон. А мы, люди, умнее вроде бы всякой твари, а деремся так, что перья летят. Может, пора и нам эту бойню кончать, а, братцы? Трактория одобрительно загудела.
В каюте подводной лодки Михайлов отсчитывал мичману Покровскому лиры:
– Значит, так, Юрий Александрович, возьмите две катушки Румфорда, реостат, шеллак и бунзеновскую горелку… Уплатите за листовую медь и лудильные работы…
И вечер – ваш.
За спиной мичмана Покровского громоздилась в глубине отсека недостроенная установка иерофона: раструбы уходили к хитро свитым медным улиткам, походившим на извилины искусственного мозга.
Мичман в белой фуражке, белом кителе и белых брюках весело сбежал по трапу на причал и зашагал к портовым воротам, беспечно покачивая в руке легкий саквояж.
В центральном посту подводной лодки «Святой Петр» Михайлов отлаживал последние детали иерофона, когда к нему спустился военно-морской агент в белом кителе, но уже без погон, с золочеными нашивками на английский манер. Михайлов взглянул на свои руки, испачканные краской и маслом, протягивать ладонь не стал. Барон был сух.
– Николай Николаевич, итальянские власти просят ускорить выход вашей лодки в море. Ваш революционизированный экипаж разлагающе действует на местный гарнизон, в частности, и на мастеровых вообще.
Михайлов усмехнулся.
– Не волнуйтесь, выйдем при первой возможности. Сказать по правде, нам и самим здесь изрядно осточертело!
Кавторанг вытер руки паклей к швырнул ее себе под ноги.
День отхода наконец наступил. Команда «Святого Петра» в белых брюках и форменках была выстроена на верхней палубе. Итальянский военный оркестр играл прощальный марш. Десятки горожан, докеров, матросов пришли на причал, чтобы проводить маленький отважный кораблик в опасный путь. Узкое тело субмарины плавно оторвалось от пирса и двинулось к боновым воротам. Михайлов стоял на мостике, держа ладонь у козырька. Дитерихс вполголоса заметил итальянскому адмиралу: – Аве Цезарь, моритури тэ салютант! Я очень удивлюсь, если узнаю, что они добрались хотя бы до Гибралтара…
«Святой Петр» уходил в открытое море.
Фотокорреспондент, утвердив треногу на набережной, сделал снимок русской субмарины. Он не знал, что эта фотография будет последним земным следом «Святого Петра».
Часть втораяОксана Петровна позвонила Шулейко в самый разгар послеэкспедиционных отчетных работ, к этому времени он уже перестал различать, когда раннее утро, а когда поздний вечер, когда воскресенье, а когда понедельник.
Она позвонила в субботу.
– Алексей Сергеевич? У меня ксерокопия вашего дневника.
– Моего? – изумился Шулейко, не сразу поняв, о чем идет речь.
– Да, той тетради, что вы принесли. Наши криминалисты сделали все, что смогли. Не удалось разъединить лишь несколько страничек. Но и то, что удалось прочитать, – очень интересно.
– Когда я смогу вас увидеть?
– Приезжайте в понедельник ко мне на работу. Кабинет номер четыре…
– А сегодня? Нельзя ли сегодня? Скажите, куда мне подойти, и я подскочу в любое место.
– Сегодня у меня очень сложный день… Но если вам так уж не терпится, приезжайте на Вторую Бастионную, угловой дом…
Оксана Петровна вышла ему навстречу из небольшого частного домика в синем перепечканном известкой халате. Она несла ведра со строительным мусором.
– С полными, с полными! – улыбнулась на Шулейко. – Это к удаче… Подождите минутку.
На улице трезвонил колокол мусоровозной машины, призывая местных жителей поспешать с «черными» ведрами. Помойных баков в севастопольских дворах не держали по причине жаркого климата.
Алексей Сергеевич взял у хозяйки дома ведра и сам отнес их к машине. Водитель – рыжий парень в черной футболке – меланхолично звонил в колокол, подвешенный к кузову-контейнеру,
Шулейко знал за своими глазами одну особенность: что бы он ни разглядывал, но если предмет внимания носил какую-то надпись или просто какие-либо пометки, взгляд сразу же схватывал все буквенное и цифровое: будь то подпись к картине, шапка газеты в руках соседа или ценник в витрине. Эта привычка, совершенно необходимая ему как ученому-изыскателю, ставила его порой в неловкое положение, особенно в гостях, когда, повинуясь неистребимому буквочейству, он поднимал с накрытого стола чашку, блюдечко, вилку и начинал изучать фабричное клеймо, даже не догадываясь, что хозяева конфузятся, ибо донышко чашки украшали чаще всего отнюдь не севрские мечи, а столовое «серебро» не было помечено пробами благородных металлов. Однажды в троллейбусе он невольно вогнал в краску девушку в просвечивающей блузке, пытаясь прочесть «лейбл», пристроченный на ее груди.
Вот и здесь, у машины, взгляд Шулейко непроизвольно приковала надпись «IERIHON», белевшая на футболке шофера, и полустертая славянская вязь, обегавшая край колокола: «ИРЕНА. 1910 г.».
– Откуда у вас этот колокол? – поинтересовался Шулейко у шофера.
– А черт его знает! – сплюнул рыжий. – Я его вместе с машиной принял… Сменщик подвесил… Щас на пенсию ушел, все забрать грозится. А штука хорошая – во звонит! – И он шарахнул языком в колокол. – Аж на Малашке слышно.
Шулейко удивился лишь сходству латинских букв на футболке и русских на бронзовой реборде: «IERIHON» – «ИРЕНА» – не белее того. Он высыпал в контейнер куски штукатурки и отнес пустые ведра во дворик.
– Извините, но пригласить к себе не могу – ремонт, – пояснила Оксана Петровна. Она протянула серую картонную папку с типографской надписью «Уголовное дело №… Начато… Окончено…»
– Не обращайте внимания, – усмехнулась она, видя, что название папки произвело впечатление на Шулейко.
Шулейко пристроился на боковом сиденье троллейбуса. Его толкали, его просили «пробить» талончик… Он ничего не замечал и ничего не слышал. В пальцах его подрагивали листки, сероватые от графитовой напыли. «26 февраля 1918 года. Атлантический океан. Ш – 26°07′ Д – 24°20′.
…Утешаю себя тем, что в моем положении много надежды. Из всех потерпевших несчастье на море я, наверное, в лучшем положении. Корабль мой крепок и надежен стальные отсеки не дают течи. В шторм я задраиваю верхний рубочный люк. Правда, несчастную субмарину швыряет как пустую бутылку в пьяном кабаке. Но я принайтовливаю себя к койке и пережидаю свирепую качку, предаваясь воспоминаниям былой жизни…
Провизии мне хватит на год и более – трюм забит консервами. Воды в питьевой цистерне тоже много. К тому же ящик с бутылками кьянти, прихваченный из Генуи, не опорожнен и наполовину. На завтрак разогреваю на свече банку тушеной говядины или открываю шпроты. Потом завариваю, чай (запасы кофе кончились месяц назад) и пью его вприкуску с галетами или сухарями. Потом поднимаюсь на мостик и обозреваю горизонт в бинокль. Фальшфейер всегда наготове.
Три дня назад к вечеру я заметил дымок угольного парохода. Он шел на вест в трех милях у меня по корме. Я привязал к головке перископа фальшфейер, зажег его и поднял ствол перископа на максимальную высоту. Меня заметили, и я едва не пустился в пляс на крыше, боевой рубки, когда увидел, что мачты судна створятся, судно шло ко мне. Я предполагал нейтрала – скорее всего испанца – и не ошибся.
Купец шел на всех парах – я уже различал его торговый флаг, как вдруг пароход резко отвернул и тем же полным ходом двинулся прочь, показав мне белый бурун за кормой. – Должно быть, капитан, увидев силуэт подводной лодки и опасаясь моего несчастного корабля, как гремучей змеи, бросился наутек.
Германские субмарины наводили страх даже здесь – в Центральной Атлантике…»
Шулейко перелистал ксерокопию, пытаясь поскорее найти ответ на мучивший его вопрос – что же все-таки произошло с экипажем «Святого Петра»? Как случилось, что командир остался на подводной лодке один посреди океана?
Листки были сложены в том порядке, в каком удавалось разъединять слипшиеся страницы дневника. И то, что он искал вначале, обнаружилось на самом дне папки.
«17 ноября 1917 года. Гибралтарский пролив.
Из Генуи в Лиссабон.
Курс 240°.
Мы благополучно миновали Гибралтарский пролив, и за мысом Сант-Висент Атлантика, несмотря на позднюю осень, встретила нас немыслимым в это время штилем Однако иерофон дал сигнал скорой перемены погоды к шторму. То же предвещал и барометр в боевой рубке. Я велел крепить вещи в отсеках по-штормовому и в помощь боцману отправил с мостика сигнальщика, вызвав на его место мичмана Покровского.
Очень скоро мы открыли по правому борту пароходный буксир под португальским флагом, который лежал в дрейфе. Покровский поднял бинокль и прочел название – «Антарес». Он отпросился с мостика, чтобы записать обстоятельства нашего прохода через пролив в вахтенный журнал, и вскоре вернулся.
К полудню задул свежий ветер, и «Святой Петр» вошел в весьма ощутимую килевую качку.
В 13.40 неожиданно и без команды остановился дизель-мотор. Через переговорную трубу я запросил моторный отсек, в чем дело, но мне никто не ответил. Я попросил Покровского немедленно спуститься вниз и узнать, что там случилось. Очень скоро он вынырнул из люка весьма обескураженный.
– Николай Николаевич, там что-то странное… Похоже, что они все укачались…
Я велел мичману, оставаться на мостике, а сам прыгнул в люк. Я едва не наступил на чье-то тело, распростертое на палубе под нижним обрезом входной шахты. Боцман Деточка, обхватив голову, безжизненно переваливался в такт качке. В дизельном отсеке мотористы лежали ничком на смотровых дорожках, тела их перекатывались в такт качке.
…«Уж не угорели ли они?!» – подумал я. Но вентиляция исправно гнала свежий воздух. Я прошел в нос – оба минера валялись подле минных аппаратов. Они не были пьяны, как показалось мне в первую минуту. Они спали. Спали глубоко, крепко, беспробудно. Я убедился в этом, как только, вернувшись в центральный пост, попытался привести в чувство боцмана. Я тряс его, кричал, щипал, бил по щекам. Все было тщетно. Здоровяк пребывал в глубоком забытьи.
Внезапно я ощутил и в себе странные перемены. Мне захотелось присесть, отдохнуть. Чувство тревоги за команду, за лодку улеглось, мне стало все безразлично. Голова отяжелела так, что впору было придерживать ее руками. Я качнулся, ухватился за раструб иерофона и тут обнаружил, что он вибрирует. Иерофон работал как иерогенератор! Чья-то злая рука вставила в адаптер одну из бамбуковых игл, которые я берег для особо важных опытов, и пустила ее по 9-герцовому эбонитовому диску. Брат мой предполагал – чисто умозрительно, – что иерозвук именно этой частоты погружает его пациентов в летаргический сон. Меня неудержимо клонила прилечь, я рухнул на колени, но прежде, чем расстаться с последними проблесками сознания, падая на пайолы, я успел ударить рукой по адаптеру и выбить иглу с губительной дорожки. И все же разум мой померк. Я прилег, положив под голову фуражку. Не знаю, сколько времени я так пролежал. Очнулся от глухого удара в корпус. Подобрал фуражку и быстро выбрался по скоб-трапу на мостик. Я увидел картину, которая окончательно привела меня в чувство: саженях в двадцати от «Святого Петра» покачивался на волне большой черный буксир под португальским флагом. Его матросы в круглых шапочках с помпонами раскручивали бросательный конец, а мичман Покровский выбирал его стоя на носу субмарины.
– В чем дело, Юрий Александрович?! – крикнул я ему с мостика.
– Они отведут нас в Лиссабон. Это нейтралы! – отвечал Покровский, не прерывая своего занятия. С борта «Антареса» – я прочел на скуле непрошеного спасателя его имя – уже подавали манильский канат. Боцман буксира поторапливал своих матросов… по-немецки.
– Мичман Покровский! – закричал я снова. – Извольте вернуться на мостик. К погружению!
Но он еще быстрее заработал руками, подтягивая к борту буксирный канат. Тут все решали секунды. Мне некогда было раздумывать о причинах его странного непослушания. Я задраил за собой люк и открыл клапаны баластных цистерн. Погрузив лодку на перископную глубину, я бросился в корму, чтобы запустить электродвигатель, но забыл второпях разъединить муфту и закрыть выхлопную магистраль дизеля, он успел хлебнуть забортной воды, в цилиндрах его случился гидравлический удар, и я навсегда лишился надводного хода. Но оставался еще электромотор со свежезаряженной аккумуляторной батареей. Я немедленно пустил его в действие и ушел на 30-футовую глубину. Отойдя в сторону, я подвсплыл, поднял перископ и увидел, как матросы «Антареса» вытаскивают из воды мичмана Покровского. На гафеле буксира вместо португальского развевался германский флаг.
Когда буксир скрылся, я продул цистерны и всплыл. Море было пустынно. На востоке еще синели горные кручи Гибралтара, но они таяли с каждым часом. Свежий норд-ост сносил дрейфующую лодку в океан. Я ясно понимал, что аккумуляторная батарея не позволит мне достичь берега под электромотором, поэтому решил поберечь остатки энергии для освещения, приготовления кофе и самое главное – для световых сигналов бедствия ночью. Ведь радиотелеграфную станцию нам должны были установить лишь по прибытии в Портсмут.
Я спустился вниз и попытался чем мог облегчить участь моих несчастных соплавателей. Прежде всего я поднял тех, кто лежал на железе, уложил их на койки и надежно принайтовил, чтобы качка не сбросила их на палубу. Потом я попытался привести их в чувство, давая нюхать нашатырь, вливая в рот спирт, растирая виски камфарой. Но все было тщетно. Как ни был готов я к испытаниям на море, ужас заглянул в мою душу. Я горячо помолился перед судовой иконой Николаю-чудотворцу, заступнику морского люда, чтобы он явил милость и послал нам спасение в виде какого-нибудь купца-некомбатанта.
Иерофон еще с утра показывал приближение шторма. К вечеру нас стало швырять просто нещадно. Я пытался стоять на мостике, чтобы не пропустить огни случайного парохода, но очень скоро мне пришлось задраить верхний люк и сменить промокшее платье вплоть до белья. Подкрепив себя разогретыми консервами и «адвокатом», я выключил в лодке все освещение, кроме красной пальчиковой лампочки перед иконой св. Николая, и попробовал уснуть. Несмотря на пережитые треволнения и сильную усталость, сон бежал от меня прочь. Лодку валяло с борта на борт так, что того и гляди из аккумуляторов выплеснется электролит. Расклинившись на своей койке, то есть упершись локтями и коленями в бортик и переборку, я предавался мрачным размышлениям о том, что «Святой Петр» со своей спящей командой превратился в подобие «Летучего Голландца», а я – в навеки проклятого капитана Ван Страатена. Знать бы, кем и за что?
5 января 1918 года
Атлантический океан.
В сочельник умер боцман Деточка. Он держался дольше всех…
Прошел почти месяц с тех пор, как из командира боевого корабля я превратился в брата, милосердия плавучего лазарета, затерявшегося в океанской пустыне. Два насущных дела занимали все мое время: высматривание в море проходящих мимо судов и помощь сотоварищам, ставшим нечаянными жертвами моего изобретения и злого умысла моего же бывшего помощника, ученика, друга. Как я жалею, что здесь нет брата, который, несомненно, смог бы вернуть их всех к нормальной жизни. Мне же остается одно: поддерживать их угасающие силы той жалкой стряпней, которую я готовлю из яичного порошка, консервированного молока, какао и вина. Это весьма неблагодарное занятие – кормить спящих. Не все умеют проглотить мою «питательную смесь», она вытекает изо рта, и кажется, есть опасность, что мой подопечный может захлебнуться. В шторм, в сильную качку с кормлением и вовсе ничего не выходит. Глотательный рефлекс мне удается вызвать далеко не у всех. До рождества я еще не терял надежды, что кто-то проснется и жизнь моя сразу станет легче…
…Первым погиб машинный унтер-офицер Найда. В сильную бурю лопнули найтовы, его сбросило с койки и ударило головой об острое ребро станины электромотора. Я обнаружил его, когда бедняга уже не подавал признаков жизни. Замотав его тело в одеяло, я вынес покойника на палубу и, прочитав молитву, предал его морю. Определил координаты погребения и записал их в вахтенный журнал. В тот же печальный день иссякли и последние амперы электричества. Плотность электролита упала до нуля.
Из сигнального фонаря и фитиля, пропитанного соляровым топливом, я соорудил нечто вроде коптилки. При зыбком и скудном ее свете я веду эти записи.
Через два дня умер, по-видимому от глубокого истощния организма, матрос Стороженко. Я похоронил его также по морскому обычаю.
Судя по всему, ветры и течение сносят «Святой Петр» к Азорским островам. Тешу себя мыслью, что именно там мы получим помощь. Но, увы, Канарское течение заставило «Святой Петр» пересечь уже тридцатиградусный меридиан. Уповаю только на то, что если пассатные ветры не ослабнут, меня все-таки прибьет к бразильскому берегу.
Провизии у меня достаточно. Но питьевая вода уже начинает портиться…
14 января 1918 года Центральная Атлантика
Вчера видел дым. Грузовой пароход шел контркурсом на норд-ост. Зажег паклю на поднятом перископе. Пароход направился было ко мне, но, заметив, что имеет дело с подводной лодкой, поспешно отвернул прочь. Не судьба! Единственное, что скрашивает мое положение и придает силу духа, – наблюдение над иерозвуковым эфиром океана. Слуховая аппаратура иерофона работает безотказно. Вот если бы еще было электричество, «Святой Петр» оказался превосходной плавающей лабораторией. Иногда кажется, что судьба сама пошла мне навстречу: вместе войны я обрел идеальную возможность для научных занятий. С болью думаю о коварстве моего счастья. Неужели все это канет вместе со мной на дно морское?! Одно утешает: брат мой, Дмитрий Николаевич, сохранит мои чертежи, расчеты и образцы.
Декабрь 1918, а может быть, январь 1919 года Южная часть Атлантики
Думаю, что сегодня все же сочельник. Наступает 1919-й. Готовлюсь к неизбежному… Пока еще есть силы, максимально облегчил лодку: выстрелил из аппаратов все мины, осушил вручную трюма. Моя гробница должна как можно дольше продержаться на плаву. Рано или поздно ее прибьет к берегу. Какое там «рано»?! Конечно – поздно. Для меня-то уж определенно – поздно. Сегодня размонтировал и выбросил за борт иерогенератор. Идет война, и если этот аппарат попадет к врагу или в иные недобрые руки, его могут сделать новым чудовищным средством умерщвления людей.
Февраль 1919 года
Место не обсервовано (нет сил поднять секстан)
В полдень попрощался со всем белым светом. Скоро наступит тьма – черный свет смерти. Цинга делает свое дело.
По всей вероятности, «Святой Петр» попал в мощное циклическое течение, и теперь его будет носить, пока хороший шторм не выбросит его из этого проклятого круга.
Наверное, океан не хочет со мной расставаться. Я понял его язык. А он нашел во мне собеседника. Смею утверждать: океан – существо разумное. Это наш древний пращур. Его соль носим мы в своей крови. Мы вышли на сушу, но незримые нити связывают нас с его животворными недрами. Он управляет нами, дает нам энергию, пищу, волю. Он судит нас; у одних он отнимает рассудок, у других жизнь, достойным – дарует великую силу духа. Как жаль, что мы разучились слышать голос, этого мудрого исполина.
Весна 1919 года…
Не верю в смерть в средоточии жизни!..
Страницы дневника разлеплялись с огромным трудом. Но как только удавалось отснять очередной разворот, Оксана Петровна звонила Шулейко, и тот, немедленно приезжал и забирал листки ксерокопий. Голос кавторанга Михайлова, звучал для него в самых неожиданных местах в обеденной очереди с подносами, в пляжном шезлонге, в зале профсоюзного собрания. Он почти что наяву слышал этот голос, будто шел он со старой заезженной шипящей пластинки. Он мог даже описать этот голос: неторопливый, глуховатый, отчетливо выговаривающий каждое слово…
Эпизоды отчаянного плавания командира «Святого Петра» престранным образом вклинивались в его обыденную институтско – городскую жизнь, отчего все текущие и грядущие хлопоты, беды и радости вдруг стали казаться Алексею Сергеевичу унылыми, блеклыми, пресными. Он заболел «Святым Петром», и эта болезнь захватила его гораздо сильнее, чем Все прочие былые страсти, а уж отдаваться своим увлечениям Шулейко умел, так что каждое из них – и подводная охота, и велосипед, и собирательство старинных фотоаппаратов – превращалось в самую настоящую манию.
Вот и в эти суматошные дни, как ни была забита голова экспедиционными отчетами и переживаниями за Вадима, Шулейко то и дело возвращался мыслями к Михайлову, к тайне его одиночного плавания.
Всякий раз, когда он вчитывался в новые странички дневника, ему чудилось, что он держит в руках только что принятую радиограмму, что «Святой Петр» все еще там, в океане, дрейфует по воле волн и течений, что стоит только всполошить аварийные службы, и еще можно успеть прийти на помощь обреченной субмарине. Но он хорошо помнил, как высвобождал из окостеневших пальцев иссохшую планшетку. Выходило так, что капитан 2-го ранга Михайлов из рук в руки передал ему свой дневник. И не кому-нибудь, а лично Алексею Сергеевичу Шулейко. От этой неотвязной мысли можно было повредиться в уме.








