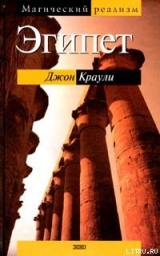
Текст книги "Эгипет"
Автор книги: Джон Краули (Кроули)
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 33 страниц)
Джон КРАУЛИ
ЭГИПЕТ
От автора
Эта книга, даже в большей степени чем большинство книг, опирается на другие книги. И автору хотелось бы выразить глубочайшую признательность тем авторам, чьи книги он обирал обильнее прочих, и принести свои извинения за то, к чему он приспособил их труды. Это: Джозеф Кэмпбелл, Элизабет Л. Айзенстайн, Мирча Элиаде, Питер Френч, Ханс Йонас, Фрэнк Э. и Фритци П. Мануэль, Джорджио ди Сантильяна, Стивен Шенбаум, Уэйн Шумакер, Кит Томас, Линн Торндайк, Д. П. Уокер и прежде всего скончавшаяся не так давно дама [1]1
Дама – официальный титул жены баронета.
[Закрыть] Франсес Йейтс, поскольку все нижеследующее есть не что иное, как фантазия на заданные ею темы, и питается эта фантазия ее обширнейшей научной эрудицией.
Кроме того, я опирался на теоретические положения Джона Мичелла и Кэтрин Молтвуд, Роберта Грейвза, Луиса Роуза и Ричарда Дикона. Я пользовался комментированным переводом «Герметики» Уолтера Скотта и «Soledades» Луиса де Гонгоры в переводе Гилберта П. Каннингема.
И тем не менее все нижеследующее есть чистой воды вымысел, и не стоит воспринимать книги, которые будут здесь упомянуты и которые персонажам предстоит искать, читать или цитировать, как что-то более реальное, чем люди и места, деревни, города или дороги, чем исторические фигуры, чем звезды, камни и розы, заключенные все в ту же оболочку.
Пролог на небе
В кристалле были ангелы, два четыре шесть много, и каждый силился занять свое место в строю, как олдермен на параде лорд-мэра. Белых одежд не было вовсе; у некоторых длинные волосы схвачены головной повязкой или венком из цветов; глаза у всех до странности веселые. Они продолжали протискиваться в строй, по одному или по два, и место неизменно оставалось для все новых и новых, они подхватывали друг друга под локоть и сплетали за спинами руки, они улыбчиво поглядывали на тех двоих смертных, которые решили за ними понаблюдать. И все их имена начинались на А.
«Видите! – сказал тот из двоих, что был помоложе. – Слышите!»
«Я ничего не вижу, – ответил второй, старший годами, который бывало часами просиживал за этим самым магическим кристаллом впустую, хотя и готовился к каждому сеансу, через долгую молитву и полную внутреннюю сосредоточенность. – Я ничего не вижу. И ничего не слышу».
«Аннаэль. И Аннахор. И Анилос. И Агобель, – говорил тот, что помладше. – Господи, сохрани нас и упаси от всяческой напасти».
Кристалл, в который они оба смотрели, представлял собою шар из серого кварца, цвета кротовой шкурки и размером с кулак, и ясновидец глядел в него так пристально и с такого небольшого расстояния, что почти уткнулся в него носом и скосил глаза; он поднял к шару руки и прикрыл его ладонями, как прикрывают от ветра дрожащий огонек свечи.
Им пришлось потрудиться не более четверти часа, прежде чем в кристалле появилось первое потустороннее существо; их тихие молитвы и заклинания смолкли, и какое-то время было слышно только, как под порывами резкого ветра, заполонившего собой сырую мартовскую ночь, дребезжат оконные стекла. Когда младший из них, мистер Толбот, который стоял перед кристаллом на коленях, начал дрожать, как будто бы от холода, старший, чтобы его успокоить, положил ему руку на плечо; а когда дрожь все-таки не унялась, поднялся с места и стал ворошить в камине пламя; и в это самое время ясновидец сказал: Смотрите. Вот он. А вот еще один.
Доктор Ди – старший из них двоих, тот, кому принадлежал камень, – обернулся, стоя у камина. По спине у него пробежал холодок, волоски на шее встали дыбом, а где-то внутри, под ложечкой, разлилось тепло. Он постоял какое-то время, глядя на двойное отражение свечи на поверхности кристалла и в мутноватых его глубинах. Он чувствовал, как ходят по комнате сквознячки, отголоски наружного ветра, слышал, как ветер под сурдинку подвывает в трубе. Но видеть в этом сером стекле – нет, он ничего и никого не видел.
«Говори, – тихо сказал он, – ты говори, а я стану за тобой записывать».
Он отставил кочергу, схватил острое перо и обмакнул его в чернильницу. В верхней части листа он нацарапал дату: 8 марта, 1582. И застыл в ожидании, глядя сквозь круглые очки в черной оправе широко раскрытыми круглыми глазами. В ушах у него грохотал стук собственного сердца. Никогда еще дух не сходил к нему в кристалл так быстро. Сам он был лишен способности видеть вызванные в камне существа, но привык к тому, что приходится просиживать или простаивать в молитве на коленях радом с медиумом или ясновидцем по часу, а то и по два, прежде чем удастся ухватить краем глаза какой-нибудь неясный силуэт. А то и вовсе ничего не выйдет.
Только не этой ночью, не этой ночью. По всему дому была слышна скороговорка скрипов, стуков, скрежетов, как будто мартовский ветер уже успел пробраться внутрь и теперь бесчинствовал в комнатах; в библиотеке сами собой листались оставленные открытыми книги. Проснулась в опочивальне супруга доктора Ди, откинула полог и глянула на свечку, которую оставила для мужа: когда придет, потушит.
А потом и шум, и ветер стихли; и над домом, и над Лондоном повисла тишина (над Лондоном, да и над всей Англией, беззвучное, безветренное затишье, как будто кто-то задержал дыхание, пауза столь глубокая и внезапная, что в Ричмонде проснулась королева и выглянула из окна, чтобы увидеть, как круглое лицо луны вернет ей взгляд). Молодой человек прижал ладони к камню и голосом тихим и запинающимся, едва ли много громче поскрипывания докторова пера, начал говорить.
«Это Аннаэль, – сказал он. – Аннаэль говорит, что он отвечает за этот кристалл. Да пребудет с нами милость Господня».
«Аннаэль, – повторил за ним доктор Ди и записал имя. – Ага».
«Аннаэль, тот самый, который отец Михаилу и Уриэлю. Тот Аннаэль, который Толкователь творений Божьих. Он обязан ответить на любой вопрос, какой ему ни задашь».
«Ага. Толкователь».
«Гляньте, гляньте. Видите, он распахнул свои одежды и указывает пальцем на живот себе. Господи, помоги и избави нас ото всякого лиха. В животе у него магическое зеркало, а в зеркале оконце, такое же, как здесь, от нас к нему».
«Да-да, говори, я успеваю!»
«А в оконце ребенок в полном вооружении, девочка, как маленький солдатик, и в руках у нее снова зеркало, нет, кристалл вроде этого, но не этот. А в этом камне…»
«В этом камне, – повторил доктор Ди. Он поднял голову от неровных прыгающих строчек, которыми исписал уже половину листа. – В этом камне…»
«Господи Боже, Отец наш небесный, да святится имя Твое. Иисусе Христе, Сыне Божий, Господь наш, смилуйся над нами. Близится, близится таинство великое».
Ясновидец больше ничего не видел и не слышал, он – был: в центре маленького камня, который протягивал в его сторону маленький улыбающийся ребенок, заключено было пространство столь огромное, что все легионы Михаила не в силах были его заполнить. И душу его, целиком ушедшую в созерцание, со страшной силой втянуло в это пространство, у него перехватило дыхание, в ушах звенела музыка, и он беспомощно дал могучему току унести себя, так, словно соскользнул с края пропасти. А потом не стало ничего, кроме великого ничто.
А затем из этой бескрайней пустоты, звучащей бесконечной бездны, которая была одновременно больше, чем вселенная, и являлась самым сердцем вселенной, – из этого ничто вдруг появилось нечто, родилось в роскошной муке, словно капля. Ничто не могло быть на свете меньше, ничто не могло быть удаленнее, чем эта капля пустоты, чем это семя света; эон за эоном двигалась она вперед и подросла лишь на малейшую долю. Но вот наконец смыслы и силы вселенной начали собираться вкруг нее, вкруг отпрыска и отпечатка их собственного многотрудного пути, и капля отяжелела; капля стала криком, крик посланием, послание – ребенком.
А сей прошел сквозь замкнутый порядок сфер, сквозь небеса, которые, одно за другим, растворялись на его пути подобием театральных кулис. Потревоженные звезды оглядывались на крик, когда он возглашал очередное слово, очередной пароль, и отходили в сторону, чтоб дать ему пройти; юный, могучий, распущенные волосы отброшены назад, а в глазах горит пламя, он ступил на грань восьмой сферы и остался стоять на переполненном причале.
В путь, в путь. Он так далеко успел забраться, что та пропасть, в которой он обрел свое начало, пустота, объемлющая бытие, усохла внутри него и стала всего лишь семенем, каплей. Он забывал пароли, каждое сказанное слово, едва оно слетало с губ; он был закутан в пройденный им путь, как в теплые одежды, тяжелые и теплые. Века, зоны спустя, пережив немыслимые приключения, став забывчивым, неразумным, старым, в конце концов, кораблем, или поездом, или на самолете он доберется. Куда? С кем он должен будет там поговорить? Кому адресовано послание, кого должен разбудить этот крик?
Поднимаясь на борт корабля, он все еще помнил об этом. Он поднялся на борт: толпа на причале с бормотанием расступилась и дала ему дорогу; он ступил на палубу, он взял в руки нити, канаты. Он вышел в море под знаком Рака, надувшийся ветром парус нес этот знак на себе; потом у него на нок-реях объявились два сияющих огня, что это было – Кастор и Поллукс? Spes proxima: далеко, далеко-далеко повернулся синий агат, молочно-тусклый самоцвет.
Пролог на земле
Нужно только помолиться ангелу-хранителю, когда ложишься спать, говорила его двоюродная сестра Хильда, и я всегда просыпаюсь именно тогда, когда мне нужно проснуться: так она говорила. Она говорила, что просит, чтобы ее разбудили в шесть, или в семь, или в семь тридцать, а потом засыпает, представляя себе часы со стрелками на нужных цифрах, а когда открывает глаза, именно на этих цифрах они и стоят.
Он так не умел, да и не слишком-то верил, что Хильди умеет, но – что он мог ей возразить? Может быть, это как с Петром, который никак не мог научиться ходить по воде: он смог бы делать так же, как Хильди, если бы только ему достало веры, но веры ему как раз и недоставало, а если он проспит, то опоздает к мессе, и что в результате получится, страшно даже представить; священнику, вероятнее всего, придется обратить к пастве свое печальное и большеротое, как лягушечье, лицо, и задать вопрос, не сможет ли кто-нибудь взять на себя обязанности служки; и какой-нибудь мужчина в рабочей одежде выйдет к нему, поддернет штанины и опустится на колени на нижней ступени, где должен был бы стоять он, но проспал.
Так что просыпался он по звуку медного будильника, четвероногого, а над циферблатом гонг, и два молоточка лупят в него поочередно, как будто будильник сам себе пытается вышибить мозги. Получалось так громко, что в первые секунды он даже не воспринимал звук как звук, ему казалось: это что-то другое, всемирная катастрофа, он вскакивал и садился в кровати, прежде чем до него доходило: это будильник, который надрывается что есть мочи и шествует на своих коротеньких ножках к краю письменного стола. Птичка, его двоюродная сестра, начинала возиться на соседней кровати, под одеялом, и застывала снова, как только он гасил звук.
Он проснулся, но встать никак не мог. Он включил ночник в изголовье кровати; на матовом стекле абажура сумеречный пейзаж, и еще один абажур, внешний, прозрачный, на котором нарисован поезд. Под лампой лежала книга, раскрытая, обложкой вверх, так, как он ее вчера оставил. Он взял ее в руки. Промежуток между тем временем, когда нужно проснуться, и тем, когда нужно вставать, он почти всегда заполнял отложенной с вечера книгой. Ему было одиннадцать лет.
Пройдет много лет, и Джордано Бруно будет часто и неизменно с радостью вспоминать свое ноланское детство. Оно часто всплывает в его сочинениях: неаполитанское солнце на золотых полях и виноградники, окружившие со всех сторон гору Чикала; кукушки, дыни, вкус mangiaguerra, густого и темного местного вина. Нола была древним городом, расположенным между Везувием и горой Чикала; даже и в шестнадцатом веке видны были руины, оставшиеся от прежней, римской Нолы: храм, театр, маленькие, непонятного назначения склепы. В начале века в Нолу приезжал Амброзии Лев, чтобы срисовать план старого города, окружность городских стен, двенадцать башен, и попытаться обнаружить ту геометрию, на которой, как считал Лев, были основаны все античные города.
Бруно вырос в слободке под названием Чикала: четыре-пять домишек, притулившихся снаружи к древней городской стене. Его отец, Джоан, был старым солдатом, бедным, но гордым, он получал пенсию и держал огород. Он часто бродил по горным склонам и брал с собой сына. Бруно помнил, что с зеленого бока Чикалы старик Везувий показался ему голым и неприветливым; но когда они стали взбираться на Везувий, он оказался на поверку таким же зеленым и возделанным, и виноград там был такой же сладкий; а когда, ближе к вечеру, они с отцом оглянулись на Чикалу, на то самое место, откуда пришли, Чикала выглядела пустынной и каменистой.
На суде Бруно сказал, что именно тогда открыл для себя, сколь обманчива бывает видимость. На самом же деле он открыл нечто куда более значимое для всей его позднейшей мысли: он открыл Относительность.
Поезд на абажуре, согретом светом лампы, потихоньку тронулся в путь сквозь сумеречный пейзаж. На часах было уже без скольки-то там шесть. По будням месса начиналась в шесть сорок пять, и на этой неделе он должен был прислуживать каждый день; после того, как отслужит воскресную заутреню, ежедневные перейдут к кому-то другому, а он станет прислуживать только по воскресеньям, и будет взбираться вверх по лесенке часов, пока не доберется до вечери в одиннадцать. А потом опять начнется неделя непроглядной утренней тьмы.
Этот порядок действовал только в одной-единственной церквушке, стоящей с обшитыми доской стенами в ложбине, и придумал его приходской священник, чтобы наилучшим образом использовать тех пятерых или шестерых служек, которые находились у него в распоряжении; но для самих, мальчишек он был столь же непреложен, как законы природы, как течение самой по себе мессы, про которую священник говорил, что она будет не действенна, если выпустить из нее хотя бы одно слово.
Мальчиком он видел духов в окрестных березовых и лавровых рощах; однако умел он также и сидеть, терпеливо и внимательно, у ног отца Теофило Ноланского, который учил его латыни и законам логики и тому, что мир круглый. В своих «Диалогах» Бруно иногда снабжает того персонажа, в чьи уста он вкладывает собственную философию, именем этого самого священника: Теофило. А в De monade, своем последнем объемистом латинском стихотворении, он пишет: «Искони, с детских лет, велась моя борьба».
К тому времени как он успел натянуть кроссовки и джинсы и еще две фланелевые рубашки, которые он носил одну поверх другой, и длинным сумеречным путем прошел через весь дом на кухню, там уже успела появиться мама, и налила ему стакан молока. Они обменялись всего лишь несколькими привычными словами, слишком сонные, чтобы тратить силы на большее, чем простой вопрос и такой же простой ответ. Он чувствовал: матери не нравится уверенность священника в том, что одиннадцатилетний мальчик вполне в состоянии встать в столь ранний час и идти к мессе. В здешних местах, сказал священник, одиннадцатилетние мальчики в это время уже работают, причем работают на совесть. Мать считала, хотя и не говорила этого вслух, что священник сам себя выдал этими своими словами. Они, видите ли, работают!
При свете кухонной лампы утро казалось ночью, но когда он вышел на улицу, небо уже успело зардеться и между темными изгородями отчетливо виднелась дорога вниз по склону холма. День был: восьмое марта 1952 года. С широкого крыльца, на котором он остановился, долина была видна вся, до самой вершины следующего холма, серой, безлистой и, если верить собственным глазам, безжизненной; и тем не менее он знал, что там живут люди, и разводят во дворах нарциссы, и как раз сейчас они вскапывают клумбы, и сажают цветы, и зажигают в комнатах огни. Церковь отсюда видно не было, но она стояла на прежнем месте, за выступом того холма. Из церкви, кстати, крылечка, на котором он стоял, тоже не видать.
Относительность.
Он подумал: интересно, а священник знает, кроме латыни, еще и законы логики? Законы логики! Сами по себе звуки этой фразы, ломкие и колкие, показались ему до странности приятными на вкус. Священник учил его одной только латыни – мессу, наизусть, на память, Introibo ad altare Dei.
Он знал, что земля круглая, хотя никто ему об этом не говорил.
Внизу, в долине, за городом, простоявший всю ночь без движения угольный поезд, целый караван из темных, неотличимых друг от друга тварей, вздрогнул, потянулся и медленно тронулся с места. Наверное, вагонов сто: случалось ему видеть и подлиннее, и считать вагоны. Чуть дальше было надшахтное здание и дробилка, из которой сыпался в вагоны уголь; поезду потребуется не один час, чтобы загрузиться и протянуть себя сквозь город и долину, туда, куда он там отсюда направляется. Локомотив в голове состава пыхтел тяжело и с запинкой, как старик, который карабкается по ступенькам в гору: Раз. Раз. Раз. Раз.
Дорога шла вниз, на главное шоссе, которое тянулось вдоль речушки в город, мимо церкви и дальше, на ту сторону холма. Рань собачья, подумал он и тронулся в путь, сунув руки в знакомые засаленные карманы куртки, знакомые, но какие-то сегодня не свои. Я не из этих мест, подумалось ему; и оттого, что это была правда, ему не показался странным тот нежный родничок, который забил в нем – и заставил его передернуться дрожью – от соприкосновения со всем этим, с этим сырым рассветом, с этой дорогой, с этим черным поездом и с дымком над трубой паровоза. Я не из этих мест; я из какого-то другого места. Дорога показалась ему куда более длинной, чем он ее помнил в дневное время суток; у основания холма мир был по-прежнему темен, и до рассвета – целая вечность.
УЕДИНЕННОСТЬ
Часть первая
VITA
Глава первая
Если бы когда-нибудь Пирсу Моффетту явилась некая сила, способная выполнить три его желания, то она, или он, или оно (волшебница-крестная, джинн, колечко со странной надписью) едва ли застала бы его врасплох, – хотя и готов к подобной встрече он тоже до конца не был.
Когда-то в давние-стародавние времена проблема казалась – элементарнее некуда: ты просто используешь третье желание на то, чтоб обеспечить себе еще три, и так до бесконечности. А еще в те давние стародавние времена его не мучили угрызения совести за то, что исполнение его желаний приведет к ужасным по силе воздействия перекосам в чьих-то чужих вселенных или да же в его собственной: махнуться с кем-нибудь на день головами; или пусть в Войне за независимость победу одержат англичане (в детстве он был ярый англофил); пусть высохнет океан, так, чтобы он смог увидеть с берега сказочные горы и пропасти, выше и глубже которых на земле не найдешь, – он читал, что там на дне есть именно такие.
Имея в своем распоряжении бесконечную цепочку желаний, он, конечно, мог – хотя бы чисто теоретически – исправить все, что нечаянно наворотил; но чем старше он становился, тем серьезнее делались сомнения в собственной мудрости и в том, что у него достанет сил сделать все так, как надо. До него постепенно доходил смысл уроков, заключенных в десятках историй, которые он прочитал, историй назидательных, сказок о желаниях, которые приводят к ужасающим последствиям, о желаниях, которые коварнейшим образом обращаются против своего автора, о том, как неосторожно и не к месту высказанное или неправильно сформулированное желание толкает человека жадного, или безалаберного, или просто глупого в его же собственными руками вырытую пропасть, – и он в такого рода вопросах стал куда осторожней. Обезьянья лапка: верни мне мертвого сына; и вот уже в двери стучится кошмарная нежить. Ну ладно, ладно, спроворь мне мартини. И вот вам Мидас, самая первая и самая жуткая из иллюстраций к теме. Дело вовсе не в том, решил Пирс, что силы, которые вольны исполнять желания, хотят нашей смерти или даже просто хотят нас чему-то научить, они всего-то навсего вынуждены, неважно в силу каких обстоятельств, делать именно то, чего мы у них просим, ни больше и ни меньше. Мидасу никто и не думал преподавать урок об истинных и ложных ценностях; тот демон, который исполнил его желание, понятия не имел о том, что таковые вообще на свете существуют, как не знал он и того, зачем это Мидасу восхотелось собственной смерти, – и знать не хотел. Желание было исполнено, Мидас обнял жену – и, может статься, демон был на секунду озадачен отчаянием Мидаса, однако, не будучи сам человеком, будучи всего лишь бесплотною силой, он даже не стал над этим задумываться, он поспешил исполнять другие желания, как мудрые, так и совершенно дурацкие.
С такими силами, лишенными воображения, совершенно тупыми с обычной человеческой точки зрения, с этими могучими детьми, способными бездумно, как игрушку, ломать обыденный ход вещей, а заодно крушить и человеческие души, души тех, кому не достало мудрости осознать, насколько глубоко и неразрывно они связаны с обыденным ходом вещей, с такого рода силами нужно быть предельно осторожным. Пирс Моффет, прозревая в себе растущую с ходом лет тенденцию к осмотрительности и к некоторой даже робости, которая патиной легла поверх его от природы импульсивной и весьма энергичной натуры, понимал, что если он действительно хочет чего-то достичь и остаться при этом невредимым, ему придется заранее формулировать планы. И оттачивать формулировки.
Оказалось, что в расчет придется брать такое невероятное множество разных параметров – даже если вынести за скобки привычку самих желаний меняться по ходу дела, – что до сих пор он, давно уже став взрослым человеком, профессором, историком, не сумел до конца сформулировать, чего же он, собственно, хочет. В бессмысленные, пустые промежутки времени, которые засоряют любую человеческую жизнь, в задах ожидания, или делая что-то такое, что делать положено, или – как в это конкретное августовское утро – глядя наружу сквозь окна автобуса дальнего следования, он часто ловил себя на том, что мусолит те или иные возможные варианты, обдумывает чреватый двусмысленностью поворот фразы, оттачивает придаточные.
Мало что в этой жизни нравилось Пирсу меньше, чем долгие поездки на автобусах. Он вообще не любил перемещений в пространстве, а когда все равно приходилось куда-нибудь ехать, предпочитал самые скоростные, пусть даже и самые неприятные средства передвижения (самолет), либо же, наоборот, самые неторопливые, с наибольшим возможным количеством разного рода задержек и маленьких удовольствий (поезд). Автобус был убогой серединой: долгой, нудной и даже не обещающей ни капли удовольствия. (Поехать на автомобиле, как сделало бы на его месте большинство людей, он попросту не мог: водить машину Пирс так и не выучился.) Автобусы словно бы чувствовали все его презрение и всю нелюбовь к ним и платили ему той же монетой: если ему даже и не приходилось часами просиживать на переполненных автовокзалах в ожидании пересадки, то его непременно усаживали в самой гуще каких-то мучимых коликами младенцев или бок о бок с завзятым трепачом, который полдороги брызгал слюной ему в ухо, обдавая несвежим дыханием, а оставшиеся полдороги спал у него на плече; это было неизбежно. Однако на сей раз он попытался хоть как-то скрасить себе эту жуткую необходимость: у него на сегодня была назначена встреча в городе Конурбана [2]2
Зд. и далее большинство географических названий, имен и т. д., непосредственно связанных с действием романа, вымышлены.
[Закрыть], в тамошнем колледже имени Питера Рамуса была для него вакансия, – и он решил сесть на неспешный и не слишком перегруженный местный рейс, чтобы не спеша проехаться через Дальние горы, бросить взгляд на места, давно знакомые по названиям, но до сих пор по большей части воображаемые; по крайней мере, выбраться за город на денек, давно пора. И когда автобус свернул со скоростного шоссе и углубился в залитые летним солнечным светом поля и холмы, он подумал, что выбор он сделал правильный; он почувствовал вдруг, что может буквально одним движением плеча сбросить давно надоевшее, стянувшее его по рукам и ногам состояние духа и окунуться в другое, непохожее, или сразу в несколько непохожих друг на друга состояний, вроде этих вот картинок за окном, которые то и дело сменяли одна другую, и каждая казалась приглашением к неким новым и счастливым возможностям.
Он встал с сиденья, достал из холщовой сумки книгу, которую взял с собой, чтобы скоротать дорогу («Soledades» Луиса де Гонгоры [3]3
«Soledades» Луиса де Гонгоры – Если точнее, то «Las Soledades» – один из самых знаменитых и вызвавших в свое время наиболее ожесточенные споры текстов Луиса де Гонгоры-и-Арготе (1561—1627). Название поэмы буквально можно перевести как «Одиночества», тем более что делится она на своего рода эклоги («Одиночество Первое» и т. д.). Возможны также переводы: «Поэма Одиночеств», «Уединенное», «Уединенность», «Уединения» и т. д.
[Закрыть] в новом переводе; он должен был писать на нее рецензию для маленького, выходившего раз в квартал литературного журнала), и ушел в заднюю часть автобуса, где разрешалось курить. Он раскрыл книгу, но даже и не заглянул в нее; он смотрел в окно на вошедший в цвет и силу август, на тенистые лужайки, где домовладельцы поливали из шлангов траву, на то, как плещутся в ярких пластмассовых бассейнах дети, на собак, которые, вывесив язык, развалились в теньке, на крылечках. На окраине города автобус запнулся на перекрестке, словно бы раздумывая над предложенными большим зеленым дорожным указателем перспективами: Нью-Йорк Сити, но именно оттуда они и приехали; Конурбана, про которую Пирсу пока даже и думать не хотелось; Дальние горы.
Многозначительно переключив скорость, они выбрали-таки Дальние горы, и, когда после серии пологих подъемов автобус набрал высоту, Пирс решил для себя, что вот эти холмы, сперва зеленые, затем голубые, а потом и вовсе настолько призрачные, что им ничего не стоило слиться с бледной линией горизонта, что вот это они и есть.
Он покатал сигарету пальцами и прикурил.
Первые два из трех его желаний (а их, само собой, должно быть три, Пирс специально занимался триадами, то и дело встречающимися в скандинавской мифологии – откуда, вероятнее всего, удача к нему и привалит, – и имел на этот счет свои идеи, как то: почему их именно три, ни больше и ни меньше) уже достаточно давно успели обрести свою нынешнюю форму. Они казались ему обкатанными раз и навсегда, абсолютно водонепроницаемыми, герметичными и заделанными заподлицо, он даже ссылался на них, давая другим людям советы, – как на стандартные юридические формулировки.
Во-первых, он хотел пожизненного, при том, что жизнь продлится долго, умственного и физического здоровья и безопасности для себя самого и для всех тех, кого он любит, причем данное желание не могло быть аннулировано никакими аспектами последующих желаний. Оно, конечно, явственная контаминация, но если здраво рассудить, то в качестве предосторожности вещь совершенно необходимая.
Во-вторых, он хотел иметь порядочный доход, не обременительно огромный, но вполне достаточный, застрахованный от экономических рисков, не требующий никаких или почти никаких затрат с его стороны и не вступающий в противоречие с его нынешним родом деятельности: выигрышный лотерейный билет вкупе с каким-нибудь надежным советом по размещению капитала нравился ему гораздо больше, чем, скажем, возможность написать книгу, которая волшебным образом окажется вдруг в списке бестселлеров, со всеми неизбежными ток-шоу и интервью, просто жуть во мраке, причем вся радость от успеха и славы будет неминуемо испорчена сознанием того, что это все липа, – то есть чистой воды продажа души дьяволу, а данный вариант по определению ни к чему хорошему вести не может; нет уж, его бы вполне устроило что-нибудь поспокойней.
Оставалось еще одно, третье, желание, нечетное, непростое, норовистое. Пирса передернуло при мысли о том, что стало бы с ним, если бы сбылась одна из его подростковых версий этого, последнего желания. Позже он потратил бы его на то, чтобы выпутаться из разного рода проблем и неурядиц, из которых выбрался и так, безо всякой магической помощи. И даже теперь, если бы он действительно оказался в состоянии решить, чего он на самом-то деле хочет, – решение, до которого он так ни разу по-настоящему и не добрался, – ему потребовалось бы столько мудрости, и смелости, и здравого смысла; именно здесь и таилась опасность, и возможность внезапного безоблачного счастья. Третье желание было из всей триады единственным, способным по-настоящему перевернуть мир, и оттого в его мозгу громоздились вокруг него колючие изгороди ограничений, табу, императивов моральных и категорических; потому что – по крайней мере для Пирса Моффетта – игра не стоила свеч, если не будут учтены все возможные последствия этого гипотетического третьего желания; если он не сможет представить себе, со всей возможной полнотой и достоверностью, что в действительности станет с миром, если желание сбудется.
Мир во всем мире и тому подобные экскурсы в заоблачный альтруизм он давно уже отверг как дело в лучшем случае недостаточное, как заблуждения, солипсистские по сути, вроде случая с Мидасом, вот только бескорыстие подменяло здесь собой корысть; оборотная сторона все той же фальшивой монеты. Никто не в состоянии оценить последствия подгонки мира под такого рода глобальные абстракции, никто не может знать, что придется сотворить с человеческой природой, чтобы в итоге выйти на нужный результат. А братия в школе св. Гвинефорта прочно вбила ему в свое время в голову одну простую мысль: если ты приемлешь цель, не говори, что не приемлешь средства. Пирсу никак не хотелось состязаться в дальновидности с силами, могучими настолько, что они в состоянии перелопатить весь божий мир. Нет уж, какую бы судьбу ни уготовили человеку три его желания, смешную, горькую или сладкую, но это его судьба, это его три желания; а мир пускай решает за себя сам.
Власть. С какой-то точки зрения любое желание было, конечно, пожеланием власти, власти над будничными житейскими обстоятельствами, которым волей-неволей вынужден подчиняться любой человек; хотя это совсем не то же самое, чтобы желать себе власти в более узком смысле слова, силы, возможности подчинить своей воле других: и враг твой корчится перед тобой во прахе. Вся эта обширная область человеческих страстей была Пирсу совершенно чужда, ему никогда не хотелось власти, даже и представить ее в своих руках, по-настоящему представить, он был не в состоянии, власть всегда оставалась чем-то сторонним и направленным против него; свобода от всяческой власти – вот разве что этого ему действительно хотелось, но желания, построенные на отрицании, всегда казались ему едва ли не шулерскими.
Ему приходило в голову (как жене рыбака из детской сказки), что неплохо было бы стать Папой Римским. Были у него кое-какие идеи в области естественного права, литургии и герменевтики, а человек с хорошим историческим чутьем может на таком посту принести немало пользы, – если, конечно, не замахиваться на вещи чересчур глобальные, – будучи рупором Господней воли и обладая властью облечь ее в форму прямого указа, так чтобы миновать обычный этап долгой подковерной борьбы между Его Святейшеством и теми, от кого зависит реальное проведение Его велений в жизнь. Но такого рода радости все равно не стоили жуткой скуки официального протокола; к тому же церковная иерархия, вероятнее всего, давно уже была не столь отзывчива на энциклики и буллы, как ей быть надлежало и какой она когда-то была. Так что какого, спрашивается, рожна мучиться.








