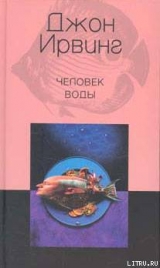
Текст книги "Человек воды"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
Глава 31
КИНОФИЛЬМ С ПЕНТОТАЛОМ
(159: Средний план Трампера, опускающего на пол маленький чемоданчик перед приемной стойкой в больнице. Он встревоженно оглядывается по сторонам; Тюльпен улыбается рядом с ним, берет его за руку. Трампер о чем-то спрашивает медсестру за стойкой, и та протягивает ему несколько бланков, чтобы он заполнил. Тюльпен очень ласкова и предупредительна с ним, пока он сражается с бумагами.)
Доктор Виньерон (голос за кадром). Это действительно очень простая операция, хотя она, кажется, здорово пугает пациентов. Это минимум хирургического вмешательства: пять стежков, самое большее.
(160: Крупным планом – медицинское изображение пениса. Чья-то рука – предположительно Виньерона – рисует черным карандашом на пенисе.)
Виньерон (голос за кадром). Надрез производится на отверстии, вот здесь, всего лишь затем, чтобы расширить канал. Затем накладываются швы, чтобы сохранять канал открытым и не дать ему стать прежним. В любом случае, такой риск есть…
(161: Дальний план с сестрой, ведущей Трампера и Тюльпен по больничному коридору. Трампер нервно заглядывает во все комнаты, едва ли не на каждом шагу ударяя себя по коленям чемоданом.)
Виньерон (голос за кадром). В больнице вы проведете только одну ночь, чтобы вас подготовили к утренней операции. Затем вы отдохнете здесь следующий день и, возможно, останетесь на ночь, если вы еще… будете ощущать дискомфорт.
(162: Средний план с Трампером, неуверенно облачающимся в больничное одеяние; Тюльпен помогает ему справиться с завязками на спине. Трампер пристально смотрит на пациента, с которым он делит палату, пожилого человека с множеством входящих и исходящих трубок, неподвижно лежащего на кровати. Входит медсестра и проворно задергивает шторки вокруг кровати, закрывая обзор.)
Виньерон (голос за кадром). …говоря другими словами… это сорок восемь часов болезненных ощущений. Но это не слишком сильная боль, верно?
(163: Синхронный звук. Средний план с Ральфом Пакером, берущим интервью у доктора Виньерона в его кабинете.)
Пакер. Насколько я представляю, существует некий вид психологической боли… понимаете? Боязнь болезненных ощущений, связанных с пенисом.
Виньерон. Ну, я полагаю, некоторые пациенты могут ощущать… Вы имели в виду боязнь кастрации?
(164: Медбрат бреет Трампера, который лежит на больничной кровати, не спуская глаз с лезвия, чиркающего по его лобку.)
Пакер (голос за кадром). Да, кастрации… Ну, понимаете, боязнь того, что тебе там все начисто отрежут. Разумеется, по ошибке!
(Он смеется.)
(165: То же, что и в кадре 163, – кабинет Винь-ерона.)
Виньерон (смеясь). Ну, я вас уверяю, я никогда не допускаю оплошностей в этой области!
Пакер (смеясь истерически). Ну, разумеется, нет… но я хочу сказать, что с точки зрения пациента, у которого почти паранойя относительно своего стручка…
(166: Синхронный звук. Средний план с Трампе-ром, который поднимает простыни и рассматривает себя под ними, позволяет заглянуть и Тюльпен.)
Т р а м п е р. Ты видишь? Как у младенца.
Тюльпен (сильно вздрагивая). Как если бы ты собирался родить ребенка…
(Они смотрят друг на друга, затем отводят глаза в сторону.)
(167: Синхронный звук. То же самое, что и в 163-м и в 165-м. В кабинете Виньерона оба, доктор Виньерон и Пакер, громко безудержно смеются.)
(168: Средний план. Трампер сидит на кровати, машет на прощание рукой Пакеру и Тюльпен, которая машет ему в ответ от спинки кровати.)
Виньерон (голос за кадром, видимо, он дает инструкции сестре). Никакой плотной пищи вечером и никакого питья после десяти. Сделайте ему первую инъекцию утром в восемь; он должен быть на операционном столе в восемь тридцать…
(Тюльпен и Ральф покидают рамку кадра вместе, сопровождаемые сестрой. Трампер, нахмурившись, сердито смотрит им вслед.)
ВСЕ ИСЧЕЗАЕТ.
Но после этого, готов поклясться задницей, я никуда не исчезаю. Я лежу, ощущая свой гладко выбритый пенис – шея агнца, остриженного под заклание.
Я также слышу бульканье старика, который лежит со мной рядом, человека, которого питают, будто карбюратор: его трубки, входы и выходы, и даже сама жизнедеятельность обеспечивается механическим отсчетом времени.
Я не беспокоился насчет своей операции, честное слово; просто я испытывал к ней страшную антипатию. Что меня беспокоило больше всего, так это то, до какой степени я начал предугадывать события, даже в отношении самого себя, все выглядело так, словно мои реакции были проанализированы, выверены и взвешены – настолько тщательно, что меня можно было читать, как график. Мне очень хотелось бы поразить их всех, всех этих ублюдков.
Была почти полночь, когда я заявил медсестре, что мне необходимо позвонить Тюльпен. Телефон звонил и звонил. Когда Ральф Пакер ответил на звонок, я повесил трубку.
(169: Синхронный звук. Крупный план после исчезновения. Тюльпен чистит зубы перед зеркалом в своей ванной, ее плечи обнажены – предполагается, что и все остальное.)
Пакер (за сценой). Ты думаешь, операция изменит его? Я не имею в виду, только физически…
Т ю л ь п е н (она сплевывает, смотрит в зеркало, затем бросает через плечо). Тогда в каком смысле изменит?
Р а л ь ф (за сценой). Я имею в виду, психологически…
Т ю л ь п е н (прополаскивает рот, булькает, сплевывает). Он не верит в психологию.
Р а л ь ф (за сценой). А ты?
Т ю л ь п е н. Только не в его случае…
(170: Синхронный звук. Средний план Тюльпен в ванне, намыливающей грудь и подмышки.)
Тюльпен (случайно глянув в камеру). Видишь ли, это очень упрощенный подход – пытаться объяснить сложных и глубоких людей или, скажем, сложные вещи при помощи общих схем и поверхностного анализа. Но я также полагаю, что не следует считать, будто все люди глубоки и сложны. Я хочу сказать, что мотивы Трампера, на деле, лежат на поверхности… Может, он и есть сама поверхность, всего лишь поверхность…
(Она умолкает, устало смотрит в камеру, затем на свою намыленную грудь и, застеснявшись, сползает в воду.)
Тюльпен (глядя в камеру, как если бы Ральф находился в ней). Хватит, пусть теперь будет ночь…
(За кадром звонит телефон, и Тюльпен начинает вылезать из ванны.)
Р а л ь ф (за кадром). О черт! Телефон… Я возьму!
Тюльпен (смотрит ему вслед за кадр). Нет, дай мне – это может быть Трампер.
Ральф (за кадром, отвечает на звонок; Тюльпен слушает, замирая). Да, алло? Алло? Черт подери…
(Камера прыгает: она пытается неуклюже отступить, когда Тюльпен выбирается из ванны. Сконфуженная, она неловко заворачивается в полотенце, когда Ральф входит к ней в кадр. У него на шее висит экспонометр, которым он указывает на нее, затем вниз на ванну.)
Ральф (раздраженно берет ее за руку и пытается направить обратно в воду). Нет, не уйдешь. Мы должны снять все это еще раз… черт бы побрал этот телефон!
Тюльпен (вырываясь из его рук). Это был Трампер? Кто звонил?
Р а л ь ф. Я не знаю. Он повесил трубку. Ну, давай, это займет не больше минуты…
(Но она плотнее заворачивается в полотенце и выходит из ванной.)
Тюльпен (сердито). Уже поздно. Я хочу встать пораньше. Я хочу быть с ним, когда он отойдет от анестезии. Мы можем сделать это завтра.
(Она раздраженно смотрит вверх, в камеру. Неожиданно Ральф сам сердито взглянул в объектив, как если бы до него только сейчас дошло, что аппарат все еще продолжает работать.)
Ральф (орет в камеру). Стоп! Стоп! Черт бы тебя побрал, Кент! Прекрати мочить пленку, ты, чертов недоносок!
ЗАТЕМНЕНИЕ.
Рано утром они пришли и опорожнили горшки, шланги и прочие резервуары, принадлежащие мужчине, который лежал рядом со мной. Но они ничего не сделали для меня, даже не накормили.
В восемь часов сестра измерила мне температуру и сделала два обезболивающих укола: в обе ноги, высоко в бедра. Когда за мной пришли, чтобы отвезти в операционную, я не мог толком идти. Две сестры поддерживали меня с обеих сторон, уговаривая помочиться, а я по-прежнему все чувствовал там внизу и беспокоился, что укол не подействовал как надо.
Я сказал об этом сестре, но она, кажется, меня не поняла; на самом деле мой голос прозвучал странно даже для меня самого: я сам не разобрал, что произнес. Как жаль, что я не смог вовремя выразиться вразумительно, чтобы не дать им применить скальпель.
В операционной меня ждала сногсшибательная, полногрудая сестра в зеленой униформе, какую носят все операционные сестры; улыбаясь, она пощипала меня за бедра. Это она воткнула иглу, по которой в мою вену из капельницы побежала декстроза; затем она особым способом перебинтовала мне руку, прикрепив к ней иглу, и привязала руку к столу. Декстроза, булькая, бежала по желтому шлангу в меня; я мог проследить за ее током до самой вены.
Внезапно мне в голову пришла мысль о Меррилле Овертарфе: если бы его нужно было прооперировать, то использовать декстрозу было бы нельзя, так как она состоит в основном из сахара, да? Что бы использовали в этом случае, а?
Свободной рукой я дотянулся до паха и пощупал свой пенис. Я по-прежнему все чувствовал, и это меня страшно пугало. Какой смысл замораживать мои бедра?
Затем я услышал голос Виньерона, но не увидел его; взамен я увидел невысокого, добродушного чудака в очках, который, как я догадался, был анестезиологом. Он наклонился надо мной и поправил иглу с декстрозой, потом ловко пристроил капельницу с пентоталом рядом с баллоном с декстрозой и провел от нее шланг вдоль шланга с декстрозой. Вместо того чтобы втыкать в меня еще и иглу с пентоталом, он воткнул ее в шланг с декстрозой, что, как мне подумалось, было весьма разумно.
Шланг с пентоталом имел зажим, и я мог видеть, что лекарство еще не поступало в меня. Я наблюдал его близко, могу поклясться задницей, а когда анестезиолог спросил меня, как я себя чувствую, то я громогласно заявил, что по-прежнему отлично чувствую свой член и надеюсь, что все они об этом осведомлены.
Но они лишь улыбнулись, как если бы меня не слышали. Анестезиолог отпустил зажим и дал ток пентоталу, а я наблюдал, как он струился вниз, пока не смешивался с декстрозой в главной резиновой вене.
– Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, – быстро проговорил я. Только на это ушла вечность. Пен-тотал изменил цвет декстрозы, бежавшей в мою руку. Я видел, как он достиг иглы, и, когда он вошел в мою вену, крикнул: «Восемь!»
Затем прошла секунда, длившаяся два часа, и я проснулся в послеоперационной палате – комнате для выздоравливающих, потолок которой был так похож на потолок операционной, что я подумал, будто все еще нахожусь на прежнем месте. Надо мной склонилась все та же сногсшибательная сестра-красавица в зеленом, она улыбалась мне.
– Девять, – сказал я ей, – десять, одиннадцать, Двенадцать…
– Мы хотели бы, чтобы вы сейчас сделали пи-пи, – сообщила она мне.
– Я уже сходил, – попробовал увильнуть я. Но она перевернула меня на бок и подсунула под меня зеленую утку.
– Пожалуйста, только попробуйте, – умоляла она. Она была страшно мила.
И я попытался сделать пи-пи, хотя и был уверен, что отлить мне нечем. Когда появилась боль мне показалось, будто я ощущаю чью-то чужую боль, откуда-то из другой комнаты, а может, еще дальше – из другой больницы. Боль оказалась довольно чувствительной, и мне стало жаль терпевшего ее человека; я закончил писать, когда до меня дошло, что боль была моей собственной и что операция уже закончена.
– Ну вот и хорошо. Очень хорошо, – похвалила меня сестра, гладя по волосам и вытирая с моего лица неожиданные слезы.
Ну конечно, они специально от меня утаили эту неизбежную сильную боль при первом мочеиспускании. Но я смотрел на это по-другому. Я счел это настоящим предательством – они меня обвели вокруг пальца.
Затем я снова погрузился в головокружительный сон, а когда очнулся, то лежал уже в своей больничной палате. Рядом с моей кроватью сидела Тюльпен и держала меня за руку. Когда я открыл глаза, она улыбнулась мне.
Но я притворился, будто все еще нахожусь под действием наркоза. Я уставился прямо сквозь нее. Могу поклясться задницей, что не один доктор Виньерон провел меня и преподнес мне сюрприз…
Глава 32
ДРУГОЙ ДАНТЕ, ДРУГОЙ АД
Водитель обслуживал этот лимузин около трех лет. До этого он водил такси. Но работать на лимузине ему нравилось больше – никто не пытался его ограбить или избить; работа оказалась не такой утомительной, а сама машина выглядела элегантнее Мерседеса у него с прошлого года, и ему нравится ездить на нем. Время от времени он выезжает из города – один раз аж до самого Нью-Хейвена, – ему нравилось управлять машиной на открытой скоростной трассе. Он считал, что именно для этого и существуют «открытые трассы»: ездить до Нью-Хейвена Это было самое большое расстояние, на которое он удалялся от Нью-Йорка. У него имелись жена и трое детишек, и каждое лето он говорил жене, что проведет свой отпуск, убравшись с востока и прихватив с собой всю семью. Но собственной машины у него пока не было; он ждал, когда сможет позволить себе «мерседес» или когда его фирма даст ему возможность приобрести подержанную машину подешевле.
Поэтому, когда его наняли ехать в Мэн, он воспринял это так, как если бы ему предложили прокатиться до Сан-Франциско. Мэн! Он воображал себе людей, которые охотились на китов, ели на завтрак омаров и круглый год ходили в резиновых сапогах. Он рассказывал о себе два часа подряд, пока до него не дошло, что пассажир либо уснул, либо впал в транс; после чего он замолчал. Звали его Данте Каличчио, и его вдруг осенило, что с тех пор, как он водит лимузин, это первый случай, когда пассажир внушает ему страх. Он решил, что Богус чокнутый, и поглубже засунул стодолларовую бумажку в свои боксерские трусы, прямо в ширинку, откуда их нелегко было бы достать. «Может, этот тип даст мне еще одну, – подумал он. – Если только не попытается отнять эту».
Данте Каличчио был приземистым, тяжелым парнем, с густой копной черных волос и носом, который столько раз ломали, что он стал почти плоским. Раньше он был боксером; он любил хвастаться своим излюбленным приемом, который всегда проводил. Ударом носом. Он также был борцом, из-за чего его уши напоминали цветную капусту. Чудесный комплект из двух складчатых, раздутых и бугристых комков теста разного размера, пришлепнутых по обеим сторонам лица. Он громко чавкал жевательной резинкой – привычка, приобретенная им много лет назад, когда он бросил курить.
Данте Каличчио был человеком простым, и его интересовало, как живут другие люди и на что похожи другие места, в которых они живут, поэтому он не сильно расстроился, когда понадобилось доставить этого придурка в Мэн. После того как они взяли курс на север от Бостона, начало темнеть, трасса стала менее оживленной, почти пустой, и он испугался перспективы ехать по такому безлюдью с человеком, который ни разу не открыл рта с тех пор, как они миновали стадион «Ши».
Дежурный в будке у шлагбаума Нью-Хэмпшира взглянул на шоферскую униформу Данте, внимательно осмотрел шикарное заднее сиденье и впавшего в транс Богуса, затем, поскольку других машин не наблюдалось, спросил Данте, куда они едут.
– В Мэн, – прошептал Данте, как если бы это было заклятие.
– Куда в Мэн? – поинтересовался дежурный. Мэн в общем-то находился всего в двадцати минутах от его поста.
– Я не знаю куда, – ответил Данте, когда дежурный протянул ему сдачу и махнул рукой. – Эй, сэр! – позвал он, поворачиваясь к Богусу. – Эй, куда в Мэн?
Джорджтаун – это остров, но в голове Трампе-ра он представлял собой еще более обособленное место, чем это было на самом деле. Этот остров вполне можно было считать полуостровом, поскольку он соединялся с материком мостом; на нем не ощущалось таких неудобств, как на настоящем острове. Но Трампер думал о той заманчивой изоляции, в которой жил на этом острове Коут. Пожалуй, Коут мог бы создать иллюзию изолированности даже в аэропорту Кеннеди.
Богус размышлял, как ему лучше подступиться к Бигти, чувствуя лишь одно – до какой степени он по ней соскучился. Она никогда не оставалась в Айове на лето. Сейчас она наверняка в Восточном Ганнене, помогает отцу и позволяет матери возиться с Кольмом. Не исключено, что ее положение покинутой жены вызвало нечто вроде негативного сочувствия в духе «мы же вам говорили» со стороны его собственных предков, но, разумеется, Бигги отклонила их помощь.
В любом случае она наверняка написала Коуту, чтобы спросить у него, не в курсе ли он, где находится его друг Богус, так что Коут должен знать, где она и какие чувства она испытывает к своему сбежавшему мужу. Возможно, Коут даже виделся с ними и расскажет ему, как сильно вырос Кольм.
– Эй, сэр? – окликнул его кто-то. Это был мужчина в униформе привратника, сидевший на переднем сиденье. – Эй, куда в Мэн? – спросил он.
Трампер выглянул из окна: они двигались по пустынному участку шоссе у залива Портсмут, пересекавшего мост в Мэн.
– В Джорджтаун, – ответил он шоферу. – Это остров. Вам лучше остановиться и глянуть на карту.
«Остров! – раздраженно подумал Данте Каличчио. – Господи помилуй, как я, по-твоему, проеду на остров, ты, чокнутый ублюдок!»
Но, достав карту, Данте убедился, что с материка в Бате через узкий залив реки Кеннебек идет мост на остров Джорджтаун. Немного погодя, когда они пересекли мост, Богус приспустил заднее стекло и спросил Данте, чувствует ли он запах моря.
Вдыхаемый Данте воздух был слишком свеж, чтобы называться морским. Знакомый Данте морской запах был запахом доков Нью-Йорка и Нью-арка. Здешние соленые топи источали резкий запах чистоты, поэтому он тоже приоткрыл свое окно. Но ему расхотелось ехать дальше. Вихлявшая через остров дорога без разделяющей полосы имела рыхлые песчаные обочины. Нигде не было видно домов, только темные сосны да участки обильно просоленной травы.
К тому же ночь была наполнена звуками. Не автомобильными сигналами или визгом тормозов, не чьими-то голосами или сиренами, а кваканьем лягушек и стрекотанием сверчков, криком морских птиц и гудками с моря, которые подавали в тумане корабли.
Пустынная дорога и странные звуки до смерти пугали Данте Каличчио, который не спускал глаз с Богуса в зеркальце заднего обзора, размышляя о том, что, если этот недоумок что-нибудь замышляет, он переломит ему хребет еще до того, как его дружки успеют навалиться на него…
Трампер прикидывал, как долго он останется у Коута и позвонит ли он Бигги или просто приедет к ней, выбрав подходящий момент.
Когда дорога сменилась грязной колеей, Данте резко нажал на тормоз, запер обе передние дверцы, затем и обе задние, ни разу не взглянув на Богуса.
– Какого черта вы делаете? – возмутился Трампер, но Данте не шевельнулся на переднем сиденье, одним глазом следя за Трампером в зеркальце обозрения, вторым кося в карту.
– Должно быть, мы сбились с пути, а? – спросил Данте.
– Нет, – возразил Трампер. – Нам осталось проехать еще миль пять.
– Где тогда дорога?
– Мы на ней, – сказал ему Трампер. – Поезжайте вперед.
Данте сверился с картой, обнаружил, что это и вправду дорога, и, дрожа от страха, поехал дальше; по мере того как он осторожно продвигался в глубь острова, ему стало казаться, будто суша сжимается вокруг него. Впереди он заметил несколько неосвещенных домов, одиноких, словно это были ставшие на якоре корабли, а по обе стороны открылся бескрайний горизонт; море находилось совсем рядом, воздух стал прохладнее, и он ощутил привкус соли. Затем знак сообщил ему, что он находится на частной дороге.
– Поезжайте, – велел ему Трамлер.
Данте пожалел, что рядом с ним на сиденье нет цепи, однако двинулся дальше.
Через несколько ярдов, у таблички «Пиллсбери», дорога так близко подступила к воде, что Данте испугался, как бы их не накрыло прибоем. Затем он увидел потрясающей красоты старинный особняк, окруженный подсобными постройками красного цвета – высокий дом с остроконечной крышей и примыкающим к нему гаражом, лодочным домиком и аккуратной морской бухтой.
Пиллсбери! Данте подумал, что, вероятно, один из них сидит у него на заднем сиденье. Единственное, о чем говорило ему имя Пиллсбери, – это история, связанная с соперничеством за Бетти Крокер. Он украдкой глянул в зеркальце, поражаясь, неужели он везет чокнутого молодого наследника огромного состояния.
– Какой сейчас месяц? – спросил Богус у водителя. Он хотел знать, был ли Коут в доме один, или семейство Пиллсбери уже заявилось на лето. Они никогда не приезжали раньше Четвертого июля[32]32
Четвертое июля – День независимости, государственный праздник в Америке.
[Закрыть].
– Первое июня, сэр, – откликнулся водитель. Он остановил машину там, где заканчивалась подъездная дорожка, и теперь сидел, прислушиваясь к пронзительной тишине ночи – воображая свистящих рыб, огромных хищных птиц, ревущих в сосновых чащах медведей и рой тропических насекомых.
Когда Трампер торопливо зашагал по выложенной плиткой дорожке, он не отрывал глаз от единственного освещенного окна в доме – хозяйской спальни на втором этаже. Не дожидаясь приглашения, Данте поспешил за ним. Он вырос в тесном лабиринте города и чувствовал себя совершенно свободно, выходя из дому глубокой ночью, когда никто другой не отважился бы высунуть нос на улицу – разве что целой шайкой, – но тишина этого острова выбивала его из колеи, к тому же его вовсе не радовала перспектива встретиться один на один с каким-нибудь диким животным, затаившимся в кустах или среди сосновых деревьев.
– Как вас зовут? – спросил Трампер.
– Данте.
– Данте? – удивился Трампер.
Короткая вспышка света промелькнула в коридоре первого этажа; потом луч стал длиннее – это зажегся фонарь.
– Коут! – закричал Трампер. – Эй, привет! Если их только двое, подумал Данте, я с ними управлюсь. Для большей уверенности он пощупал стодолларовую бумажку в своем паху.
Я узнал Коута через входную дверь, когда он подошел впустить нас, по болтавшемуся хламидой банному халату, сшитому из лоскутного одеяла, и по тому, как он глянул на нас в смотровую щель. Должно быть, он испытал шок, увидев косматого, похожего на гориллу шофера в лакейской униформе, который хлопал по комарам, словно по плотоядным птицам, но еще больший шок он испытал, увидев меня.
Как только ты впустил нас, Коут, я сразу же догадался, что ты был с женщиной до того, как мы оторвали тебя. От твоего халата исходил запах ее халата; да и по тому, как ты попятился от холодного ночного воздуха, я мог бы сказать, что ты вышел из теплого гнездышка.
Но разве этого стыдятся перед друзьями, Коут? Я обнял тебя, приподнял вверх – привет, костлявый педик! От тебя, определенно, хорошо пахло, Коут!
Трампер, пританцовывая от радости, потащил Коута на кухню, где они налетели на совершенно новенький виниловый детский плотик, стоявший прислоненным к раковине. Богус не помнил, чтобы у Пиллсбери были маленькие дети. Он усадил Коута на стол для разделки мяса, поцеловал в лоб и с глупым видом вытаращился на него, любовно приговаривая:
– Коут, я не могу выразить, как я рад тебя видеть!.. Ты здесь, и ты снова спасаешь меня… Ты моя единственная, неизменная звезда, Коут! Посмотри – моя борода почти такой же длины, как у тебя, Коут… Ну как ты? Я поступил ужасно, ты, наверное, знаешь…
Но Коут только смотрел на него, затем перевел взгляд на Данте Каличчио, квадратного монстра в униформе, который старался сохранять вежливый вид в углу кухни, комкая в огромных ручищах шоферскую кепку с большим козырьком. Пока Трампер метался по кухне, открывая дверцу холодильника, заглядывая в столовую, суя нос в нишу с устроенной там прачечной, где, к своему огромному восторгу, он обнаружил деревянную сушилку для белья, на которой висело несколько дамских шелковых лифчиков и трусиков.
Сдернув ближайший к нему лифчик, он восторженно помахал им перед Коутом.
– Кто она, ты, старый развратник? – прохрипел он и снова не смог побороть искушения поиграть длинной бородой Коута.
– Где ты был, Богус? – только и спросил Коут. – Где, черт побери, ты был?
Трампер сразу же распознал осуждающий тон, сообразив, что он все уже знает от Бигги.
– Так ты ее видел, да? – залепетал он. – Как она, Коут? – Но Коут смотрел совсем в другую сторону, как если бы собирался заплакать, и Трампер поспешил добавить, испугавшись: – Коут, я вел себя ужасно, я знаю…
Он крутил в руках лифчик, но Коут отобрал его. Затем, когда Богус увидел этот лифчик в руках Коута, он внезапно осознал, что он розово-лиловый, и сразу вспомнил, как покупал лифчик такого розово-лилового цвета и такого большого размера. Он замолчал; он смотрел, как Коут спускается с разделочного стола, словно это был медленно соскальзывающий кусок мяса, отделенный от костей; зайдя в нишу, Коут повесил лифчик Бигги на место.
– Тебя слишком долго не было, Богус, – произнес Коут.
– Но теперь я вернулся, Коут, – сказал Трампер, и это прозвучало довольно глупо. – Коут, мне ужасно жаль, но я же вернулся, Коут…
Чьи-то босые ноги прошлепали вниз по лестнице, и чей-то голос произнес:
– Пожалуйста, потише, не то ты разбудишь Кольма.
Шаги направились к кухне. Втиснувшись в угол под полкой со специями, Данте Каличчио безуспешно пытался сделаться маленьким и незаметным.
– Богус, прости, – мягко сказал Коут и дотронулся до его руки.
Затем вошла Бигги и бросила на Данте такой взгляд, как если бы он был десантником, которого выбросило на берег с подводной лодки, после чего она решительно и спокойно посмотрела на Трампера.
– Это Богус, – прошептал Коут, словно он опасался, что из-за бороды она его не узнает. – Это Богус, – повторил он чуть громче. – Вернулся домой с войны…
– Я бы не сказала, что домой, – ответила Бигги. – Нет, не сказала бы…
А я изо всех сил старался уловить иронию в твоем тоне, Биг; я действительно напрягся, пытаясь уловить ее. Но тщетно, Биг. Не было ни тени шутки. Поэтому все, что я нашелся сказать, – я видел, что вы оба, ты и Коут, почему-то нервничали из-за этого здоровенного итальяшки в униформе, съежившегося под полкой со специями, – единственное, что я смог сделать, Биг, – это представить вам своего шофера. У меня не было ничего другого, с чего я мог бы начать.
– Э, – начал Трампер, попятившись назад, словно от удара. – Это Данте, мой шофер.
Ни Коут, ни Бигги даже не взглянули на Данте; вместо этого они продолжали пристально смотреть на Богуса и на пол. А Богус заметил лишь одно, что на Бигги новый халат – оранжевый, ее любимого цвета; велюровый, из ее любимой ткани. Ее волосы стали длиннее, а в ушах висели сережки, которые она раньше никогда не носила; она выглядела немного взъерошенной и растрепанной, такой, какой он хорошо ее помнил. Когда она так выглядела, ему сразу хотелось взъерошить ее самому.
Затем Данте Каличчио, смутившийся оттого, что его представили, попытался выбраться из угла и сбил плечом полку со специями; он вылетел вместе с ней прямо на середину кухни, где безуспешно старался поймать ее; Бигги, Коут и Богус кинулись к нему на помощь, только ухудшив ситуацию. Баночки со специями с громким стуком покатились по всей кухне, а последний рывок Данте, совершенный в надежде поймать пустую полку, привел к тому, что она раскололась в щепки о жесткий холодильник.
– О господи, мне так жаль! – пробормотал Данте.
Пнув маленькую баночку ногой, Бигги посмотрела на Богуса в упор.
– И не только вам, – сказала она. Трампер услышал, как сверху донесся голос Кольма.
– Извините, – произнесла Бигти и вышла из кухни.
Богус последовал за ней по лестнице.
– Кольм, – вырвалось у него. – Это ведь Кольм, да? – Он едва не натолкнулся на Бигги, когда та резко остановилась и посмотрела на него таким взглядом, каким никогда до этого не смотрела – словно перед ним была совершенно незнакомая женщина, к которой он грязно приставал.
– Я сейчас вернусь, – холодно отрезала она, и он отстал.
Он медлил с возвращением на кухню, прислушиваясь, как она ласково успокаивает Кольма, который испугался грохота свалившейся полки со специями; из кухни он слышал голос Коута, в свою очередь успокаивающего Данте Каличчио. Не все баночки со специями разбились. Коут говорил, что ему ничего не стоит соорудить новую полку.
Данте Каличчио отпустил несколько замечаний на родном итальянском; Трамперу они показались молитвой.
Затем была игра в бильярд. Коут проникся сочувствием к Данте, который ощущал себя очень неловким и виноватым; побаиваясь дикой местности снаружи, он оставался в доме, размышляя: позвонить ли ему жене или к себе в офис и сказать, что он задерживается, или как можно скорее возвращаться обратно в Нью-Йорк.
– Сэр? – обратился он к Трамперу, ожидавшему появления Бигги. – Мне ехать обратно?
Но Трампер не знал, что сказать.
– Я не знаю, Данте, – ответил он. – Разве это необходимо?
Затем вернулась Бигги, наградив Коута ободряющей улыбкой и холодно кивнув Трамперу, который поплелся за ней на улицу и дальше, на покрытую ночной тьмой пристань.
Когда Коут спросил Данте, играет ли тот в бильярд, он тем самым на какое-то время вывел парня из состояния шока – на самом деле шофер оказался настоящим асом. Не мигнув глазом, он выиграл у Коута восемь партий подряд, после чего, решив применить скрытную тактику уравнивания сил, еще три из следующих четырех. Правда, играли они не на деньги. Глядя на то, как вели себя обитатели этого дома, Данте и думать забыл о деньгах. Однако, всякий раз нагибаясь, чтобы послать шар, он чувствовал засунутую в трусы стодолларовую бумажку.
– Этот мистер Пиллсбери, – обратился он к Коуту, по-прежнему считая, что Богус носит фамилию Пиллсбери. – Что он делает, чтобы заработать такую кучу денег?
– Раз в месяц распечатывает почту, – решив, что Данте имеет в виду настоящего мистера Пиллсбери, ответил ему Коут.
Данте негромко присвистнул и загнал пятый шар в лузу; шар, по которому он бил, отскочил именно туда, куда он рассчитывал.
Коут, который не мог взять в толк, как это Богус смог позволить себе водителя, спросил:
– А этот мистер Трампер, Данте, что он делает, чтобы зарабатывать такую кучу денег?
– Двенадцатый шар в правый угол, – заметил Данте, который ничего не слышал, когда прицеливался.
Коут смутился – он подумал, что, может быть, Данте просто хитрит. Выглянув из окна, он увидел в конце пристани Бигги, стоящую лицом к океану; по тому, как двигались ее руки, он догадался, что она говорит. Немного поодаль от нее, опираясь на швартовый столбик, стоял Богус – неподвижный и молчаливый, как рачок-прилипала, приросший к месту, пустивший корни.
Данте с присвистом послал кием шар и загнал двенадцатый номер в угловую лузу, но Коут так и не повернулся от окна. Данте наблюдал, как посланный шар легко оттолкнул десятый в сторону от восьмого, затем осторожно подкатился к четырнадцатому, оставляя ему превосходную позицию из противоположного угла. Он уже собирался ударить, когда Коут у окна что-то сказал.
– Скажи ему «нет», – пробормотал Коут, почти шепотом.








