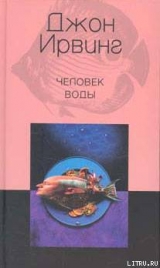
Текст книги "Человек воды"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
В темной комнате Кольм не желал говорить – он просто наблюдал, как из наполненной химическим раствором ванночки появляется его изображение. Он ничуть не был поражен своим возникновением из-под воды; он принял это чудо как должное; он куда больше обрадовался еще одной возможности разделаться с рачками.
К тому же Коут печатал фотографии с двойного негатива: на одном – Кольм на пристани, на втором – только пристань в том же ракурсе. Рамка немного вышла из фокуса по краям, и, поскольку две пристани не совсем совпадают, создается впечатление, будто Кольм на пристани и, одновременно, под ней; деревянная текстура наложилась на его лицо и руки, его тело легло на дощатый настил. И все же он сидит. (Как? В пространстве?) Я был поражен полученным результатом, хотя полностью разделял неодобрение Бигги по поводу этого снимка: малыш, с наложенными поверх него досками, выглядит странно мертвым. Мы объяснили Коуту, в какую паранойю впадают родители по поводу своих детей. Коут показал фотографию Кольму, но тот отнесся к ней с полным равнодушием, поскольку там отсутствовало четкое изображение рачка.
Девушка, привезенная «домой» на выходные Бобби Пиллсбери, оказалась «почти художницей».
– Нелл – художница, – объявил нам Бобби. Семнадцатилетняя Нелл пояснила:
– В общем, я тружусь в этой области.
– Еще моркови, Нелл? – предложил Коут.
– Какое одиночество на этой фотографии, – заметила она, обращаясь к Коуту; она все еще разглядывала фотографию Кольма с лицом под досками.
– Я имею в виду это место… зимой… должно быть, оно как нельзя лучше соответствует вашему видению?
Коут медленно жевал, сознавая, что девушка попала в точку.
– Моему видению?
– Да, очень точно, – кивнула Нелл, – вы ведь понимаете, о чем я говорю. Ваше, так сказать, видение мира…
– Я вовсе не одинок, – возразил Коут.
– Еще как, Коут, – вмешалась Бигги.
Кольм – настоящий Кольм, без всякого дощатого наложения – разлил свое молоко. Бигги взяла его к себе на колени и позволила потрогать свою грудь. Бобби Пиллсбери, сидевший рядом с ней, сразу запал на Бигги.
– Для Коута это весьма нетипичная фотография, – пояснил я Нелл. – Крайне редко образ получается у него настолько буквальным, к тому же он почти никогда не использует такого явного двойного наложения.
– Можно мне посмотреть что-нибудь еще из ваших работ? – спросила Нелл.
– Конечно, – кивнул Коут, – если только я найду их.
– Почему бы Богусу просто не рассказать о них, – заметила Бигги.
– Помолчи, Бигг, – сказал я, и она засмеялась.
– Я работаю над небольшой серией рассказов, – объявил вдруг Бобби Пиллсбери.
Я взял Кольма у Бигги и, поставив его на стол, указал на Коута.
– Иди к Коуту, Кольм, – сказал я. – Иди… – И Кольм радостно потопал, безжалостно наступая прямо в салат и избегая риса.
– Богус!.. – запротестовала Бигги, но Коут поднялся на другом конце стола, его руки потянулись к Кольму, маня его через мидии и початки кукурузы.
– Иди к Коуту, – позвал он. – Иди, иди. Хотите посмотреть другие фотографии? Тогда пойдемте…
Кольм шагнул через корзинку с хлебом, и Коут, подхватив и закружив ребенка, понес его к фотолаборатории. Девушка по имени Нелл послушно направилась за ним.
А Бобби Пиллсбери наблюдал за тем, как Бигги отодвинула от стола свой стул.
– Позвольте мне помочь вам убрать посуду? – сказал он ей.
Я ехидно ущипнул Бигги под столом; а Бобби подумал, будто ее румянец вызван его вниманием. Он принялся неуклюже сметать со стола посуду, а я ретировался в фотолабораторию, желая понаблюдать за ослеплением подружки Бобби. Оставляя Бигги наедине с ее неловким воздыхателем, я успел заметить насмешливо-зазывный взгляд, который она бросила в его сторону.
Но позже, на наших полках в лодочном домике, когда Коут уснул вместе с Кольмом в хозяйской спальне Большого Дома, а Бобби и его юная подружка Нелл помирились (или не помирились), Бигги отругала меня.
– Он очень милый юноша, Богус, – заявила она. – Но ты не должен был оставлять нас наедине.
– Бигги, неужели ты хочешь сказать, что вы по-быстрому перепихнулись на кухне?
– О, заткнись! – Она сердито заскрипела кроватью.
– Неужели он и вправду пытался это сделать, Биг? – не отставал я.
– Послушай, – холодно сказала она, – ты же знаешь, что ничего такого не было. Просто ты поставил парня в неловкое положение.
– Прости, Биг. Я хотел лишь подурачиться…
– Должна признаться, я была польщена, – улыбнулась она и затем надолго замолчала. – Я хочу сказать, что это было очень приятно, – добавила она. – Он такой симпатичный парень, и он вправду хотел меня.
– Ты удивлена?
– А ты нет? – спросила она. – Кажется, тебя я интересую значительно меньше.
– О, Бигги…
– Ну хорошо, я не права, – сказала она. – Должно быть, ты больше интересуешься теми, кто обращает на меня внимание, Богус, и не препятствуешь этому.
– Бигги, это всего лишь дурацкий вечер. Погляди на Коута и эту девушку…
– На эту безмозглую потаскушку?..
– Бигги! Она еще ребенок!..
– Коут твой единственный друг, который мне нравится.
– Очень хорошо, – сказал я. – Я тоже очень люблю Коута.
– Богус, я могла бы жить так всегда. А ты? – Как Коут?
– Да.
– Нет, Биг.
– Почему? Я задумался.
– Потому что у него ничего нет? – спросила Бигги, но это было ерундой, поскольку для меня это также не имело значения. – Потому что ему не нужен никто другой? – продолжила она свою мысль. – Потому что он живет у океана круглый год? – «Это тоже не имеет отношения к тому, о чем мы говорим», – подумал я. – Потому что он так много вкладывает в свои фотографии, и ему не нужно ничего вкладывать в свою жизнь?
Эта Бигги – настоящее шило. Я сделал вид, что не заметил вопроса.
– Значит, ты могла бы жить здесь с Коутом, Биг? – спросил я ее, и она долго не отвечала.
– Я сказала, что могла бы жить так, – вымолвила она наконец. – Но не с Коутом. С тобой. Но так, как живет Коут.
– Я не умею ни с чем справляться, – заметил я. – И вряд ли из меня вышел бы хороший управляющий. Пожалуй, я даже не смог бы заменить пробку в таком запутанном и большом доме, как этот…
– Я не это имела в виду, – возразила Бигги. – Я имела в виду, что если бы ты был таким же спокойным, как Коут… Понимаешь, умиротворенным?
Я понимал.
Утром из окошка нашего лодочного домика мы наблюдали с нижней полки Бигги за Коутом и Коль-мом. Коут вел Кольма на разведку по освобожденной отливом прибрежной полосе, неся с собой фотоаппарат и джутовый мешок из-под картофеля для сбора оставленных в тине морских даров.
За завтраком в Большом Доме Бигги подала молчаливому Бобби Пиллсбери, раздраженной Нелл, Коуту и Кольму блины с черникой, вызвав тем самым всеобщее оживление. Содержимое картофельного мешка предназначалось для того, чтобы развлечь всех нас: острая, как лезвие, раковина моллюска, хвост ската, прозрачный, тонкий, как бумага, скелет какого-то животного, мертвая чайка, оторванная головка крачки с ярким клювом и нижняя челюстная кость, принадлежавшая тюленю, овце или человеку.
После завтрака Коут инсценировал на наших тарелках настоящее побоище и заснял эти остатки пиршества каннибалов. Хотя, казалось, интерес Нелл к фотографиям Коута уже поугас, я наблюдал, как она не сводила глаз с него, когда он преспокойно расставлял столовые приборы. Кольм, видимо, решил, что Коут занят чем-то вроде детской игры.
– Вы когда-нибудь снимали обнаженную натуру? – спросила Нелл.
– Модели слишком дороги, – ответил ей Коут.
– Ну, вы могли бы попросить ваших друзей, – заметила она, улыбаясь.
– Бигги? – спросил Коут и посмотрел на меня. Я поддерживал равновесие Кольма, который стоял на голове на бильярдном столе.
– Спроси ее, – ответил я ему.
– Бигги? – позвал Коут. Она возилась на кухне с оставшимися после завтрака сковородками. В дальнем конце гостиной Бобби Пиллсбери и Нелл вертели в руках длинные бильярдные кии. – Ты попозируешь мне, Бигги? – Я слышал, как он спрашивает ее об этом на кухне.
Бобби Пиллсбери держал кий на манер удочки, а Нелл согнула свой в виде лука, и тут я вдруг заметил, как налилось кровью личико бедного Кольма. Я поспешил вернуть его в нормальное положение и услышал, как Коут добавил как можно небрежней:
– Я имел в виду, обнаженной…
– Да, погоди немного, Коут! – откликнулась Бигги. – Дай мне сначала домыть посуду.
Однако Коута привлекали больше дети, чем жены. Когда-то он сказал мне, что чаще размышлял о потомстве, чем о спутнице жизни. Хоть Бигги, несомненно, и зацепила его, Кольм зацепил его гораздо сильнее. Когда-то он спросил меня, что я делаю с Кольмом, и был поражен, что я так долго думал, затрудняясь ответить. Я лишь сказал ему, что дети здорово меняют жизнь.
– Само собой, меняют, – кивнул он,
– Я хотел сказать, что они делают тебя параноиком.
– Ты всегда был параноиком.
– Но с детьми это совсем по-другому, – возразил я, сам толком не зная, как объяснить, почему по-другому. Я как-то написал об этом Мерриллу. Я сказал ему, что дети заставляют нас вдруг ощутить собственную смертность, о чем Меррилл Овертарф явно не имел ни малейшего представления; он мне не ответил. Но я лишь хотел сказать, что ты вдруг замечаешь, как изменились твои приоритеты. Например, раньше я любил кататься на мотоцикле – после рождения Кольма я больше не мог ездить на нем. Нет, я не думаю, что это только чувство ответственности, просто дети дают нам ощущение времени. Я вдруг осознал, что прежде не замечал его течения.
Кроме того, Кольм вызывал у меня такие чувства, которые могли показаться неестественными. Например, мне хотелось бы вырастить его в некой имитирующей естественную среде обитания – вроде пастбища или загона, – а не в устрашающей реальной природной среде, казавшейся мне слишком опасной. Вроде как под колпаком! Выбрать ему друзей, изобрести работу, которая принесет удовлетворение, придумать ограниченное число проблем, стимулировать упорный груд (для получения степени), создать несколько ненастоящих (не опасных) препятствий, позволить, в конце концов, победить их все – в общем, ничего безрассудного и рискованного.
– Ты имеешь в виду пасти его, как теленка? – удивился Коут. – Но тогда он вырастет немного глуповатым, а?
– Скот живет в довольстве, Коут, и не бывает неудовлетворенным.
– Скот это скот, Богус.
Бигги была согласна с Коутом. Когда Кольму было позволено кататься на трехколесном велосипеде по нашей округе, я страшно встревожился. Но Бигги уверяла, что ребенку очень важно дать возможность испытать собственные силы. Я это понимал и, тем не менее, таился в кустах, стараясь следовать за ним незамеченным. В моем представлении отец должен играть роль ангела-хранителя. Когда Кольм увидел, как я ободрал ветку и смотрю на него из-за живой изгороди, я заявил ему, что это безумно интересующая меня изгородь и что я кое-что ищу там; я также попытался заинтересовать его своими поисками. Так-то лучше, чем мчаться на трехколесном велосипеде прямо в беду! Ступай жить тихой спокойной жизнью в безопасных кустах!
Я даже считал, что нашел подходящее место для такой безопасной среды, – зоопарк Айова-Сити. Никаких войн не на жизнь, а на смерть там не происходило.
– Мы все время сюда ходим, – хныкал Кольм.
– Но разве ты не любишь животных?
– Люблю… – Но зимой их оставалось не больше пяти-шести. – А мама водит меня вон туда, – сказал Кольм, указывая через реку на центр Айова-Сити и университетские здания.
– Там одни только люди, – возразил я. – И никаких енотов. Одни только люди! – Если бы мы пошли туда, мы могли бы увидеть кого-нибудь несчастного, если не что-то похуже.
Поэтому, возвращаясь из Пиполс-Маркет, я вел Кольма в зоопарк. В ноябре, когда обезьян увезли на юг или спрятали в вольерах, а мы с Бигги неделями ждали ответа от моего оскорбленного отца, Кольм и я брали с собой в зоопарк купленный на завтрак хлеб, который почти весь оставляли там.
Бросая корм отвратительным енотам – целому рыкающему клану в каменной клетке, – Кольм всегда беспокоился, что тем, кто поменьше и послабее, не достанется хлеба.
– Вон тому, – говорил он, указывая на трусишку, и я старался достать чертенка хлебным шариком. Но всякий раз какой-нибудь наглый толстяк первым набрасывался на еду, кусал своего трусливого сородича в зад, хватал хлеб и ждал, когда дадут еще. Хорошо ли ребенку смотреть на такое?
А несчастный американский бизон, похожий на самого паршивого буйвола? Ноги тонкие, как у неуклюжей болотной цапли, обвисшая складками крапчатая шкура, которая напоминает драную обивку – огромный шатающийся диван с вываливающейся наружу ватой.
Или же равнодушный, ссохшийся от голода медведь в кирпичной яме с раскачивающейся покрышкой над ней, с которой он никогда не играет, окруженный собственными вонючими испражнениями.
– Зачем ему покрышка? – спросил Кольм.
– Чтобы он играл с ней.
– Как?
– Ну, ударял и раскачивал туда-сюда…
Но покрышка, которую никто не ударяет и не раскачивает, висит над спящим медведем, словно издевка. Может, животное само мучается в догадках, для чего это. У меня начали зарождаться сомнения насчет пригодности этого зоопарка для создания среды обитания для Кольма; возможно, после всего этого городские улицы в центре были бы предпочтительнее.
И вот однажды в ноябре на утином пруду, где я чувствовал себя с Кольмом комфортнее всего, случилась настоящая беда. Грязно-белые домашние утки выпрашивали еду, а мы стояли в ожидании поразительного события – визита отважных диких уток, которые в это время года летели к югу. Айова расположена посередине утиного маршрута, и пруд в Айова-Сити – это, возможно, единственное место между Канадой и Персидским заливом, где они могли сесть и отдохнуть, не рискуя быть подстреленными. Мы наблюдали, как они спускались к пруду. Летящая клином стая предусмотрительно выслала вперед разведчика разузнать, не опасно ли делать посадку; сев на воду, он криком известил остальных: все в порядке. Для зоопарка такое явление было в диковинку; его унылые обитатели пришли в сильное возбуждение при виде гостей из настоящего мира – красноглазок, шилохвосток, сине-зеленых чирков и великолепных лесных уток.
В тот ноябрьский день я держал Кольма за руку, наблюдая в небе снижавшийся утиный косяк, представляя себе состояние этой усталой, хромоногой стаи, мечтающей отдохнуть, измученной долгим перелетом над Великими озерами, обстрелянной в Дакоте, попавшей в засаду в Айове! Разведчик скользнул по водной глади, словно конькобежец по льду, призывно крякнул старым гусыням, толпившимся на берегу, воздал хвалу Господу за чудесное отсутствие стрельбы, затем испустил радостный крик, приглашая всю стаю садиться.
Они спускались, ломая строй, с громким плеском шлепаясь на воду и дивясь плавающему хлебу вокруг. Но один селезень отстал от остальных. Он летел как-то странно, неуверенно махая крыльями. Его сородичи расступились, как бы давая ему место на пруду, но он пошел вниз так резко, что Кольм вздрогнул и ухватил меня за ногу, словно опасаясь, как бы этот селезень не упал прямо на нас. Видимо, с ним что-то случилось: крылья отказали, зрение пропало. Он круто ринулся вниз, потом сделал слабую попытку развернуться и выправиться, но потерял всю свою утиную грацию и камнем шлепнулся в пруд.
Кольм вздрогнул рядом со мной, когда с берега прозвучал сочувствующий утиный хорал. Над водой показался маленький зад птицы, вокруг которого плавали перья. Двое верных товарищей подплыли к нему, потрогали его клювами и оставили плавать, словно это был утыканный перьями поплавок. Они тут же переключили свое внимание на хлеб, как если бы опасались внезапного появления злой собаки, которая могла броситься в воду за их товарищем. Может, в них стреляли с глушителем? По воле злого рока на зоопарк Айова-Сити спустилась смерть.
– Глупый селезень, – только и мог я сказать Кольму.
– Он умер? – спросил Кольм.
– Нет, нет, – заверил я его. – Он просто ловит рыбу и ест прямо со дна. – Может, мне стоило добавить, что утки могут надолго задерживать дыхание?
Но Кольм не поверил.
– Он умер.
– Нет, – сказал я. – Он просто выпендривается. Ты ведь тоже иногда так ведешь себя.
Кольм ушел неохотно. Сжимая в ручонках изуродованный батон хлеба, он все время оборачивался через плечо на потерпевшего крушение селезня – некогда отважного пилота, странным образом питающегося со дна. Почему он покончил с собой? Может, он был ранен, мужественно преодолел долгий перелет и потерял здесь последние силы? Или погиб по какой-то естественной причине? Может, склевал отравленные пестицидами соевые бобы?
– Я бы хотела, Богус, чтобы вы покупали два батона хлеба, когда собираетесь идти в зоопарк, – сказала мне Бигги, – чтобы один оставался для нас.
– Мы отлично прогулялись, – заявил я. – Медведь спал, еноты затеяли драку, бизон пытается отрастить новую шкуру. А что касается уток, – начал я, подтолкнув локтем мрачного Кольма, – то мы видели, как один глупый селезень шлепнулся в пруд…
– Он умер, мама, – грустно сказал Кольм. – Он разбился.
– Кольм, – вмешался я, наклоняясь над ним, – с чего ты взял, что он умер?
Но он знал это наверняка.
– Утки иногда умирают, – сказал он, держась со мной раздражающе спокойно. – Они становятся старыми и умирают. И животные, и птицы, и люди, – добавил он. – Все становятся старыми и умирают. – И он посмотрел на меня с таким вселенским сочувствием, явно огорчаясь, что ему приходится сообщать своему отцу такую жестокую правду.
Потом зазвонил телефон, и образ моего страшного отца заслонил все в моей памяти: папочка с заготовленной заранее пятиминутной речью, содержащей краткий анализ невоздержанного письма Бигги, попыхивающий своей трубкой на другом конце провода. Я верил, что в табаке моего отца заключен некий высший смысл. Время ужина в Айове, послеобеденное время для кофе в Нью-Хэмпшире, телефонный звонок – все приурочено к его расписанию, как и он сам. Но так же, как и Ральф Пакер, приглашающий себя к ужину.
– Послушай, возьми трубку, – сказала Бигги.
– Сама бери, – буркнул я. – Ты писала письмо.
– Я ни за что не притронусь к трубке, Богус, только не после того, как я назвала его долбаным хреном.
Поскольку мы сидели и смотрели на звонящий телефон, Кольм обошел кухонный стол и взобрался на стул, пытаясь дотянуться до трубки.
– Тогда я возьму, – заявил он, но мы с Бигги бросились к нему, прежде чем он успел это сделать.
– Пусть себе звонит, – сказала Бигги, которая впервые в жизни выглядела испуганной. – Почему бы не дать ему просто позвенеть, Богус?
Мы так и сделали. Мы просто ждали, когда ему надоест.
– О, ты только представь себе, как он дышит в трубку! – воскликнула Бигги.
– Готов поспорить, что он уже посинел от натуги, – усмехнулся я. – Долбаный хрен.
Но потом позже, когда Кольм свалился с кровати – и был прижат к широкой груди Бигги, чтобы избавиться от приснившегося ему кошмара, вызванного посещением зоопарка, – я сказал:
– Могу поспорить, что это был всего лишь Ральф Пакер, Биг. Мой отец не стал бы звонить нам. Он написал бы нам – целый гребаный опус.
– Нет, – возразила Бигги. – Это был твой отец. Но он нам больше никогда не позвонит.
По-моему, она была довольна.
Тогда ночью Бигги повернулась ко мне и сказала:
– Пусть звонит.
Но я тут же заснул. Мне снилось, будто команда Айовы играет где-то на чужом поле и взяла меня с собой. Они доверили мне вводить мяч в игру. Далеко, в глубине нашей зоны, я бегу по полю, чтобы чудесным образом ударить по мячу. Но пока я бежал, я был страшно избит, едва не разрублен, четвертован, ополовинен, размолот, сбит с ног, обманут и сметен напрочь; но каким-то чудом я уцелел, безжалостно искалеченный и устоявший на ногах, сумевший ворваться в девственную крайнюю зону противника.
Но потом происходит вот что: меня уносит с поля группа поддержки, они несут меня мимо возбужденных, свистящих болельщиков противника. Маленькие, вспотевшие нимфы уносят меня с поля; моя покалеченная нога и окровавленная рука касаются чьей-то прохладной розовой ноги; я почему-то ощущаю одновременно гладкость и колкость. Я поднимаю глаза на их юные, залитые слезами лица; одна из нимф касается волосами моей щеки, видимо пытаясь стереть травяное пятно с моего носа или снять с подбородка прилипший шип. Я почти невесом. Эти сильные девушки несут меня по чашеобразному тоннелю под стадионом. Их высокие голоса отдаются эхом, их пронзительные крики тревожат меня сильнее, чем собственная боль. Меня подносят к накрытому простыней столу, на котором меня распластывают и снимают мою инкрустированную броню, дивясь моим ранам и причитая над ними. Над нами глухо гудит стадион. Девушки обтирают меня губками; я дрожу; девушки накрывают меня собой, опасаясь, что я замерзну.
Мне так холодно, что мне снится другой сон: я в Нью-Хэмпшире, охочусь за утками на соляных болотах вместе с отцом. Интересно, сколько мне лет? У меня нет ружья, но когда я становлюсь на цыпочки, то достаю отцу до подбородка.
– Тихо, – говорит он. – Господь свидетель, я никогда больше не возьму тебя с собой.
«Не очень-то и хотелось», – думаю я. Должно быть, я говорю это слишком громко, потому что Бигги спрашивает:
– Чего не хотелось? – Что, Биг?
– Пусть себе звонит, – бормочет она и снова засыпает.
Но я лежу без сна, обдумывая ужасную необходимость поиска настоящей работы. Идею зарабатывания на жизнь… Сама по себе эта фраза напоминает непристойные надписи на стенах мужского туалета.








