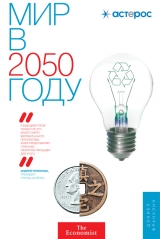
Текст книги "Мир в 2050 году"
Автор книги: Джон Эндрюс
Соавторы: Дэниел Франклин
Жанры:
Экономика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Даже при отсутствии катастрофических засух зависимость людей, регионов и целых стран от сельского хозяйства очевидна. Никакая другая деятельность человека не связана столь сильно с погодой. Сельскохозяйственные культуры чувствительны к температуре и количеству осадков. Они уязвимы по отношению к вредителям и болезням. Они зависят от состояния экосистем, мелиорации, качества почвы и других внешних факторов. В высокогорных регионах и на равнинах глобальное потепление приведет к увеличению вегетационного периода, что можно считать в определенной степени положительным фактором. Однако более высокая температура летом может свести на нет все преимущества длинной весны. Даже при отсутствии засухи в особо жаркие дни сельскохозяйственным культурам может быть нанесен непропорционально большой вред.
По некоторым расчетам, постепенное потепление в течение последних 30 лет уже привело к уменьшению урожаев пшеницы и маиса на 4–5 %.
Рост цен на продукты питания вследствие снижения урожайности и других сходных проблем может оказаться во благо производителям, однако способен сильно навредить бедным (особенно сельским) районам планеты, получающим субсидии и имеющим значительно меньше возможностей для занятости населения по мере снижения урожайности. Если колебания цен на нефть приведут к повышению затрат в сельскохозяйственном производстве, то проблема с ценами на продукты питания станет куда более острой (как это уже наблюдалось в 2008 г.).
Основная плохая новость для бедных сельских жителей связана с ростом городов. Хотя само по себе это и неплохо – преимущества могут оказаться менее значительными, чем кажется. Переход к более богатой, урбанистической экономике обычно идет рука об руку с повышением производительности сельскохозяйственного производства. Уберите второй элемент из этой системы, и в развитии первого не будет никакой пользы. Имеется целый ряд эконометрических выкладок о том, что ухудшение климата уже привело к избыточной урбанизации в Африке, а это, в свою очередь, вызвало замедление, а не ускорение ее развития. Если дела обстоят действительно таким образом, то подобные события могут негативно повлиять на способность общества эффективно реагировать на климатические изменения.
При этом существуют как минимум две причины для оптимизма. Первая – это роль углекислого газа как своего рода удобрения. Его высокий уровень для многих растений упрощает процесс фотосинтеза. В условиях умеренного климата это может компенсировать негативные эффекты, связанные с потеплением. Это поможет и целому ряду тропических стран, хотя вряд ли полностью компенсирует воздействие повышения температуры и резкие климатические колебания в течение года. Другая причина для оптимизма связана со способностью фермеров к адаптации, которая уже не раз проявлялась в новейшей истории. Невзирая на множество негативных прогнозов, за последние полвека урожайность в сельском хозяйстве выросла. Рост может продолжиться и в будущие десятилетия.
В противном случае дикой природе придется взвалить на себя еще большее бремя. Если население мира растет, а повышение производительности на существующих сельскохозяйственных угодьях невозможно, выход ищется в увеличении площади этих угодий. Зачастую это делается за счет вырубки лесов и превращения освобожденных земель в поля. Этот шаг вредит биологическому разнообразию, негативно влияет на экосистему (количество дождей и наводнений), а также приводит к увеличению выбросов углекислого газа. Сокращение вырубки лесов может оказаться чуть ли не более результативным, чем снижение промышленных выбросов. Избежать вырубки может повышение урожайности таких продуктов, как соя. Почти вся высаживаемая в мире соя сегодня уже подвергнута генетической модификации, которая позволяет обеспечивать устойчивую урожайность. Повышение урожайности снижает необходимость в новых сельскохозяйственных угодьях. Снижение же урожайности, наоборот, приводит к разрушению окружающей среды и новой волне климатических изменений. Разрушенная экосистема может породить фундаментальные проблемы. В настоящее время около половины углекислого газа, возникающего при сжигании ископаемого топлива, поглощается растениями и океанами. Есть немало оснований считать, что по мере потепления эта система станет работать менее эффективно, и чем хуже будут обстоять дела с экосистемой, тем более болезненными окажутся итоги.
Управление рискамиРазвитие событий совсем не обязательно пойдет по худшему сценарию. Не исключено, что природа адаптируется и уровень потепления к 2050 г. составит менее 1 °C (причем даже при сохранении объема выбросов). Некоторые деятели, называющие себя luke warmers, полагают, что стадный инстинкт не позволяет климатологам увидеть или оценить такую возможность. Другие же утверждают, что нежелание ученых обнародовать шокирующие факты заставляет игнорировать апокалиптические сценарии развития (которые хотя и маловероятны, но теоретически возможны).
Luke warmers советуют обществу подождать и посмотреть, как пойдут дела, не предпринимать дорогостоящих действий, пока их необходимость не станет очевидной. Однако такая точка зрения не учитывает инерцию системы, при которой последствия сегодняшних действий в отношении выбросов будут заметными через несколько десятилетий, в то время как резкие решительные действия не приведут к желательному результату. В какой-то степени эта группа критиков совершает ту же ошибку, что и сторонники активных действий в эпоху, предшествовавшую встрече в Копенгагене. И тем и другим кажется, что проблема изменения климата (опасности с точки зрения сторонников Копенгагенских соглашений и недоказанной угрозы со стороны их критиков) может решиться с помощью прямолинейных действий.
С учетом масштаба, бесконечных споров о возможных последствиях, ограниченном пространстве для возможных действий и политической несговорчивости элит разных стран климатические изменения как таковые не являются злободневной проблемой. Скорее, они – лишний повод по-новому посмотреть на фундаментальные планетарные условия внешней торговли. Именно такой контекст (пока что не осознанный в полной мере) станет геофизической и геополитической основой цивилизации XXI в. Основная задача состоит не в решении проблемы как таковой, а в тщательном управлении рисками на всех уровнях, начиная от отдельной фермы или города и заканчивая государствами, регионами и планетой в целом.
Подход, основанный на управлении рисками, пока что не обрел популярности. Отчасти это связано с тем, что политическое силы привыкли действовать в рамках концепции «большая проблема – большое решение» и еще не умеют приходить к компромиссам, когда старые способы решения задач перестают работать. На практике управление рисками не так уж сильно отличается от того, к чему привыкли политики. Очевидно, что объемы выбросов необходимо уменьшать. Однако причины для таких действий могут несколько различаться. Идея сторонников Копенгагенского соглашения состояла в том, чтобы не допустить потепления более чем на 2 °C. Подход, основанный на управлении рисками, предполагает, что самое важное – это преимущества, связанные со снижением уровня выброса, а не стремление во что бы то ни стало достичь маловероятной, но забирающей массу ресурсов цели. Снижение выбросов, ставящее целью лишь уменьшение возможного риска потепления, не позволит воспользоваться массой отличных возможностей. А что случится, если страны предпримут героические усилия и снизят-таки уровень выбросов, но в меньшей степени, чем обещали? В рамках традиционного подхода это можно было бы назвать неудачей. Однако подход, основанный на рисках, считает такие действия положительной основой для будущих усилий. Этот подход уделяет значительно больше внимания снижению уязвимости стран, экономик и людей перед климатическими изменениями и направлен на обеспечение адаптации к изменениям. Сужение вопроса до одной лишь темы снижения уровня выбросов не позволяет обратить должного внимания на адаптацию, в результате чего у многих людей возникает ощущение поражения, а то и отчаяния.
Другая стратегия управления рисками связана с изучением прочих направлений деятельности человека, способных повлиять на климат. Метан (природный газ), утекающий из трубопроводов и хранилищ, оксид азота (побочный продукт сельского хозяйства и в особенности компонент удобрений), озон – элемент смога – все это представляет собой парниковые газы, гораздо более активные, чем СО 2. Ограничение их выбросов, помимо быстрого улучшения окружающей среды, может принести и другие преимущества. К примеру, снижение выброса озона означает более качественный воздух и возможность выращивать большие урожаи. То же самое справедливо и в отношении «черного углерода» – копоти, возникающей при использовании доменных печей, приготовлении пищи на открытом огне, плохо спроектированных кухонных плит, дизельных двигателей, а также при лесных и степных пожарах. «Черный углерод» может приводить к значительному потеплению на местном уровне, а контроль над его выбросами способен принести массу преимуществ, причем не только в отношении климата. К примеру, речь может идти о контроле над выбросами внутри помещений, вызванными плохой конструкцией кухонных плит, что, к слову, сегодня приводит к гибели большого числа матерей и детей в Индии и других странах. Согласно некоторым расчетам, только снижение выбросов «черного углерода» в результате предотвращения пожаров может на десятилетие или даже больше отодвинуть таяние арктических льдов.
Радикальные идеи витают в воздухеРазумеется, при отсутствии решительных действий в отношении выбросов углекислого газа все эти меры вряд ли смогут решительно изменить общую климатическую парадигму, однако они вполне способны помочь нам «выиграть немного времени» для развития других технологий, не предполагающих выбросов углекислого газа. Сегодняшняя политика характеризуется значительными инвестициями в возобновляемые источники энергии, которые не всегда оказываются уместными (к примеру, солнечные батареи не самый эффективный источник энергии для такой облачной северной страны, как Германия). Большего успеха можно было бы добиться, уделив внимание исследованиям других возобновляемых источников, в том числе совершенно новых.
Существуют способы вмешательства в климат, позволяющие не просто замедлить потепление, а охладить атмосферу. В будущем, для того чтобы извлечь излишки углекислого газа из воздуха, станут использовать ряд технологий (в настоящие момент они кажутся либо слишком маломощными, либо чрезмерно дорогими, технологически незрелыми для использования в планетарном масштабе). Такие технологии не будут эффективными на фоне роста выбросов. Однако как только выбросы упадут до достаточно низких значений, ситуация примет совсем другой оборот. Оказавшись в верхних слоях атмосферы, углекислый газ, скорее всего, задержится там надолго. Единственный способ справиться с ним – его осадить. Подобно снижению выбросов, избавление атмосферы от излишков углекислого газа окажет прямое воздействие на климат спустя десятилетия, а то и столетия. Однако с похожей скоростью (или даже медленнее) происходят и другие климатические изменения, например то же таяние полярных льдов. И если снижение уровня углекислого газа в атмосфере поможет нам сохранить ледовый покров над Гренландией и Западной Атлантикой, то заниматься этим имеет смысл.
Куда более значительное влияние могут оказать технологии, позволяющие сразу же понизить температуру за счет снижения количества солнечной энергии, поглощаемой Землей. Существует много идей относительно того, как это сделать, но самая простая заключается в том, чтобы сделать более толстым слой сульфатных аэрозолей в стратосфере. Подобно сульфатам, оказывающимся в нижних слоях атмосферы вследствие переработки угля и нефти, сульфатные аэрозоли в стратосфере помогают Земле охлаждаться. Сходный эффект происходит при извержениях вулканов, когда в атмосфере увеличивается сульфатный слой и температура в районе извержения падает. Действие аэрозолей в стратосфере оказывается более эффективным, чем в нижних слоях, так как они не вымываются оттуда дождями и могут оставаться в ней в течение года, а не нескольких дней. Постоянные инъекции серы в стратосферу могут охладить нашу планету без вреда для здоровья человека (возникающего из-за наличия сульфатов в нижних слоях атмосферы).
С технической точки зрения такие инъекции представляют собой достаточно простую операцию. Однако здесь возникают препятствия другого рода – политические, этические, климатологические. Сульфаты в стратосфере не смогут полностью нивелировать действие парникового эффекта, возникающего из-за присутствия в атмосфере углекислого газа. Возможно, что в результате применения этого инструмента некоторые регионы станут более засушливыми (хотя и не факт, что они не стали бы такими вследствие естественных климатических изменений). Сознательное охлаждение планеты вызовет к жизни целый ряд этических вопросов – например, о том, не являются ли климатические изменения случайным побочным продуктом других процессов. Наверняка выскажутся и о высокомерном «фаустовском» самомнении, и о превращении Земли в «Франкенпланету». С политической точки зрения подобные инъекции могут показаться кому-то враждебным актом, ведь любая нация или группа наций не прочь контролировать климат на планете. Согласно принципу управления рисками, применение такого метода оправдано в случаях, если планета столкнется с резкой и динамично развивающейся угрозой сложившемуся климатическому статус-кво.
Наполнение стратосферы сульфатами не решит проблему глобального потепления. Однако ее не решит и никакая другая отдельно взятая идея. Климатические изменения – это проблема, у которой нет однозначного решения. Однако это еще не делает ее нерешаемой. Нам следует детально разобраться в видах и степени климатических изменений, а не дискутировать о траекториях развития ситуации. Самое главное, что необходимо иметь в виду, – в этом столетии климатические изменения вне всякого сомнения повлияют на развитие человечества и избежать этого никак не удастся.
Глава 8
Будущее войны: слабые станут сильными
Мэттью Саймондс
Запад может потерять военное первенство, к старым угрозам миру добавятся новые.
Военные специалисты, занимающиеся вопросами оборонного планирования, утверждают, что их цель состоит в создании максимально гибких и способных к адаптации вооруженных сил. Это связано с тем, что достаточно сложно предсказать характер войн будущего – а следовательно, какие именно вооруженные силы понадобятся. Эксперты пытаются строить прогнозы, но слишком большая ставка на одну точку зрения, которая впоследствии может оказаться неверной, будет означать национальную катастрофу. Когда речь заходит о военной угрозе, трудно спрогнозировать развитие событий даже на ближайшие годы, не говоря уже о нескольких десятилетиях.
История с Обзором стратегической защиты и безопасности (SDSR, военной доктриной Великобритании), принятым в 2010 г., наглядно показывает, насколько сильно могут заблуждаться эксперты. Правительство Дэвида Кэмерона, стремившееся привести в порядок ситуацию с расходами на вооружение, решило, что сможет в ближайшие десятилетия обойтись без авианосцев. Но не успели высохнуть чернила на подписи премьера, придавшего SDSR законную силу, как Кэмерону (и всей Великобритании) пришлось заниматься защитой ливийских повстанцев и фактическим свержением Муаммара Каддафи. К сожалению, авианосец «Арк Ройял» и базировавшиеся на нем истребители-бомбардировщики «Харриер», которые могли бы внести решающий вклад в успех ливийской кампании, к тому моменту уже находились на свалке.
Быстрое принятие Великобританией SDSR связано с необходимостью значительной бюджетной экономии. Этого нельзя сказать о решениях Дональда Рамсфельда в начале 2001 г. Заняв во второй раз пост министра обороны США, Рамсфельд решил провести в Пентагоне масштабные реформы. Он считал, что военное руководство страны слишком часто пользуется старыми методами, разработанными еще во времена противостояния угрозе со стороны Советского Союза. «Провидец» Рамсфельд хотел избавиться от доктрин, предполагавших массированное развертывание наземных войск и сопутствующих им вооружений (танков, артиллерийских орудий и самолетов) и требовавших огромной логистической работы. Вместо этого он пожелал видеть более легкие и гибкие вооруженные подразделения, способные быстро отправиться в ту или иную горячую точку, в полной мере использующие новейшие коммуникационные технологий для достижения победы на поле боя. Именно рвение Рамсфельда стало одной из причин множества неудач в ходе иракской кампании. Даже в самом страшном из своих снов американский министр обороны вряд ли мог увидеть нечто, напоминавшее события 11 сентября 2001 г. Если бы вы сказали ему, что в течение следующих десяти лет Америка потратит свыше 1,3 трлн долларов на войны в двух больших странах, он бы наверняка подумал, что вы спятили.
Теперь маятник качнулся в другую сторону. Афганская и прочие подобные военные кампании, предполагающие участие различных противоборствующих национальных группировок, широкомасштабные партизанские операции, обучение местных воинских подразделений и активное выстраивание отношений с местными властями, – все это заставило американских и британских военных стратегов (в особенности высших армейских чинов) сделать вывод, что в будущем необходимо готовиться именно к такого рода конфликтам. Однако с такой точкой зрения вряд ли можно согласиться. Хотя проблема государств-изгоев и террористов-смертников останется с нами еще на многие годы, астрономические расходы и (пока что) достаточно неубедительные результаты вторжений в Ирак и Афганистан дают все основания считать, что западные политические лидеры (читай президенты США) сделают все возможное, чтобы избежать чего-то подобного в будущем. Иными словами, несомненно, будущее может сильно отличаться от настоящего. Но в чем именно, нам пока неизвестно.
Туманные прогнозыХорошая новость для западных военных стратегов, занимающихся долгосрочными прогнозами, состоит в том, что (в отличие от XX в.) им не противостоит единая и постоянная враждебная сила. Огромное количество жертв двух мировых войн и завершение крайне опасного ядерного противостояния между США и СССР дают основания (хотя и не стопроцентные) предполагать, что впервые с момента зарождения государств, в современном смысле слова, между ведущими странами мира не разразится полномасштабная война. Стоит отметить, что за последние полвека значительно сократилось и количество жертв войн различных типов (см. рис. 8.1).
Есть и плохая новость: стратегам неясно, к какого рода конфликтам их странам нужно готовиться, откуда может исходить угроза и что означает нынешнее быстрое развитие технологий для их друзей и врагов. Несмотря на такую степень непредсказуемости, следует учитывать, что в любой момент может случиться нечто, напоминающее 11 сентября, что полностью опрокинет все умозаключения. Но стратегам все равно приходится прогнозировать, какими будут войны в следующие четыре десятилетия. Это необходимо, чтобы понимать, сколько у армий есть времени на разработку новых видов оружия и как долго они смогут оставаться на вооружении.
Рис. 8.1.Меньше смертей
Количество смертей в результате военных конфликтов во всем мире, на 100 тыс. человек
Изменение по сравнению с 2000 г., метров

Источники: UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset; Lacina & Gleditsch. Monitoring Trends in Global Combat. European Journal of Population, 2005; ООН; расчеты автора
Возьмем, к примеру, программу по созданию самолета F-35 Joint Strike Fighter, самого дорогого в истории вида вооружения (проект обойдется, по данным Пентагона, в 1,3 трлн долларов). Специалисты ожидают, что F-35 станет основным типом боевого самолета в США и западных странах вплоть до 2020-го, а то и до 2065 г. Хотя никто не сомневается том, что самолет оснастят огромным количеством сенсоров и сложных программ, делающих его лучшим представителем своего класса, скептики указывают на большие расходы (изначально на разработку и конструирование этого самолета отводился достаточно скромный бюджет) и ограниченный радиус действия – около 600 миль (что ставит под угрозу базы его дислокации, особенно, авианосцы). Критики полагают, что куда важнее сейчас делать самолеты, способные преодолевать значительные расстояния. Другие же миссии, связанные с меньшими расстояниями, можно выполнять с помощью различных типов беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Покупка значительного количества F-35 (Пентагон планирует приобрести не менее 2400 самолетов) представляется многим либо опрометчивым, либо попросту глупым решением. При наличии средств такое количество самолетов вполне можно было бы и купить. Но с учетом сокращающихся военных бюджетов военные аналитики не смогут безболезненно исправить последствия неверных прогнозов.
Несколько проще обстоят дела с прогнозированием мест, где разразятся будущие войны. Люди будут и дальше воевать из-за того, из-за чего воевали всегда, – ресурсов, территорий, своих племен, религии, идеологии и из-за массы других причин, провоцирующих напряжение и враждебность в отношениях между государствами. Однако механизм возникновения этих конфликтов изменится. В течение следующих 40 лет, по мере того как население мира приблизится к 9 млрд человек (с нынешних 7 млрд) и из-за последствий глобального потепления, борьба за ресурсы и социальная дестабилизация, по всей видимости, лишь усилятся. Прогнозы, согласно которым в ближайшие годы мир достигнет точки «пика добычи нефти», поднимают вопросы о поиске новых резервов, глубоководном бурении, коммерциализации методов добычи нефти и сланцевого газа. Однако до сих пор не решена ни одна из целого ряда важнейших проблем: ни чрезмерно гибкая политика многих стран – производителей нефти (не только на Ближнем Востоке), ни уязвимость государств Персидского залива, связанная с граничащими с ними странами и другими игроками мировой политики, ни возможные ожесточенные споры по поводу принадлежности огромных ресурсов, скрытых под тающими арктическими льдами.
Не исключено, что к 2050 г. нефть перестанет служить значимым источником конфликтов. Принимая во внимание имеющееся время и свойственную человеку изобретательность, можно предположить, что у нефти появятся альтернативы. Совсем иначе обстоят дела с водой. Она, как и прежде, останется ключевым элементом нормальной жизни. Климатические изменения, новые сельскохозяйственные технологии и рост населения уже начинают понемногу оказывать свое влияние. По некоторым прогнозам, Йемен, страна, напоминающая пороховую бочку из-за племенных междоусобиц и являющаяся базой «Аль-Каиды», уже к 2015 г. может стать первой в мире страной, лишившейся запасов пресной воды. Что касается Пакистана, имеющего ядерное оружие, разрываемого на части террористами, перенаселенного и хронически нестабильного, то там когда-то полноводная река Инд, источник ирригации для выращивания риса и хлопка, уже превратилась в жалкий ручеек, впадающий в океан. Вода – одно из основных препятствий на пути к миру на Ближнем Востоке. При отсутствии доступа к подземным водоносным горизонтам Западного берега и верховьям реки Иордан жизнь в Израиле может измениться до неузнаваемости. Проблемы с водоснабжением способны помешать и быстрому росту Китая. Связанные с водой ограничения могут заставить будущее правительство страны проводить для отвлечения внимания более агрессивную и авантюристичную внешнюю политику. Нехватка воды и климатические изменения в состоянии спровоцировать глобальные миграционные процессы, каждый из которых, в свою очередь, может стать причиной вооруженного конфликта между теми, кто хочет оказаться в более благоприятных условиях, и теми, кто этому препятствует.
Территориальные претензии редко приводят к масштабным войнам, однако они способны развязать массу локальных конфликтов. Как показал фолклендский кризис 1982 г. между Аргентиной и Великобританией, старые обиды вкупе с военным безрассудством и оппортунизмом (или отчаянием) способны проявиться совершенно неожиданным образом и в самых неожиданных местах. Кашмир и территории, оккупированные Израилем, останутся одними из самых взрывоопасных районов XXI в. По мере роста напористости Китая и его военной мощи американские стратеги стали с опаской смотреть на Тайвань: активная поддержка Тайбэя может разрушить отношения с КНР. Значительное напряжение существует в отношениях Китая с его соседями из-за островных территорий в западной части Тихого океана (точнее, из-за природных ресурсов этих территорий). Там ситуация может ухудшиться в любой момент.








