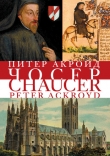Текст книги "Жизнь и время Чосера"
Автор книги: Джон Чамплин Гарднер
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 31 страниц)
Глава 9
Смерть Глостера, Джона Гонта и героя этой книги
Часто приходится слышать рассуждения о том, что, мол, тот или иной поэт – скажем, Вордсворт или Колридж – утратил в какую-то пору жизни поэтический дар; то же самое нередко говорилось и о Чосере, притом по меньшей мере дважды им самим. Спору нет, ему не удалось даже приблизиться к завершению своего грандиозного замысла «Кентерберийских рассказов», но было бы, пожалуй, ошибкой принимать слишком серьезно утверждение Чосера, что ему, дескать, «Злодейка-старость притупила ум, /Умения слагать стихи лишила». Эти строки из заключительной строфы-посвящения стихотворения «Жалоба Венеры» и впрямь производят, как мне кажется, впечатление искреннего сетования старика, огорченного тем, что в последнее время стихи пишутся уже не так легко, как раньше. Но, пытаясь понять, что могут значить эти строки (или вдумываясь в смысл строчек «Обращения к Скогану», где с более ощутимой иронией говорится о его спящей музе), следует помнить о том, что даже тогда, когда Чосер наиболее серьезно говорит о себе, в его стихах звучит глубоко затаенное ироническое подтрунивание над собой. Из поэмы в поэму подшучивает он над своими душевными или физическими недостатками, и, хотя эти насмешки служат отражением абсолютно серьезно-самокритичного склада ума, они вместе с тем комично преувеличивают то, в чем поэт видит свои действительные изъяны. Из строк его стихотворного обращения к Генри Скогану явствует, что в последние годы своей жизни он уже не писал так много, как прежде, но едва ли можно искать в них какой-либо другой смысл. В этом стихотворении Чосер дает Скогану один шутливый совет, затем изображает дело так, будто Скоган, не принимая Чосера всерьез, восклицает: «Хотя ты сед, а шутки на уме. / Все б старине играть да рифмовать!» В ответ на это воображаемое восклицание друга Чосер разуверяет его:
Нет, Скоган, нет, уже я не рифмую.
И музу, погрузившуюся в сон —
Пусть спит себе! – давненько не бужу я.
Заржавел меч, не вынут из ножон —
Им прежде я махал напропалую.
Ничто не вечно – жизни в том урок.
Стихам и прозе и всему свой срок.
Его муза крепко спит вот уже не один год, и даже ради этого стихотворения, заверяет Чосер, он не станет будить ее. Тем не менее само это послание к Скогану говорит о чем угодно, но только не об угасании поэтического дара автора. Следовательно, утверждение Чосера, что он забыл-де искусство писать стихи, могло иметь для него совсем другой смысл.
Мы располагаем достаточно убедительными доказательствами того, что в действительности Чосер писал в последние годы не менее блистательно, чем прежде (хотя теперь он писал меньше), но писал по-другому, на новый, ироничный, лад. Его все меньше интересовала поэзия как подражание – как имитация характера и действия – и все больше интересовала поэзия как высокая и значимая форма шутовства в самом прямом смысле слова. Хотя его, возможно, одолевали сомнения относительно этого странного нового направления, в каком стало развиваться его поэтическое творчество, он, по сути дела, открывал новый подход к искусству, который получит широкое признание у художников только в XX веке. Каким же образом, спрашивается, произошла эта переориентация?
В начале 90-х годов дела у короля Ричарда шли хорошо – поэтому, разумеется, хорошо шли дела и у Чосера. Поэт получил освобождение от многотрудной должности смотрителя королевских строительных работ (в 1391 году) и получил менее хлопотную службу: по-видимому, дважды он занимал в течение короткого периода времени должность помощника лесничего в Пезертонском лесу, но по большей части не исполнял никакой другой работы, помимо управления королевским имением в Гринвиче, если он действительно жил там вплоть до 1397 или даже 1399 года, когда переселился в меньший по размеру, но тоже превосходный дом, находившийся под защитой храма, где Чосеру не могли причинять беспокойство его (или, быть может, правительственные) кредиторы. Иначе говоря, на протяжении нескольких лет, а именно с 1391 года примерно по 1397 год, лишь с краткими, как мы увидим, перерывами, Чосер впервые в своей жизни свободно распоряжался собой, наслаждался досугом, пожиная плоды долголетней напряженной деятельности в качестве государственного служащего. Он часто бывал в Лондоне, где получал свою ренту и, случалось, подарки от короля, время от времени улаживал, не доводя дело до суда, свои денежные дела с кредиторами, навещал старых друзей. По всей вероятности, Чосер читал свои стихи при дворе короля – он много лет продолжал нерегулярно развлекать двор стихами, – и король относился к поэту с неослабевающим уважением: когда дела Ричарда незадолго до его смерти примут дурной оборот, одним из первых, к кому он обратится за помощью, будет Чосер.
Овдовевший поэт жил один, без сыновей, из которых один служил при дворе Гонта, другой учился вдали от дома, так что у него было теперь много свободного времени для стихов. С течением лет душевная рана, причиненная ему смертью Филиппы, затягивалась, острые чувства боли и скорби мало-помалу притуплялись, находили выход в общепринятой в средние века обрядовой форме: он регулярно заказывал заупокойные службы с пением, ставил свечи в ее память, может быть, устраивал ежегодные поминовения. Он не страдал от одиночества: неподалеку жила его сестра Кейт с семейством, в Англию вернулся Гонт, наведывались ученики. А большой особняк, в котором он жил, обслуживаемый многочисленной дворней, окруженный широкими лужайками и парками, являл собой предел мечтаний для любого поэта, остающегося на почве реального. Хотя у него бывали настроения, когда он чувствовал себя стариком, Чосер не утратил полностью интереса к красивым женщинам и придворным сплетням о знатных дамах и их кавалерах. В конце 90-х годов поэт сочинил одно откровенно шутливое стихотворение с призывом полюбить его, обращенное к некой «Розамунде», и два восхитительных стихотворных послания о любви и браке, адресованных одно Скогану по случаю его отказа от дамы, которой он добивался, и другое Бактону, предстоящая женитьба которого, как видно, казалась Чосеру неразумным шагом. Следует отметить, что распространенное толкование, согласно которому Чосер прямо осуждает в этом стихотворении брак как таковой, в корне ошибочно. Да, брак может обернуться рабством, говорит Чосер. Он может стать для человека поистине «цепями Сатаны». Но, если Бактон уверен в своей любви, ему совершенно нечего бояться, добавляет Чосер, советуя Бактону еще раз перечесть «Рассказ батской ткачихи».
Одним словом, у Чосера наконец-то появились идеальные условия для творчества. И он воспользовался этой благоприятной возможностью – во всяком случае, в начале 90-х годов, когда еще писал стихи в прежней, прославившей его манере. В этот период он внезапно изменил свой грандиозный план, по которому создавались «Кентерберийские рассказы». К тому моменту им уже были написаны (не обязательно в порядке перечисления, поскольку «Пролог», например, писался позже других вещей) «Общий пролог», «Рассказ рыцаря», «Рассказ мельника», «Рассказ мажордома», отдельные куски «Рассказа повара» вместе с соответствующими прологами и вступительными частями и еще несколько рассказов, включая «Рассказ шкипера». Хотя мы опускаем ввиду его сложности весь ход доказательства, можно фактически с полной уверенностью утверждать, что нынешний «Рассказ о Мелибее» первоначально был вложен в уста юриста. (В «Прологе юриста» юрист объявляет, что будет говорить прозой, но далее следует, к нашему удивлению, рассказ в стихах, явно вставленный на это место позднее; кроме того, «Рассказ о Мелибее» изобилует юридическими словечками и выражениями.) Наблюдая за делами двора из своего мирного уединения в Гринвиче, беседуя с друзьями во время своих приездов в Лондон, Чосер с растущим разочарованием отмечал, как все больше проникается его любимый король абсолютистскими воззрениями, и наконец счел нужным выразить свое отношение к этому наиболее действенным способом, доступным ему как любимому придворному поэту. Он приступил к решительной переработке «Кентерберийских рассказов». Юристу вместо первоначального рассказа про Мелибея он отдал рассказ о верной Констанце, в котором намеренно преувеличил до смешного аргументацию в пользу слепого повиновения власти (господа бога, короля или мужа), т. е. именно такого, какого требовал от подданных король Ричард. Кроткий ответ героини на повеление отца ехать в далекую от дома страну, чтобы выйти замуж за султана, типичен в этом отношении:
Даже взятый отдельно, этот нарочито благочестивый, с тщательно спрятанной издевкой рассказ – вещь не комическая, а ироничная – наверняка был воспринят понимающими людьми среди слушателей Чосера как тактичная критика некоторых заветных убеждений короля Ричарда. Но для того, чтобы устранить всякие сомнения, Чосер дал новый рассказ и батской ткачихе (в более ранней редакции она рассказывала историю, ставшую впоследствии «Рассказом шкипера»). Если раньше ткачихе отводилась роль всего лишь рассказчицы, весело повествовавшей о ловких проделках женщин, то теперь она стала смелой защитницей прав женщин, которая начинает свои речи с прямой атаки на деспотический идеал юриста, воплощенный в послушной Констанце:
Чтоб горести женитьбы описать,
Мне на людей ссылаться не пристало:
Я их сама на опыте познала!
Вот так, осуществляя свой замысел посвятить последовательный ряд историй рассмотрению, в тактичной косвенной форме, проблем справедливого и несправедливого правления, Чосер и создал группу «Кентерберийских рассказов», именуемую «брачным циклом».
Никогда еще не писал он так блистательно. Живой разговорный ритм поэтической речи, прозрачно-ясный образный строй, экономное и уверенное построение сюжета – все это говорит о высочайшем мастерстве. Столь же блистательна и разработка Чосером его общей темы. Аргументация батской ткачихи в основе своей благородна и бескорыстна: жене (равно как и подданному) следует предоставить власть над собой, после чего она обязательно передаст бразды правления своему господину из любви к нему. Но из предлагаемой ею аргументации вытекает и менее лучезарный вывод: если жене не будет добровольно предоставлена власть, она захватит ее и станет тиранить своего господина.
Такая аргументация переворачивает всю средневековую иерархию, и в «Рассказе кармелита», помещенном сразу вслед за «Рассказом батской ткачихи», автор беспечно развивает эту нелепость. В начале рассказа говорится:
Так слушайте, что расскажу вам, други:
Викарий некий жил в моей округе.
Он строгостью своею был известен —
Даров не брал, не поддавался лести,
Сжег на своем веку колдуний много,
Карал развратников и своден строго,
Судил священников и их подружек,
Опустошителей церковных кружек…
Кто в церкви был на приношенья скуп,
На тех всегда точил викарий зуб.
На них он вел с десяток черных списков,
Чтоб посохом их уловлял епископ.
Но мог и сам он налагать взысканье,
Для этого имел на содержанье
Он пристава, лихого молодца:
По всей стране такого хитреца
Вам не сыскать со сворою ищеек.
Виновных он тащил из всех лазеек.[259]259
«Кентерберийские рассказы», с. 300.
[Закрыть]
Разумеется, дело епископа – исправлять грешников (наставлять их на путь истинный своим пастырским посохом), дело викария – служить епископу, а дело пристава – исполнять распоряжения викария. В «Рассказе кармелита» пристав является не служителем, а главным деятелем, который наказывает согрешивших прежде, чем об этом распорядится викарий, а викарий наказывает прежде, чем получит приказ от епископа. В подобном перевернутом мироздании, как явствует из этого рассказа, только дьявол, низшее существо в мирозданческой иерархии, может исправить положение.
Продолжая свое рассмотрение проблемы власти и правления, Чосер в конце концов достигает в «Рассказе Франклина», как мы уже говорили выше, своего рода равновесия. Муж в этом рассказе действует со всей полнотой власти, предоставленной ему женой и направленной на ее же благо. Нам нет необходимости прослеживать здесь весь ход аргументации из рассказа в рассказ, анализировать функции каждого рассказа в рамках общего композиционного плана, вникать в смысл споров и соперничества между паломниками. Отметим лишь главное: в начале 90-х годов, когда Ричард стал полновластным правителем и начал проводить в жизнь свою теорию абсолютной монархии, Чосер отреагировал на это созданием великолепных рассказов, написанных в прежней манере подражания действительности и призванных служить выражением более широкого авторского замысла.
Представляются безосновательными утверждения, что с годами Чосер утратил способность сочинять яркие, исполненные драматизма рассказы. Взять хотя бы «Рассказ продавца индульгенций», написанный, безусловно, в поздний период его жизни и представляющий собой великолепное переложение древней легенды о чуме. Повествование окутано мрачной и таинственной атмосферой: бренчат гитары в темной дымной таверне, трое пьяных повес встречают странного, внушающего суеверный страх старца в черном – то ли это Смерть, то ли Вечный жид, то ли призрак из старинных валлийских легенд, то ли просто перепуганный старик (такая неопределенность придана этому образу, разумеется, умышленно) – «Рассказ монастырского капеллана» и «Рассказ слуги каноника», написанные с непревзойденным мастерством, также, несомненно, принадлежат к числу поздних произведений Чосера.
Но хотя он и не разучился писать рассказы-шедевры, Чосер заинтересовался в последние годы жизни искусством другого рода – искусством, вновь открытым значительными писателями нашей собственной эпохи, искусством, если можно так выразиться, писать плохо. Возможно, что такой реалист, как Чосер, неизбежно должен был сделать это открытие, коль скоро он решил прибегнуть к идее литературного соревнования между паломниками. Ведь должен же будет кто-то позорно проиграть. А что, если проигравших будет несколько?
Чосер экспериментировал с «искусством писать плохо» и с не заслуживающими доверия повествователями и раньше. «Дом славы», помимо всего прочего, является пародийным подражанием «Божественной комедии». А «Рассказ о Мелибее», как ни восторгался им по-монашески серьезный молодой друг поэта Джон Лидгейт, представляет собой пародию на распространенный смешанный жанр.
Но если прежде Чосер лишь заигрывал порой с идеей преднамеренно плохого искусства, то на склоне лёт, живя в уединении и фактически удалившись от дел, свободный писать при желании ради собственного удовольствия, он начал более серьезно разрабатывать эту открытую им новую любопытную литературную форму, которую я назвал бы «шутовской поэмой», – произведение искусства, задуманное как неумелое подражание не реальной действительности, а искусству и достигающее художественных целей окольным путем или весело пренебрегающее их достижением. Время от времени Чосер брал свои вещи, написанные давным-давно и больше не нравившиеся ему, такие, как «Рассказ монаха», и приспосабливал их для своей новой задачи. Но чаще он писал новые великолепные в своей ужасающей слабости вещи вроде «Рассказа врача», «Рассказа о сэре Топасе», «Рассказа аббатисы» или «Рассказа эконома».
Чосера давно занимали вопросы, поднимаемые философией номинализма, особенно номиналистская идея, что ни один человек не способен по-настоящему понять другого человека или быть понятым им. Он мог не соглашаться с солипсической[260]260
Солипсический – свойственный солипсизму, философскому учению, представляющему собой доведенный до крайних выводов субъективный идеализм; солипсизм признает единственной реальностью сознание субъекта, его «я», и отрицает существование внешнего мира вне этого сознания.
[Закрыть] точкой зрения номиналистов, но сама проблема представлялась ему сложной и серьезной. Много лет назад он уже имел с ней дело в поэме «Дом славы». Символика поэмы, как показали различные исследователи творчества Чосера, являла собой своего рода надстройку из библейских аллюзий, цитат из сочинений латинских авторов, из «Божественной комедии» и т. д., рассчитанную на то, чтобы напомнить читателю о предусмотренном богом обширном и упорядоченном плане мироздания, в то время как «Джеффри», от лица которого ведется повествование в поэме, охарактеризован как человек недалекий и неспособный даже примерно представить себе этот план, что не мешает ему, впрочем, испытывать на себе его благодетельное действие. Впоследствии, в первых трех рассказах Кентерберийского сборника, Чосер опять обратился к этой проблеме ограниченности человеческого ума и склонности людей рассматривать мироздание через призму собственного характера. В «Рассказе рыцаря» излагается, по всей вероятности, взгляд самого Чосера на вселенский порядок вещей: божественное провидение справедливо и милосердно. Но пьяный мельник тотчас же вызывается «перешибить» рыцарев рассказ и рисует картину мира, как он сам его понимает, после чего мажордом рассказывает историю, в которой выражена третья точка зрения на порядок вещей в мире. На взгляд мельника, люди получают – по милосердию божьему, если на том угодно настаивать рыцарю, – именно то, чего они заслуживают, но получают строго по заслугам. Что касается мажордома, которым движет, по его собственному признанию, прежде всего чувство злобы, то для него главное – месть, поэтому в его понимании истинная картина мира состоит в том, что люди получают максимум зла, какое могут причинить им враги. Кто же прав – рыцарь, мельник или мажордом? И если ответить на этот вопрос можно, то как мы переубедим пьяного мельника или желчного мажордома? Это типично номиналистский аргумент: нет у человечества общности в суждениях, нет восславленной Аквинатом «человеческой природы», нет понимания между людьми. Но как же тогда могут существовать в нашем мире справедливость, честное управление, упорядоченное общество? Это и является основной темой «Кентерберийских рассказов».
Ни один номиналист, живший в XIV веке, не употреблял понятия «релятивизм», но каждому номиналисту было хоть немного знакомо то ощущение недомогания, приступа тошноты, которое мы испытываем, когда смеемся на представлении пьесы Сэмюэла Беккета. Потрясение, вызванное открытиями ученых XIV столетия в области оптики, имело много общего с потрясением, которое испытали люди нашего века в результате открытий Эйнштейна и других физиков. Если нет единой нормы человеческого видения – или, говоря о нашей эпохе, если нет абсолютных пространства и времени, – то в чем же мы можем быть уверены, какие абсолюты уцелели? Для художника, искреннего христианина, единственными абсолютами в конечном счете являлись: 1) божеская любовь и 2) человеческое искусство, иначе говоря, заслуживающее доверия ощущение и восприятие человека, который тщательно запечатлевает то, что видит. Но ведь номинализм учит, что всякое видение, даже видение художника, всего лишь субъективное мнение. Художник чувствует, что есть истины, которые можно открыть, а не просто декларировать (как декларируются, за недостаточностью свидетельств, божественная справедливость и любовь). Но как доказать эти истины? Все серьезные художники нашего времени, по-моему, сталкиваются с проблемой, вставшей перед номиналистами, – проблемой невозможности выразить что-либо, хотя ты знаешь или на короткое время представляешь в воображении, что есть некие глубокие истины, которые каким-то образом все-таки можно выразить.
Христианин и оптимист по натуре, Чосер мог с безмятежным спокойствием взирать на свою собственную художническую беспомощность. Даже в наиболее традиционных своих поздних рассказах – «Рассказе монастырского капеллана», например, – он считает нужным, говоря о вещах высоких и благородных, приправить свои рассуждения изрядной толикой иронии, в которой он не нуждался прежде, описывая облагораживающее действие любви на Троила. Но в своей поздней шутовской поэзии Чосер насмехается и над самим творческим актом писательства как над чем-то абсурдным.
Врач в «Кентерберийских рассказах» изображен Чосером как человек более или менее порядочный и чрезвычайно серьезный – каким и подобает быть всякому человеку искусства, – тем не менее, созданное им «произведение искусства», «Рассказ врача», – это сущее бедствие.[261]261
В переводе на русский язык беспомощность и несостоятельность рассказчика, естественно, не могла быть передана полно.
[Закрыть] Пытаясь изобразить жизнеподобный характер Виргинии – позже он станет поучать паломников тому, как надлежит воспитывать девушек, чтобы они были такими же добродетельными, как его героиня – он выбирает самые неподходящие для этого поэтические средства, делая ее не персонажем из жизни, а фигурой искусства. По уверению врача, Природа – аллегорическая абстракция, – создав Виргинию, как будто хотела сказать о своем творении:
Подобное описание продолжается еще много строк, а когда дело доходит до самой истории, она оказывается столь же неубедительной: Чосер старательно изымает все мотивы, имевшиеся в первоисточнике (великом труде Ливия), вводит в сюжет элементы путаницы и непоследовательности, безбожно перегружает повествование пустыми словами и ненужными подробностями и т. д. и т. п. Когда Чосер читал «Рассказ врача» – надо думать, он исполнял его самодовольным голосом врача, имитируя педантичную врачебную манеру, – его придворные слушатели, должно быть, покатывались со смеху. Продавец индульгенций, чей рассказ следует сразу за «Рассказом врача», в отличие от своего предшественника – человек непорядочный (хотя при этом большой моралист); это негодяй, открыто признающийся в своей подлости, гомосексуалист и, вероятно, скопец, который бесстыдно похваляется своей ненормальностью и непристойно заигрывает с самим трактирщиком Гарри Бэйли, организатором паломничества, приведя его в ярый гнев. Однако, как бы низок и отвратителен ни был он сам, вложенное в его уста произведение искусства – настоящий шедевр.
В других своих поздних произведениях Чосер исследует проблему ненадежности искусства иными способами. В «Рассказе второй монахини» он подражает древнему жанру, а по сути дела, древнему строю религиозных чувств, соответствующему давным-давно устаревшей легенде о святой мученице, и для обогащения структуры текста налагает на эту старинную партитуру аллегорию из области алхимии. Если бы эта вещь была написана, скажем, в IX веке, ее темой стало бы жизнеописание св. Цецилии, а центральной эмоцией – христианское смирение и благочестие. Но, поскольку поэма написана в самом конце XIV столетия, объектом поэтического исследования стал в ней сам старинный жанр и простое религиозное чувство, которым были исполнены произведения этого жанра. В «Рассказе о сэре Топасе» Чосер пародирует самую распространенную в его время форму стихоплетства – рыцарский роман в стихах, высмеивая этот жанр и одновременно показывая (как это будет делать впоследствии Льюис Кэрролл[263]263
Льюис Кэрролл (см. прим. 104 – Чарлз Доджсон), помимо книг «Алиса в Стране чудес» и «В Зазеркалье», написал поэтический сборник «Фантасмагория и другие стихи» (1869), ироикомическую поэму абсурда «Охота на акулу» (1876), книгу «Рифма и смысл» (1889).
[Закрыть] с ритмикой Роберта Саути[264]264
Роберт Саути (1774–1843) – английский поэт, представитель «озерной школы», автор многих стихов и поэм на исторические и фантастические темы; с годами склонялся от радикальных, бунтарских настроений к мистике, религиозной дидактике. Русскому читателю известна его баллада «Суд божий над епископом» в вольном переводе В. А. Жуковского.
[Закрыть]), какого рода материал больше всего подходит для его ритмов. А в самой выспренней из своих шутовских поэм, «Рассказе эконома», он, беспардонно растягивая простенькую басню о том, как ворона стала черной, превращает ее в комический шедевр претенциозной чепухи. Поэма завершается рассуждением, которое можно, пожалуй, рассматривать в качестве комментария Чосера по поводу выявленного номинализмом конфликта между стремлением высказаться и сомнением в возможности высказать что-либо. На протяжении семидесяти двух строк (зло пародирующих некоторые стихи Джона Гауэра) эконом распинается о том, как важно держать язык за зубами (дабы не навлечь на свою голову беду, подобно вороне из басни), и эти вирши могли бы служить образчиком нарочито плохого искусства, которое в конечном счете оказывается творческой удачей Чосера:
Друзья мои. Из этого примера
Вы видите: во всем потребна мера.
И будьте осмотрительны в словах.
Не говорите мужу о грехах
Его жены, хотя б вы их и знали,
Чтоб ненавидеть вас мужья не стали.
Царь Соломон, как говорит преданье,
Оставил нам в наследство назиданье —
Язык держать покрепче под замком,
Но я уже вам говорил о том,
Что книжной мудростью не мне блистать.
Меня когда-то поучала мать:
«Мой сын, вороны ты не позабудь
И берегись, чтоб словом как-нибудь
Друзей не подвести, а там, как знать,
Болтливостью их всех не разогнать.
Язык болтливый – это бес, злой враг,
И пусть его искореняет всяк.
Мой сын! Господь, во благости своей,
Язык огородил у всех людей
Забором плотным из зубов и губ,
Чтоб человек, как бы он ни был глуп,
Пред тем, как говорить, мог поразмыслить
И беды всевозможные исчислить,
Которые болтливость навлекла.
Но не приносит ни беды, ни зла
Речь осмотрительная и скупая,
Запомни, сын мой, в жизнь свою вступая
Обуздывай язык, пускай узда
Его не держит только лишь тогда,
Когда ты господа поешь и славишь.
И если хоть во что-нибудь ты ставишь
Советы матери – будь скуп в словах
И то ж воспитывай в своих сынах,
Во всем потомстве, коль оно послушно.
Когда немного слов для дела нужно,
Губительно без устали болтать».
Еще сказала мне тогда же мать:
«Многоглаголанье – источник зла.
Один пример привесть бы я могла:
Топор, он долго сучья отсекает,
Потом, хвать, руку напрочь отрубает,
И падает рука к твоим ногам.
Язык так разрубает пополам
И дружбу многолетнюю, и узы,
Связующие давние союзы.
Клеветники все богу неугодны.
Про это говорит и глас народный,
И Соломон, и древности мудрец —
Сенека, и любой святой отец.
Прочтите хоть псалмы царя Давида,
Коль слышал что, не подавай ты вида,
Что разобрал, а если при тебе
Предался кто-нибудь лихой божбе,
Речам опасным – притворись глухим.
Сказал народ фламандский и я с ним:
«Где мало слов, там мир и больше склада».
Коль ты смолчал, бояться слов не надо,
Которые ты мог не так сказать.
А кто сболтнул – тому уж не поймать
Спорхнувшей мысли. Коль сказал ты слово,
То, что сказал, – сказал. Словечка злого,
Хотя б оно и стало ненавистно,
Нельзя исправить. Помни днесь и присно,
Что при враге не надобно болтать.
Ты раб того, кто сможет передать
Слова твои. Будь в жизни незаметен,
Страшись всегда и новостей, и сплетен.
Равно – правдивы ли они иль ложны;
Запомни, в этом ошибиться можно.
Скуп на слова и с равными ты будь,
И с высшими. Вороны не забудь».[265]265
«Кентерберийские рассказы», с. 486–487.
[Закрыть]
Эта поздняя, нарочито неуклюжая поэзия до недавнего времени не вызывала особого восхищения. Может быть, не вызывала она особого восхищения и в эпоху Чосера. Но, как бы ни относились к ней его друзья и покровители, писать подобные стихи, посмеиваясь над их несообразностью, было одной из утех мирной «старости поэта.
Хотя успеху Ричарда как правителя была суждена недолгая судьба, к середине 90-х годов он завоевал широкую популярность: короля любили, пусть даже и критиковали за высокомерие. По-видимому, не без помощи Гонта ему удалось поправить отношения со своими магнатами. Шотландия была спокойна; Гонт и Глостер совместно с Томасом Перси и другом Чосера сэром Луисом Клиффордом («предавшим бога») сумели заключить четырехлетнее перемирие с Францией (в дальнейшем оно будет продлено); миролюбивая политика Ричарда стала причиной экономического подъема и процветания, хотя большинство феодалов в те времена, как видно, не видели связи между наступившим миром и новоявленным преуспеянием; Ричард собственнолично добился мира в Ирландии, притом почти бескровным путем, воздав почести этим диким, грубым варварам, как именовали ирландцев английские хронисты, и возведя их вожаков в рыцарское достоинство, а также помиловав восставших против него мятежников и даже предложив признать полноправный юридический статус местных ирландских королей и вождей под английской короной. Хотя стратегия Ричарда привела некоторых англичан в ужас, никто не мог отрицать ее действенности. Бывшие лорды-апеллянты в большинстве своем теперь как будто бы примирились с правлением Ричарда, тем более что оно способствовало – через экономический подъем – их процветанию. Не примирился один только Арандел, по-прежнему дерзко непокорный и полный подозрений; как утверждала молва, он тайно поддерживал вспыхнувшие в 1394 году локальные восстания против Ланкастера и Глостера. Арандел выступал в парламенте с открытыми нападками на Джона Гонта, которого обвинял в том, что он злоупотребляет своим доступом к королю (подобные обвинения – разумеется, вполне справедливые – высказывались с давних времен), чрезмерно властно держится в королевском совете и парламенте, надменно присвоил в интересах собственного обогащения герцогство Аквитанию, предпринял в своекорыстных целях дорогостоящую военную экспедицию в Испанию и пытается ныне пойти на мировую с Францией. Ричард яростно защищал своего дядю и свою собственную мирную политику от критики Арандела, которая велась с позиций старомодной и самоубийственной кровожадности, и заставил Арандела униженно просить прощения. Он нагнал на Арандела такого страху, что некоторое время спустя тот попросил короля выдать ему специальную грамоту о помиловании за прежние его проступки. Несмотря на грамоту, ни король, ни Арандел не забыли и не простили былых обид. Когда летом того года умерла королева Анна – ее смерть вызвала у короля пароксизм скорби, – старый Арандел так и не присоединился к похоронной процессии, которая двигалась в Лондон из Шина (Англия не видала еще таких пышных, многолюдных похорон), и, явившись с опозданием в Вестминстерское аббатство, обратился к королю с оскорбительной при тех обстоятельствах просьбой позволить ему не присутствовать на погребальной службе. Ричард в бешенстве ударил Арандела, повергнув его наземь и «осквернив святилище его кровью», и приказал заточить обидчика в Тауэр, где продержал его несколько недель, а потом вынудил поклясться, что он не станет впредь совершать неблаговидные поступки, а в случае нарушения клятвы уплатит залог – невероятную сумму в 40 000 фунтов стерлингов (9 600 000 долларов).
Но до поры до времени Арандел являлся исключением. Ноттингем (Томас Моубрей), давно уже перетянутый на сторону короля, был назначен в осуществление Ричардовой политики примирения правителем болотистой восточной части Шотландии и комендантом Кале; Уорик удалился от политики, а беспокойный сын Гонта Генрих – один из лордов-апеллянтов, которые в свое время выступили против Ричарда и осуществили то, что Гонт, в числе других, считал убийством королевских друзей, – перестал играть активную роль в английских делах: он часто воевал за границей, с большим успехом и удовольствием сражаясь во всех малых битвах, которые происходили на суше и на море, и добывая себе воинскую славу. Хотя миролюбивая политика короля (современники часто порицали Гонта и Глостера, считая их инициаторами этой политики) сама по себе не пользовалась популярностью, никто не мог выдвинуть сколько-нибудь веских доводов против преимуществ мира, обеспечиваемого королевской властью, которая поддерживается – как это было символически выражено в оригинальной церемонии коронации – солидарностью королевской семьи и согласием лордов. Что до Гонта, то его врожденная лояльность основательно подкреплялась теперь соображениями необходимости. В марте 1394 года умерла Констанция Кастильская, и Гонт не мог впредь рассчитывать больше, чем на роль английского барона. Он играл эту роль с осторожностью и благоразумием, а также с театральностью, сделавшись главным защитником политики Ричарда, – и был по заслугам вознагражден. В январе 1396 года он женился на Катрин Суинфорд; парламент признал законнорожденными их детей; владения и привилегии Гонта значительно увеличились. Проступки его наследника Генриха Болингброка как одного из апеллянтов, похоже, были забыты, хотя память об этом жила в отцовском сердце. Позиция Ричарда еще больше укрепилась за счет того, что он дарами и милостями сумел приобрести друзей среди менее крупных поместных аристократов – слоя землевладельцев, поставлявшего «рыцарей своего графства» – представителей графств в парламенте.