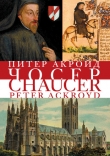Текст книги "Жизнь и время Чосера"
Автор книги: Джон Чамплин Гарднер
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 31 страниц)
Чосер так никогда и не выучился на барристера – на это ушло бы, по свидетельству Фортескью, никак не меньше шестнадцати лет. Но для работы, которую Чосер выполнял в дальнейшем, такой высокой юридической квалификации и не требовалось. При рассмотрении всех важных дел он выполнял свои обязанности мирового судьи в Кенте совместно с другим юристом, чего бы не понадобилось, если бы у самого Чосера имелся этот высокий ранг. Вместе с тем исследователи доподлинно установили, что ему необходимо было обладать кое-какими правовыми познаниями, чтобы занимать должности смотрителя королевских работ в Вестминстерском дворце, лондонском Тауэре и других местах; доказано также, что он должен был иметь юридическую подготовку, чтобы работать помощником лесничего в королевском парке Норт-Пезертон в Сомерсете: управление этим лесным имением осуществлялось в соответствии с довольно своеобразным особым сводом законов, которые отличались и от общего, и от государственного права и соблюдение которых обеспечивалось специальными судами. С другой стороны, представляется маловероятным (хотя и не абсолютно невозможным), чтобы без университетской подготовки Чосер смог когда-нибудь стать тем «благородным поэтом-философом», каким он был, мыслителем, которым повсеместно восхищались как одним из самых оригинальных умов и ученейших людей своего времени.
Каким бы предметам ни обучался Чосер, лучше всего он изучил неимоверно сложное искусство поэзии. С какими трудами это было связано, здесь можно только намекнуть. Начать с того, что ему пришлось овладеть риторикой, или элоквенцией, которая была во времена Чосера богатой, многообразной и полнокровной областью знания.
За столетие до Чосера ректор Оксфордского университета Роберт Гростест, один из выдающихся ученых той эпохи, обнаружив, что многие важные идеи, дошедшие от древних времен, были неправильно поняты в результате неточного перевода, разработал под влиянием этого открытия тщательно продуманные и точные теории перевода с классических языков, много сделал для возрождения в Англии интереса к изучению древнегреческого языка, литературы и философии, пригласил из-за границы ученых знатоков древнегреческого (как будто бы незначительное нововведение, но благодаря ему неизмеримо расширилась и обогатилась университетская программа) и договорился о возможности доставки древнегреческих манускриптов из Афин и Константинополя. Автор ряда великолепно точных для своего времени переводов с древнегреческого и латыни, он организовал совместную работу переводчиков, в которой упор делался на верном истолковании смысла оригиналов и повышении критериев точности.
Для того чтобы по достоинству оценить достигнутое Гростестом в этой области, мы должны припомнить, что до него «перевод» сплошь и рядом фактически означал переработку оригинала, и хотя различные школы придерживались различных убеждений, «правилами» перевода обычно предусматривалось не дословное переложение оригинального текста на более доступный язык, а, напротив, изменение оригинала путем сокращения или расширения, включения морализаторских отступлений, стилистических фигур для оживления повествования и т. д. и т. п. В этой связи следует отметить, что все те пассажи, подлинные сокровища прозаической речи, которые так восхищают нас в переводе «Утешения философского» Боэция, сделанном королем Альфредом,[145]145
Альфред Великий (ок. 849–901) – король англосаксонского королевства Уэссекс на юго-западе Англии (с 871). Объединил вокруг Уэссекса ряд англосаксонских королевств, реорганизовал армию, создал большой флот, построил много крепостей; составил общеанглийский судебник «Правда короля Альфреда». Способствовал развитию просвещения и литературы. Перевел «Утешение философское» Боэция, сделав некоторые добавления от себя. При нем и, возможно, при его участии начала составляться «Англосаксонская хроника».
[Закрыть] как, например, сравнение с колесной осью для разъяснения сущности ограниченной свободы воли, отсутствуют в оригинале.
Дело Гростеста продолжил монах-францисканец Роджер Бэкон, профессор Оксфордского и Парижского университетов. Развивая идеи Гростеста, он ратовал за дословно точные переводы с древнееврейского, древнегреческого и арабского и разработал принципы грамматического изучения прочих языков, помимо латыни. Хотя в своих научных занятиях он уделял незначительное место изучению местных языков, Роджер Бэкон не переставал твердить о том, какие торговые и политические преимущества сулит расширение языковых учебных программ, и это привело к общей переоценке, особенно во Франции и в Англии, значения того языка, на котором в действительности говорит население страны. (К 1362 году лорд-канцлер Англии будет говорить по-английски, открывая сессию парламента, и это сделает английский официальным языком страны.) Немало способствовал возрождению занятий литературой в Оксфорде – не столько в качестве новатора, сколько в качестве пропагандиста новых методов, выработанных Гростестом, Бэконом и их учениками, – Ричард Бери, епископ Даремский (? – 1345), известный собиратель и ценитель книг, автор трактата «О книголюбии» (Philobiblion).
Ко времени Чосера три поколения оксфордских профессоров много потрудились, осторожно продвигаясь вперед в деле изучения классиков, поощряя перевод их прозаических и стихотворных произведений на английский язык и смело, по-новому – без экзегетической тенденциозности – анализируя стиль и структуру произведений античной литературы. Возникли разные мнения, и велись жаркие споры. Одни подходили к литературе с аристотелевским критерием, согласно которому писатель должен «говорить как простолюдин, но мыслить как мудрец», другие ссылались на изречение Сенеки: «Приятно только то, что освежено разнообразием впечатлений». Люди вроде Джона Уиклифа убежденно отстаивали, апеллируя к авторитету Августина и апостола Павла, крайнюю необходимость понятной, простой и прямой речи и насмехались над богатыми словесными украшениями стилистов, подобных ритору Джеффри Винсофу, преподававшему в Оксфорде свое учение о речевом этикете – приспосабливании стиля к конкретному слушателю и конкретному случаю, при котором «высокому стилю» позволены всевозможные пышные украшательства и композиционные сложности. Полемика имела отнюдь не сугубо академический характер, как это могло бы показаться. Она самым непосредственным образом затрагивала вопрос о том, как работает человеческий мозг, какая существует связь между языком и мыслью, короче говоря, всю горячую проблематику «номинализма», к рассмотрению которой мы в самом скором времени обратимся. Для того чтобы найти для себя ответы, оксфордский студент читал труды всех мастеров, старых и новых, какие только мог достать, и, переводя их на английский, заострял внимание не только на смысле слов, но и на том, какое впечатление производят на ум и чувства тонкие стилистические приемы: повторы, сопоставления и т. д. и т. п.; овладев этим искусством, он сочинял, по старым и новым канонам, свои собственные произведения. Если он при этом считал, что мысль в основе своей рациональна, это делало его последователем Уиклифа. Если же он полагал, что поэтические метры и тропы способны выразить невыразимое, его больше привлекали теории Винсофа. В поэме «Книга герцогини» Чосер признает правомерность обеих точек зрения, в чем и выразился его рано пробудившийся гений. Попробую объяснить это более подробно.
Черный рыцарь, персонаж поэмы, оплакивая смерть своей дамы, избегает прямо говорить о собственном горе и прибегает к поэтическим уловкам и метафорическому языку поэтических условностей. Он говорит, например, что проиграл Фортуне шахматную партию:
Как был обыгран я плутовкой,
Ты знаешь? Нет? Она уловкой
Нечестной спутала меня,
Коварно в сети заманя:
«Сыграем в шахматы с тобой!»
Я сел, фигуры двинул в бой,
Разгромом полным ей грозя,
Вдруг вижу: моего ферзя
Мошенница крадет с доски…
Мне сердце сжало от тоски.
Лишившись королевы милой,
Я дальше, был играть не в силах,
Сказал: «Прощай, любовь, навек
И все, чем счастлив человек».
Глухая к горестям утрат,
Рекла Фортуна: «Шах и мат!»
Рассказчик, от лица которого написана поэма, должен излечить рыцаря от гибельной меланхолии, и с этой целью подвести его к признанию факта на ясном, простом языке: «Она умерла». Но если важна ясная, прямая речь, то имеет свое значение и речь, искусно построенная, наталкивающая на ассоциации: только поэтическое иносказание способно передать тончайшие оттенки чувства, неожиданно смутить ум подсознательным косвенным намеком, дать выражение той стороне действительности, которую мы ощущаем, но не можем увидеть.
Ко времени начала работы над «Книгой герцогини» Чосер в совершенстве овладел техникой применения риторических фигур: гипербол, метафор, повторов и прочих, которые делают возможной поэтическую образность. Он уже перевел как минимум одну, а то и несколько трудных – стилистически и философски – поэм, глубоко изучил латинскую и французскую поэзию и умел искусно играть аллюзиями, с такой же непринужденной легкостью, как Т. С. Элиот, и создавать поэтические конструкции, более сложные и более насыщенные символикой, чем любые другие произведения, написанные на английском языке после «Беовульфа».
Современные ученые без конца дебатируют вопрос о том, каковы были в действительности познания Чосера в иных областях, помимо ars poetica,[146]146
Поэтическое искусство (лат.)
[Закрыть] хотя его ученость, похоже, не вызывала ни малейших сомнений у его современников. Дебаты дебатами, но на этот вопрос можно дать простой ответ: он знал достаточно, чтобы быть серьезным «поэтом-философом» средневековья, иными словами, он знал очень много. К сожалению, этот простой ответ требует некоторых пояснений, и, хотя пояснения могут увести нас в сторону, мы должны привести их здесь, пусть совсем кратко. Они прольют некоторый свет на привычки и интересы Чосера в области умственной работы и ознакомят нас с единственным имеющимся ныне доводом, который подтверждает версию о том, что Чосер учился в Оксфорде.
В средние века считалось само собой разумеющимся, что поэзия высшей пробы всегда философична; это означало, что поэт стремился понять и выразить человеческую природу, осмыслить место человека в мироздании, его назначение. Как и в средневековой философии и политической теории, как и в метафизических рассуждениях любой эпохи, как и во всей великой поэзии, это было связано с ходом мысли, который мы теперь иногда пренебрежительно именуем «аргументацией по аналогии», отказываясь принимать ее всерьез. Логика этой аргументации такова если мы уразумеем точное соотношение между золотом и свинцом, между Христом и девой Марией, нам удастся установить правильное соотношение, ну скажем, между королем и его подданными.
Хотя этот способ доказательства не в чести у современных логиков (и, со своей точки зрения, они, конечно, правы), довод по аналогии в такой же мере является методом познания для большинства самых серьезных современных писателей и некоторых из наших наиболее глубоких философов (скажем, Алфреда Норта Уайтхеда[147]147
Алфред Норт Уайтхед (1861–1947) – англо-американский философ, логик и математик, профессор Лондонского и Гарвардского университетов, автор (совместно с Б. Расселом) основополагающего труда по математической логике «Основания математики» (т. 1–3, 1910–1913) и философских трудов «Процесс и реальность» (1929), «Приключения идей» (1933). В своей философии пытался сочетать элементы материализма и идеализма.
[Закрыть]), в какой он являлся таковым для Джеффри Чосера или для древнего китайского мыслителя. Он начинает (возьмем простой, но отнюдь не шутливый пример) с интуитивного убеждения, что, коль скоро капля воды, планета и вселенная тяготеют к шарообразной форме, они имеют некую внутреннюю общность, и приходит к конечному выводу об общности всего сущего. Сравните с этим выдвинутую Боэцием идею «любви» как всеобъемлющего принципа мироздания, как закона природы, подобного Ньютоновым законам термодинамики, но только более широкого по сфере своего действия, охватывающей и полет искр к небу, и устремление волн к берегу, и порыв человеческого духа к своему создателю. Средневековые мыслители считали, что путь к истине идет через метафору, т. е. через поиски сущности связи вещей в мире. Серьезный средневековый поэт не мог довольствоваться простым изложением своих мыслей по поводу той или иной конкретной ситуации, как это мог бы сделать Роберт Фрост; он считал необходимым найти аналогичную по своему существу ситуацию и выявить идущий там идентичный процесс упадка, роста или чего бы то ни было еще, как это любил делать Т. С. Элиот. Так, Чосер, говоря в «Рассказе второй монахини» об очищающей силе святости, использует язык алхимии. Хотя аналогия ускользает от взгляда современного читателя, следующие строки подразумевают сравнение между небесной сферой, философским камнем и праведной жизнью:
Повествуя далее о мученичестве св. Цецилии, Чосер сравнивает ее с философским камнем, сгорающим в перегонном кубе, или, как говорится в некоторых английских трактатах по алхимии, в «доме»:
Для того чтобы понять поэзию Чосера и наслаждаться ею, вовсе не обязательно знать все средневековые искусства и ремесла, ибо в ней, как в Библии (во всяком случае, когда ее толкованием занимаются более мудрые отцы церкви), то, о чем говорится темно и смутно в одном месте, непременно получает ясное выражение в другом; однако представляется важным – и с эстетической, и с философской точек зрения – знать, что для Чосера все в мироздании взаимно связано, находится в кровном родстве.
Хотя мы продолжаем пользоваться методом доказательства по аналогии, делаем мы это, по средневековым понятиям, крайне неумело. Мы применяем метафоры, пригодные для того или иного конкретного случая (скажем, «умственные токи», «каналы мысли», «реки чувства»), но не имеем всеорганизующей системы. Мы сосредоточиваем внимание на частностях, игнорируя универсалии. В противоположность этому средневековая и античная философия, не затронутая аналитической мыслью Декарта и Лейбница, исходила из идеи целостности. Возьмем такой пример. Тогда как современная западная медицина изучает больной орган, игнорируя остальную вселенную, средневековая и (в некоторых случаях) античная медицина принимала в расчет положение планет на небе, характер питания больного в течение целой жизни, его физиогномические особенности, семейные отношения, а подчас и вид внутренностей только что убитой козы. Там, где современный хирург вырезает пораженную часть органов, средневековый врач, убежденный в том, что микрокосм (человек) и макрокосм (вселенная) тесно связаны, в качестве составной части своего курса лечения отливал «образ» – маленькую модель зодиака, в которой каждый камень или металл имел своим назначением притягивать целебные силы или же противодействовать разрушительному действию той или иной планеты, и в дополнение к лекарствам советовал изменить диету больного, предварительно установив, какой из «соков» организма является источником недуга: кровь, флегма, желчь или черная желчь. Хотя Чосер насмехается над алчностью и самонадеянностью врача из «Кентерберийских рассказов», он совершенно серьезен в своих похвалах его лечебному ремеслу:
К тому ж он был искусный астролог;
Он, лишь когда звезда была в зените,
Лечил больного; и, связав все нити
Его судеб, что гороскоп дает,
Болезней он предсказывал исход —
Выздоровления иль смерти сроки.
Прекрасно знал болезней он истоки:
Горяч иль холоден, мокр или сух
Больного нрав, а значит, и недуг.
Как только он болезнь определял,
Он тотчас же лекарство назначал.[150]150
«Кентерберийские рассказы», с. 44.
[Закрыть]
Поскольку Чосер жил в эпоху холистического мышления,[151]151
Холистическое мышление. – Здесь: мышление, воспринимающее мироздание в целостности (от греч. holos – целое).
[Закрыть] у него не было никакого другого выбора, как продолжать всеми доступными ему средствами изучение метафизики, взаимосвязи формы и содержания, высших и низших категорий живых существ (от червей до ангелов или платоновских духов), а также геометрии, нумерологии – науки о магических числах, – астрологии, алхимии, философии музыки и т. д., иными словами, предметов, входивших в университетскую учебную программу, так называемый квадривиум. Не постигнув этой премудрости, он не мог бы даже надеяться стать первоклассным поэтом. Его сочинения свидетельствуют о том, как он хорошо справился с нелегким этим делом. Идя к своей собственной цели, Чосер приобретал познания не как будущий специалист в области всех этих дисциплин, а как поэт, которому полученные знания будут нужны в особых, поэтических интересах. Чосер не стал профессором математики (если последняя страница трактата «Экватор планет» принадлежит его перу, что вполне возможно, он способен был делать поразительные ошибки), но зато он был превосходным математиком-любителем – не просто специалистам по подсчетам, а человеком, который вникал в таинственные свойства чисел и геометрических форм и вобрал в себя математические познания, дошедшие до него от Пифагора, Платона и Аристотеля в сочинениях Макробия, Боэция и других и примененные в области физики, оптики и т. п. (у нас нет надобности останавливаться здесь на подробностях способов применения) такими учеными, как Роберт Гростест и Роджер Бэкон.
Алхимию Чосер в конце концов изучил достаточно хорошо для того, чтобы не только насытить «Рассказ слуги каноника» специальной терминологией алхимиков, но и живо передать эмоции этих людей: жгучее любопытство, честолюбие, гнев, огорчение, отчаяние. Более того, он разбирался в алхимии настолько, что смог дать правильное истолкование трудному алхимическому тексту, которым завершается этот рассказ. Во времена Чосера, как мы уже отмечали, нумерология и алхимия не считались псевдонауками, хотя они и включали в себя то, что мы называем сегодня «магией»; далеко не все, кто занимался ими, напоминали тех законченных пустословов, с какими мы встречаемся в «Рассказе слуги каноника». Лучшие из математиков-нумерологов и алхимиков были трудолюбивыми учеными, теоретиками и практиками, которые усердно пытались раскрыть тайны природы. Как и Чосер в этом рассказе, они придерживались мнения, что если дурной человек способен стремиться к знанию ради личной выгоды, то добрые люди стремятся к знанию ради той пользы, которую оно приносит, и для удовлетворения своей любознательности. Такие добрые люди заслуживали всяческого уважения, особенно в Оксфорде, где изучение оккультных наук имело славные традиции, восходившие как минимум к Роджеру Бэкону, за которым в последующие времена закрепилась репутация великого мага, основывавшаяся главным образом на его оригинальных (а с нашей точки зрения – бездоказательных) идеях в области астрологии и алхимии.
В 60-е годы Чосер, должно быть, только приступал к изучению этих дисциплин. В своей элегии на смерть Бланш, написанной, скорее всего, в 1369 или 1370 году, Чосер занимает в основном боэцианскую философскую позицию: одной из главных тем «Книги герцогини» является свободная воля как свойство сознания в мире, где Фортуна кажется всесильной; в произведении использованы – в общем виде – боэцианское противоположение тьмы и света (применительно к материи и форме или духу) и мысль Боэция о том, что нужно действовать не наперекор природе, а в союзе с ней; кроме того, автором непосредственно позаимствован ряд образов из «Утешения философского». Но только в поэмах, написанных позже «Книги герцогини», Чосер начинает широко цитировать Боэция и ссылаться на него – примером может служить использование в «Доме славы» боэцианской идеи, согласно которой все сущее имеет свое определенное природой место на лестнице, подымающейся от низшего вида материи до чистейшей духовной субстанции:
От творенья и поднесь
Каждой вещи место есть,
Отведенное природой
Для вещей такого рода.
Если вещь удалена,
К месту движется она
По причине проявленья
Родственного тяготенья.
Астрономические и музыкальные аллюзии в «Книге герцогини» носят традиционный характер, а если в поэме и содержатся алхимические вкрапления, то исследователям обнаружить их не удалось. Зато поэма в изобилии содержит свидетельства того, что Чосер отлично усвоил предметы, входившие в тривиум, и как свои пять пальцев знал «Песнь песней», «Апокалипсис», французскую поэзию и Овидия. Он обнаруживал также знакомство с современной ему психологией, притом не только с теорией снов, но и с теоретическими подходами к сумасшествию и его лечению (получившему у оксфордских медиков название «сердечная охота»). По всей вероятности, Чосер только начинал осваивать математические и естественные науки, которые приобретут для него важное значение впоследствии, и пока что не слишком далеко углубился в изучение спекулятивной философии.
В XIV веке Оксфордский университет являл собой центр вольнодумия и кипучей умственной деятельности. Отчасти это было обусловлено его влиянием и прочным положением, его правом на самоуправление и проявляемой время от времени неистовой решимостью отстаивать это право, а отчасти являлось следствием той творческой атмосферы, которая была там создана смелыми идеями нескольких поколений мыслителей, начиная, в известном смысле, с Роберта Гростеста. В XIII столетии, после того как доминиканцы, взяв в 1286 году обязательство защищать учение Фомы Аквинского, связали себя по рукам и ногам, ведущая роль в развитии средневековой мысли перешла к францисканцам. И вот Гростест, учитель-францисканец, основал в Оксфорде школу, которую Роджер Бэкон и другие сделают важнейшим для своего времени учебным заведением. С самого начала эта школа стояла за независимость суждении и получение знании из первых рук и, помимо изучения «старых авторитетов», культивировала изучение языков и физики.
В деле критического опровержения томизма – философской системы Фомы Аквинского – великий ученый Дунс Скот[152]152
Дунс Скот (ок. 1265–1308) – монах-францисканец, философ, один из крупнейших представителей средневековой схоластики. Преподавал в Оксфордском, Парижском и Кёльнском университетах. Выступал с резкой критикой томизма, стремился отделить философию от теологии, доказывая невозможность рационалистического обоснования идеи творения из ничего. Многие идеи Дунса Скота получили развитие в учении У. Оккама.
[Закрыть] пошел дальше Гростеста. Будучи блестящим критическим исследователем систем, Дунс Скот сумел показать, что постулируемая Аквинатом гармония божественного откровения и философии иллюзорна. Но Дунс Скот не решился сделать последний шаг и признать, что между разумом и верой, между философией и религией лежит непроходимая пропасть. Затем в Оксфорд середины XIV века явился Уильям Оккам, а вместе с ним пришло возрождение (или, скорее, переосмысление и новый расцвет) давнишнего, возникшего еще в XII столетии философского течения, известного под названием «номинализм».
Сегодня Оккама помнят главным образом по изречению, именуемому «бритвой Оккама»: «Pluralites non est ponenda sine necessitate» – «Сущности не должны быть умножаемы сверх необходимости». Принцип этот, на самом деле не являвшийся изобретением Оккама, имеет важное значение для истории философии и естественных наук не только по причине своего логического удобства (т. к. он утверждает, что простое объяснение логически предпочтительней более сложного), но еще и потому, что он, как оказалось, верно отражает тот метод работы, которым пользуется природа: так, например, когда в процессе эволюции живых организмов возникает необходимость в изменениях, природа начинает не с нуля, а удлиняет, сплющивает или как-нибудь еще видоизменяет уже запущенные в производство клетки, т. е. латает и штопает, идя по линии наименьшего сопротивления. Однако значение Оккама для своего времени определялось его оригинальными изысканиями в области политической теории (где он энергично защищал государство от притязаний папы на мирскую власть) и философии, особенно в таких ее разделах, как психология, метафизика и логика. Он первым сформулировал убедительные критические доводы номиналистов против универсалий, утверждая, что существуют только индивидуально-конкретные вещи – конкретные коровы, деревья или люди – и что универсалия (скажем, человеческая природа) имеет объективный смысл и существует лишь постольку, поскольку она измышлена. За столетия до Шопенгауэра он утверждал, что первичным свойством души является не интеллект, а воля, поскольку идеи, естественно, вытекают из перцепции и интуиции, этих основных форм человеческого познания; и еще он утверждал, что, коль скоро универсалии являются не больше как понятиями, не может быть никакого реального различия между «сущностью» (идеей вещи) и «существованием» (самой этой вещью, как мы ее воспринимаем своими органами чувств).
И до, и после Оккама в средневековой философии имелись два основных направления, известные в истории философской мысли как «реализм» и «номинализм». Полемика разгорелась по поводу истолкования одного места из трактата Порфирия[153]153
Порфирий (ок. 233 – ок. 304) – греческий философ-идеалист, комментатор Платона и Аристотеля, автор многочисленных сочинений по истории, математике, логике. Его труд «Введение к категориям Аристотеля» являлся в средние века главным источником знакомства с Аристотелевой логикой.
[Закрыть] «Введение к категориям Аристотеля» в переводе Боэция, в котором речь шла о проблеме родов и видов (например, «животные» и «лошади»). Споры велись по трем вопросам. Во-первых, существуют ли роды сами по себе или только в сознании? Во-вторых, если они имеют самостоятельное существование, то материальны они или нематериальны? И, в-третьих, существуют ли они отдельно от чувственно воспринимаемых вещей или помещены в них? В самом упрощенном виде эти вопросы сводились к следующему: 1) можно ли думать о «животном», не думая о лошади, кошке, собаке или корове; 2) если просто «животное» существует, то есть ли у него тело; 3) если «животные» как таковые есть, то существуют ли они сами по себе, или же нам нужно, фигурально выражаясь, разрезать носорога, чтобы извлечь из него «животное»?
Реалисты, философская позиция которых восходила к Платону, были склонны считать, что конкретным животным – моему псу Фреду, моему коню Александру и моей обезьянке Джиму – предшествовала божья идея «животного» и что только эта божественная идея в конечном счете реальна. Все остальное, пользуясь выражением Чосера, заимствованным у Платона, «лишь тени, что мелькают на стене». Номиналисты же, напротив, утверждали, что такие слова, как «животные» (т. е. универсалии), – это не больше как названия, которые мы придумываем для выражения в отвлеченной форме свойств, наблюдаемых нами в конкретных предметах. Подобный взгляд на вещи связан с одной занятной проблемой, которая позволяла Чосеру вдоволь потешиться: коль скоро идеи суть абстракции, отвлеченные от конкретного, я не могу узнать, «правильна» ли моя идея, и – поскольку вы, абстрагируя, тоже отвлекаетесь от конкретного – я не могу в точности передать вам смысл моей идеи. (Хотя данная проблема была многократно разъяснена, эта ошибка в суждении не изжита по сей день и проявляется, например, в утверждении позитивистов, что человек «не может почувствовать зубную боль другого человека».) Если все идеи неизбежно носят личный характер, то, значит, всякое обсуждение, всякое вынесение оценок обязательно обернется перепалкой, столкновением предвзятых мнений. А раз так, то сам бог велит Чосеру обрушиться в обращении, предпосланном пародийно-номиналистскому «Дому славы», на критиков, которым не понравится его поэма:
Коль сыщется такой наглец,
Зоил спесивый иль подлец,
Насмешник злобный, иль завистник,
Иль человеконенавистник,
Что вздумает хулить мой труд,
Пусть будет он казнен за блуд!
Несчастье, горе и беда
Пусть мучают его всегда
До гроба. Пусть он изопьет
Страданий чашу и умрет,
Как умер Крез, лидийский царь.
(Крез вещий сон увидел встарь,[154]154
История о вещем сне Креза изложена Чосером в «Рассказе монаха» («Кентерберийские рассказы», с. 211–212); первоисточник этой истории – «Роман о Розе».
[Закрыть]
Как будто в высь он вознесен.
Тот в руку оказался сон:
Врагами был в мгновенье ока
Он вздернут на столбе высоком.)
Молить всечасно бога стану,
Чтоб не щадил он критикана!
Хотя на первый взгляд весь этот диспут между «реалистами» и «номиналистами» может показаться пустой схоластической казуистикой, на самом деле он затрагивал вопросы огромного философского и практического значения. Номинализм, и особенно номинализм периода начала XI–XII веков, подразумевал материалистическое, антиидеалистическое мировоззрение, тогда как реализм подразумевал идеалистическую систему взглядов. Но еще важнее было вот что: так как учение церкви – столетиями создававшееся скрупулезными толкованиями смысла Библии – претендует на разъяснение абсолютных реальностей (таких незримых сущностей, как троица, например), номинализм, если строго следовать его логике, подводит к выводу, что все писания отцов церкви вполне можно выбросить на свалку.
Переосмысливая положения номинализма, Оккам, человек глубоко религиозный, понятное дело, отказался признать столь еретический вывод; он просто-напросто (в соответствии с интуитивистскими воззрениями св. Франциска, основателя ордена) отказался от всяких попыток примирения человеческого разума и божественных тайн. Перенесенный в сферу непостижимого, бог стал загадочной Абсолютной волей, не связанной никакими человеческими понятиями справедливости или разумности, Верховным существом, о котором бессмысленно размышлять. Сама эта идея не была нова. Августин давным-давно уже провозгласил, что он верит, потому что не может понять. Зато была нова цель, которую преследовал Оккам, – освобождение философии. Он ни на минуту не позволял себе усомниться в истинности христианского откровения, но он, по существу, превратил его в предмет, не подлежащий более обсуждению. Он широко открыл дверь в философию для мирянина и ученого-небогослова, который мог свободно ставить вопросы, не будучи связан исходными теологическими предпосылками. Его последователи станут изучать историю человечества, политику и чувственно воспринимаемый мир без чрезмерной оглядки на старые авторитеты, а дух независимого исследования, порожденный его идеями, будет вдохновлять Уиклифа и – через Уиклифа – чешского религиозного реформатора Яна Гуса, сожженного на костре, Кальвина и Лютера.
Джон Уиклиф, друг и идейный союзник Джона Гонта, был на десяток лет старше Джеффри Чосера. В своих сочинениях он по большей части оспаривал идеи номиналистов, но иной раз приходил к таким же, как они, выводам. В философии он был умеренным реалистом и, являясь отчасти последователем Фомы Аквинского, признавал, что общие идеи реально существуют лишь «в двойственном смысле»: их существование отделимо, с одной стороны, от единичных вещей, в которых они становятся осязаемыми, а с другой стороны, от божественного разума, в котором они обретаются вечно в невещественном виде. Поскольку же бога Уиклиф представлял на манер платоников как сущность, чья воля и природа неизменны, наподобие Платоновой «формы» (такой, как, скажем, идеальный, нематериальный Платонов стул, приближенными подобиями которого являются все конкретные стулья), он неизбежно должен был отвергнуть ряд положений тогдашнего вероучения: идею произволения господня; представление о правомочности папы и его легатов присваивать самим и предоставлять другим незаконные привилегии, такие, как отпущение грехов с помощью индульгенций или освобождение от обетов, разрешение браков между родственниками и т. д.; власть папы в мирских делах (в этом он был последователем Оккама); учение о пресуществлении как нечто привнесенное в более позднюю историческую эпоху и абсурдное с философской точки зрения. С годами Уиклиф все больше склонялся к принятию теологического детерминизма и идеи предопределения (божьей благодати в особом смысле) – концепций, во многом сходных с позднейшим учением Кальвина. При всей своей нелюбви к номинализму он разделял заботу номиналистов о правильном переводе текстов; отстаивая идею о буквальной боговдохновенности Библии, он признавал Писание единственной основой божественного закона и призывал сделать Библию достоянием мирян. Всем церковникам, по его убеждению, надлежало запретить занимать светские должности и иметь слишком большой достаток. И хотя фактически он не ополчался против богатства как такового, его призывы, истолкованные именно таким образом, вдохновляли участников крестьянского восстания 1381 года, спаливших дома богачей, в том числе и дворец Гонта. На самом-то деле Уиклиф, конечно, был сторонником Гонта и защищал его от врагов-церковников, «бегая из одной церкви в другую» по всему Лондону.