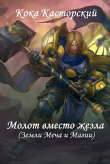Текст книги "Лучшая на свете прогулка. Пешком по Парижу"
Автор книги: Джон Бакстер
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Немалую часть своей двадцатилетней истории Парижский литературный семинар, главный французский долгожитель среди англоязычных мероприятий для писателей, был объектом внимания Дороти. Каждое лето в Париж на неделю съезжались пятьдесят человек со всего мира, чтобы пройти мастер-классы у писателей и поэтов и немного напитаться той атмосферой, что вдохновляла Стайн, Болдуина, Хемингуэя, Фолкнера и Джойса.
Последний такой семинар только-только начался, но Дороти настояла на немедленной встрече в нашем излюбленном местечке, Les Editeurs. Светлое просторное кафе с уличными столиками в самом начале моей улицы привносило на наш перекресток немного гламура, который прежде полностью монополизировали Les Deux Magots, Floreи Brasserie Lipp, теснившиеся у пересечения бульвара Сен-Жермен и улицы Рен, в паре кварталов западнее. Один американский журналист, очарованный книжными стеллажами, красными кожаными креслами и атмосферой закрытого лондонского клуба – точнее, того, как французы представляют себе закрытый лондонский клуб, – называл Les Editeurs“настоящим парижским кафе”. У меня не хватало духу сказать ему, что оно только три года как открылось. До этого на его месте находилось настоящее парижское кафе – но тоже определенного характера – Le Chope d’ Alsace: даже в дневное время темное, как пещера, пропахшее дешевым вином и сигаретами “Голуаз”, с ковром, который лип к подошвам ботинок.
Дороти шумно влетела, дежурно чмокнула воздух у каждой щеки и, сев за столик, немедленно загромоздила его папками, проспектами и программками, водрузив поверх разбухший органайзер.
– Как там дела? – поинтересовался я.
– Прекрасно, прекрасно, – рассеянно пробормотала она.
Вопрос не имел смысла. Семинар всегда проходил удачно. Идея, как гамбургер, легко приживалась на любой территории, была функциональна, как носовой платок, и проста, как веник.
Правильный вопрос звучал бы так: почему все так отлично работало?
– Но это же лишено всякой логики! – запротестовал я, когда она попыталась мне объяснить. – Пятьдесят человек, большей частью из Штатов, платят тысячи долларов, чтобы провести неделю во Франции на курсах литературного мастерства?
– Да.
– А преподаватели – большей частью из Штатов – получают гонорары за то, что приезжают сюда и учат их?
– Все верно.
– Но тогда почему бы всем эти людям не сэкономить свои деньги и не собраться для этого, ну, не знаю, в Атлантик-Сити на худой конец?
Она улыбнулась моей наивности.
– Джон, да ведь это Париж!
Она была слишком хорошо воспитана, чтобы добавить “кретин ты эдакий!”
Хотя она была бы абсолютно права: ведь я напрочь позабыл о древнейшем правиле торговли: продавай запах мяса, а не бифштекс.
Берлинцы убеждены, будто нечто, что они именуют Berlinerluft, воздух Берлина – испарения болот, лежащих за городом, – способен пробуждать творческое начало. Жители Лос-Анджелеса поведают вам о том, что в калифорнийском солнце определенно есть что-то такое, что придает снятым там фильмам особый блеск. И всякий, кто любит одежду, будет настаивать, что ничто не сравнится с кроем костюма, пошитого на лондонской Сэвилроу. Так и писатель готов поверить, что Париж, вдохновивший столько литературных гениев прошлого, может, и на него окажет подобное действие. Наша тяга к самообману не имеет границ. Каннибалы считали, что, съедая врага, они обретали его ловкость и отвагу. Мы до сих пор полагаем, будто за сильными мира сего тянется невидимый шлейф, на котором оседает волшебная пыль. Голливудский продюсер, гуляя вдоль океана в Малибу, заприметил Стивена Спилберга, сидевшего на песке и любовавшегося закатом. Он издалека наблюдал за режиссером, а когда тот встал и ушел, быстро угнездился в оставленной ямке. Ну что тут скажешь?
Я ждал, когда Дороти закажет свой café crèmeи объяснит, зачем вызвала меня сюда. Приглашение в самом разгаре семинара могло означать лишь необходимость попросить об одолжении. Для Дороти я объединял в себе две роли: был другом, но также и частью ее réseau.
– Ты занят сегодня вечером?
Ну вот, собственно!
– Ничего особенного. Почему ты спрашиваешь?
– Ты же знаешь, мы всегда устраиваем эти литературные прогулки…
Никто на этом семинаре не жаждал трудиться без продыху. Два часа в день – вот их предел; дальше они теряли способность концентрироваться. Остаток дня они предпочитали наслаждаться Парижем – под каким-нибудь более-менее литературным соусом. Идя навстречу пожеланиям, день и вечер отдавали разнообразным мероприятиям: чтениям, выставкам и литературным прогулкам.
– Кто их ведет в этом году?
– Было трудно найти хорошую кандидатуру, но в конце концов мы заполучили…
Тут она назвала одного относительно известного американского профессора – назовем его Эндрю.
– Он вроде преподает в Гарварде или еще где-то, нет?
– В Стэнфорде. Но у него отпуск, и он проводит его в Париже.
– Ну, тогда вам повезло.
– Вот и я так думала.
– А в чем дело? Какие-то проблемы?
– Лучше я пока воздержусь от оценок. Но прошу тебя, окажи услугу, походи сегодня с ними во время этой прогулки. Мне хочется знать твое мнение.
15. Свобода города
В этом городе повсюду натыкаешься на следы американских экспатриантов, беженцев, героев и негодяев.
Уолтер Джей Пи Керли,
посол Соединенных Штатов во Франции (1989–1993)
Следующая после экотуризма активно развивающаяся область индустрии досуга – туризм культурный. На каждого путешественника, пересекающего Бутан или ведущего подсчет бабочек в бразильской сельве, найдется тот, кто жаждет погрузиться в пучину литературы, не сознавая, что там его ждет не меньше сюрпризов – приятных и не очень, – чем в амазонских джунглях.
В Испании, Швейцарии, Италии, даже в бывших республиках Советского Союза – везде летом проводятся семинары для желающих стать писателями. Дороти продемонстрировала мне несколько красочных проспектов. Я изучил их с некоторым недоверием. В Испании преподавали литературу и эстетику боя быков с посещением корриды – смею надеяться, лишь в качестве зрителей. Римская сессия посвящалась “Поэзии кухни” и явно была лишь предлогом для ежевечернего обильного ужина. Единственное, что требовалось прочесть, – это меню.
Остальные были и того удивительней.
– “Обязательное сидение в кафе, – прочел я вслух. – Студенты должны выбрать одно из исторических кафе города и оставаться в нем не менее двух часов, в течение которых они наблюдают и ведут записи о происходящем”.
– Я думала, сработает ли это здесь, – задумчиво произнесла Дороти. – У нас есть кафе, но хозяева не будут в восторге, если вы просто там сидите. А если считать часы в cafés crèmes, это выльется в кругленькую сумму.
– А вот женщина, которая преподает “Мастерство писателя как танец”. То есть не надо ничего перелагать на бумагу – достаточно выучиться творчески двигаться.
– Я на нее тоже обратила внимание. Но она занята до самого следующего лета.
– А это! “Симус Финнеган, автор книги ‘Учитесь любить свой роман’, предлагает присоединиться к мастер-классу по продвинутым креативным техникам”. Ты это видела? Он предлагает купить мягкую игрушку или подушку и назвать ее именем своего проекта. И когда работа идет неважно, следует обнимать ее или проводить с ней беседу.
– Ах, Симус… Да. Он был у нас два года назад.
– Только не говори мне, что кто-то готов за такое выкладывать серьезные деньги!
– От желающих отбою нет, Джон, нам еще и отказывать приходилось! Я бы его снова пригласила, но у него все расписано под завязку. Со всеми лучшими та же история.
Эти финнегановские фантазии меня совсем вывели из себя. Для писательства ни к чему все эти ритуалы вуду. Что, Хемингуэй сидел в обнимку с подушкой по имени “Фиеста”? А Фицджеральд втихаря нежно сжимал плюшевого мишку Гэтсби? (Впрочем, Генри Миллер, ласкающий куклу Сексус, – в этом определенно что-то есть.)
– Хорошо, – сказал я. – Пригляжу за твоей литературной прогулкой. Не намекнешь, что я там должен высмотреть?
– Я бы предпочла, чтобы ты был непредвзят.
Возвращаясь домой по улице Одеон, я вспомнил свою прогулку на фестивале в финском Куопио. В сущности, это была не прогулка, а концептуальная работа британского художника Тима Ноулза под названием “Дорога ветра”. Он явно чтил идеи французского теоретика 1950-х Ги Дебора, одного из основоположников психогеографии. Как и сюрреализм, психогеография в значительной степени подразумевала ровно то, что звучало в самом термине. Хотя один храбрец назвал ее “коробкой с игрушками, полной милых затейливых стратегий познания городов. В ней есть все, что отвратит путника от проторенных маршрутов и вытолкнет в принципиально новое представление о городском пейзаже” [31] .
Наша финская группа встречалась на площади, и всем были розданы велосипедные шлемы с прикрепленными к ним маленькими треугольными флюгерами. Они крутились на ветру, и каждый шел в направлении, указанном флюгером. На первом повороте порыв ветра разделил группу на две части. Под конец утра мы уже были рассеяны по всему городу. Обычная прогулка вежливости превратилась в настоящее приключение.
Почти у дома я услышал:
– Excusez– moi. Je suis… В смысле, nous sommes…
– Ничего, я говорю по-английски.
Они выглядели, как сотни других, сновавших мимо меня каждый день: плащ Burberry, практичная обувь, потерянное выражение лица, сложенная карта.
– Мы хотим попасть в Люксембургский сад.
Я указал на театр “Одеон” в конце улицы.
– Сад сразу за ним.
Они подозрительно уставились на меня, затем – в свою карту. Они бы явно предпочли иметь дело с французом. Это вселило бы уверенность, что я не сочиняю. А так – я мог оказаться всего лишь очередным заблудившимся туристом.
– Попробуйте перевернуть карту, – предложил я. Странным образом парижские карты ставят север вверху, а они двигались на юг. Они недоверчиво последовали моему совету.
– Вы сейчас вот здесь, – я показал на улицу Одеон. – Вон там – театр. А это – сад.
– Точно! – воскликнул муж. – Видишь, дорогая, я же тебе говорил.
Жена обладала незаурядным самообладанием. Вместо того, чтобы дать ему хорошенького пинка, она только прищурилась.
– Нам нужно открытое кафе, – сообщила она. – И посимпатичнее.
– Там таких целых три, – ответил я. – Самое хорошее – рядом с эстрадой, на верхнем уровне.
Жена неуверенно огляделась.
– А это?..
– Я покажу, – сказал я.
Мы поднялись к площади Одеон и остановились пропустить автобус, который медленно сворачивал на улицу, стараясь не зацепить машины, нелегально припаркованные у ресторана Lа Méditerranée. Распахнув стеклянные двери, выходящие на площадь, хозяева, помимо хорошего вида и теплого ветерка, предоставили посетителям возможность наблюдать весьма любопытный уличный театр городской жизни. Как всегда летом, столики были заняты группками болтающих, и мужчина у деревянных ящиков с мареннскими устрицами яростно открывал их дюжинами, покуда официанты в нетерпении ждали своей очереди с заказом. Сверху полоскались синие холщевые маркизы, колыхая надпись “ La Méditerranée”, написанную размашистым почерком, который мгновенно узнает каждый парижанин.
– Слышали когда-нибудь о Жане Кокто? – спросил я.
В 1960-м Кокто обедал здесь с друзьями и собрался было уходить. Я так и видел его верблюжье пальто, накинутое на плечи, мягкую фетровую шляпу, застывшую между длинными тонкими пальцами, готовую покрыть его благородную голову; единственное, что могло поразить больше, чем Кокто, появляющийся в ресторане, – это Кокто, покидающий его. Провожая именитого гостя поклонами, сотрудники попросили его расписаться в livre d’ or, гостевой книге. Всегда эпатажный Кокто никогда не отделывался банальной подписью. И здесь он оставил на странице такой потрясающий набросок, что ради того, чтобы использовать его, в ресторане поменяли все скатерти, посуду и маркизы.
– Ух ты! – тихо выдохнул муж, когда я указал на рисунок, вплетенный в винно-красный ковер у входа. Они долго разглядывали его, потом подняли глаза на маркизы. Угол площади, который бы они прошли, даже не заметив, вдруг ожил. И мне вспомнился отрывок из “Великого Гэтсби”, который я перечитывал тысячу раз, но с того момента он обрел особый смысл.
 Рисунок Жана Кокто, сделанный для ресторана Lа Méditerranée
Рисунок Жана Кокто, сделанный для ресторана Lа Méditerranée
...
Поначалу я чувствовал себя одиноким, но на третье или четвертое утро меня остановил близ вокзала какой-то человек, видимо только что сошедший с поезда.
– Не скажете ли, как попасть в Уэст-Эгг? – растерянно спросил он.
Я объяснил. И когда я зашагал дальше, чувства одиночества как не бывало. Я был старожилом, первопоселенцем, указывателем дорог. Эта встреча освободила меня от невольной скованности пришельца. [32]
16. Человек, который слишком много знал
Искусство быть занудой состоит в том, чтобы рассказывать обо всем.
Вольтер
Спустя два дня мы снова повстречались с Дороти в Les Editeurs.
– Ну и засаду ты мне устроила, – с упреком произнес я.
– Ну, извини.
И ни тени раскаяния.
Самой большой неожиданностью для нас, десяти человек, собравшихся на улице Ренн, чтобы отправиться на литературную прогулку, стал несолидный возраст нашего гида. Лет примерно сорока, загорелый, белокурый, с тихим голосом, Эндрю мог бы сойти за племянника Роберта Редфорда. Некоторые дамы из нашей группы разглядывали его с отнюдь не академическим интересом, покуда более зрелые господа выказывали сомнения, будет ли им под силу угнаться за мужчиной в такой блестящей физической форме.
Им не стоило волноваться.
У Les Deux MagotsЭндрю встал спиной к кафе и лицом к весьма оживленному бульвару Сен-Жермен. Глядя поверх нас, он сообщил:
– И вот мы находимся у одного из самых знаменитых кафе Парижа, Les Deux Magots. Оно появилось в…
В литературных мемуарах часто упоминается, как харизматичный учитель зажег искру интереса к литературе у будущего автора. “Я с нетерпением ждала следующего урока, когда мы наконец, расположившись у ног мисс Уилкинс, будем снова слушать, жадно ловя каждое слово, как она читает Эмили Дикинсон…” Какими бы качествами ни обладали эти преподаватели, Эндрю был их полной противоположностью. Он должен был быть уверен, что мы усвоили культурную историю Парижа в мельчайших подробностях, вплоть до платы за посещение туалета в кафе Le Sélectв 1928 году. Интерес группы явно иссякал, будто утекая в некую интеллектуальную воронку. Кое-кто бросал недвусмысленные взгляды на столики, выставленные на тротуаре. А что если присесть, ну буквально на минутку, заказать кофе или бокал шампанского?..
– Я не была до конца уверена, – сказала Дороти. – Но слухи доходили. Люди говорят, что он несколько… суховат.
Суховат? Эндрю был суше некуда. Ссохся до предела.
Он ничего от нас не утаил. Ни истории, ни статистических выкладок, ни цитат, ни дат. А затем еще немного статистики. Напоследок он извлек свою новую книгу и зачитал – или, точнее, нудно пробубнил – несколько страниц. Воодушевление, с которым поначалу некоторые взирали на него, уступило место неприязни. Опасавшиеся изматывающих физических нагрузок оставили свои страхи. По сравнению с этим вязким темпом прогулка до почтового ящика увлекала не меньше, чем сплав по бурной горной речке с порогами. Я вспомнил, как режиссер Терри Гиллиам отозвался о работе с Робертом Де Ниро в фильме “Бразилия”. Актер был так дотошен во всем, что на съемку пары коротких сцен уходили недели. “Мы все трепетали перед Де Ниро, – сказал Гиллиам, – а потом нас развернуло на сто восемьдесят градусов, и мы все хотели его убить”.
Если нагоняющие сон лекции Эндрю и травмировали меня меньше других, я отношу это за счет прохождения всех кругов традиционного католического образования, которым руководили именно такие священники и монахини, каких вы ожидаете встретить в австралийской провинции. Их целью было не обучить, а освободить голову от любого рода информации, иметь в распоряжении белый лист, способный вместить бесконечные церковные запреты. После десяти лет нудных уроков и воскресных проповедей у меня выработался частичный иммунитет к скуке, подобно тому, как многократные змеиные укусы делают вас неуязвимыми для яда. Но с Эндрю силы начали покидать даже меня. Так что когда мы подошли к площади Сен-Сюльпис и башни церкви грозно нависли надо мной, я испугался того, что могло случиться, войди я вовнутрь. А если я впаду в транс, все решат, что я умер, и я очнусь через неделю в крипте, как какой-нибудь персонаж Эдгара Алана По? Предпочтя не рисковать, я дал задний ход и скрылся за первым же углом.
Попивая джин с тоником на террасе кафе Flore, я наслаждался ранним парижским вечером. Если бы только Эндрю мог увидеть город, каким видел его я – таким, каким он был в 1920-е, когда плетеные кресла выставлялись из кафе прямо на тротуар, и приезжие американцы сидели за бокалом белого вина, впитывая несущуюся мимо жизнь, столь не похожую на ту, что они наблюдали у себя на родине: такси с визжащими клаксонами, завсегдатаи бульваров в облегающих тройках, приветствующие дам в шляпках-клош и шелковых чулках легким касанием полей шляпы и потягивающие fine à l’ eau[33] с друзьями в предвкушении того, что принесет им ночь.
Любовь к городу, как и к человеку, зачастую рождается с первой же встречи. Дальнейшее – вопрос изучения и узнавания. “Мы не чувствовали себя не у дел”, – писал канадский писатель Морли Каллаган о своем первом вечере в Париже.
 Девушки в кафе за уличными столиками, 1920-е гг.
Девушки в кафе за уличными столиками, 1920-е гг.
...
Этот угол походил на огромную чашу света, маленькие фигурки то и дело ступали в нее и тут же исчезали, а за ней лежал весь Париж. Париж был повсюду вокруг, и как же мог он быть нам чуждым, даже если ни один француз не заговаривал с нами? Он предлагал нам то же, что на протяжении столетий предлагал и людям из других стран; это было освещенное место, где можно дать волю воображению.
Эндрю, безусловно, интересовался Парижем, но он его не любил. Оскар Уайльд презирал таких людей, которые “знают цену всему и ничто не в состоянии оценить”. Эндрю знал факты, но не то, что они обозначали. Он мог четко изложить их, но не был способен наполнить их жизнью. А для гида это приговор.
– А все казалось безупречным, – посетовала Дороти. – Хорошие рекомендации, приятные манеры… Такое разочарование.
Она подхватила стопку бумаг и принялась зачитывать:
– “Откровенная тоска”… “Совсем не то, чего мы ожидали”… “До конца не дотерпели”.
– Ну, похоже, ты с ним серьезно влипла.
– Необязательно, – она метнула на меня критический взгляд. – Незаменимых нет.
До меня стало наконец доходить, куда она клонит.
– Только не говори, что ты намекаешь на меня!
– А почему нет?
– Я не гид, – запротестовал я. – Я даже не представляю, с чего надо начинать.
– О, Джон! – раздраженно произнесла она. – Ради всего святого – ты же живешь здесь! Просто расскажи им пару своих историй.
– Историй? – неуверенно переспросил я.
– И разве не ты говорил, что подумываешь об упражнениях?
– Ну да…
– Так вот прогулки – это отличное упражнение.
– Ну… мне надо подумать.
– Думай, только быстрее, – отрезала она.
– Почему? Следующий семинар только через год, если не ошибаюсь.
Дороти уже злилась.
– Уж не полагаешь ли ты, что я позволю людям снова пройти через это? Сегодня утром я сообщила Эндрю, что оставшиеся две прогулки мы проведем без него.
Она захлопнула свой органайзер.– Следующая у нас завтра, в три.
17. Опиумная тропа
У следующего колышка Королева опять повернулась.
– Если не знаешь, что сказать, говори по-французски! – заметила она. – Когда идешь, носки ставь врозь! И помни, кто ты такая!
Льюис Кэрролл
“Алиса в Зазеркалье”[34]
На следующий день я стоял на бульваре Монпарнас, у меня сосало под ложечкой, и я наблюдал, как собирается на экскурсию моя первая группа.
Просто расскажи им пару своих историй.
До чего просто это у нее прозвучало.
Какие истории?
О ком?
Мой друг-музыковед как-то в минуту слабости согласился прочесть лекцию по истории западной музыки. Глубоко погрузившись в григорианские песнопения, он спустя два часа с трудом вырулил на Штокхаузена и сериализм, когда вдруг напоролся на пристальный укоризненный взгляд дамы в первом ряду, которая прошипела: “Вы забыли о Скрябине!” По одному, по два потихоньку появлялись в дверях члены моей группы – четыре дамы средних лет в удобных туфлях, симпатичная, но слегка заторможенная девушка, которая, кажется, страдала от джет-лэга, и лысый мужчина с густой рыжей бородой. Прилично ли упомянуть, что он был почти точной копией Ландрю? Наверное, не очень.
– Это все?
– Еще одна дама собиралась подойти, – ответила с сильным акцентом жительницы южных штатов одна из женщин. Она обернулась к дверям. – Но, видимо, она передумала.
Шесть из предполагавшихся пятидесяти. Слух об усыпляющей прогулке с Эндрю уже явно распространился.
– Тогда, пожалуй, начнем…
Я представился, затем начал, перекрикивая шум машин:
– Мы стоим на бульваре Монпарнас…
Не прошло и минуты, как я стал испытывать что-то вроде сочувствия Эндрю. Уличные углы – совсем не место выдавать информацию, разве что указать дорогу до ближайшего метро. И если вы не обладаете специально натренированным голосом, все, что бы вы ни произнесли, через пару метров уже тонет в городском гаме.
Была еще одна проблема, которую я в полной мере осознал накануне вечером, когда опробовал намеченный мной маршрут. В восточной части бульвара Монпарнас, где проходили занятия семинара, напрочь отсутствовали какие-либо литературные достопримечательности. Никто, интересный с художественной точки зрения, здесь не жил, не умер и не ночевал. Вот почему Эндрю начал свою экскурсию перед Les Deux Magots. Там ему, по крайней мере, было что рассказать.
Всего каких-то пятьсот метров, и там – Люксембургский сад, Одеон, целый кладезь любопытнейших и важных мест. Загвоздка в том, как их преодолеть. Что бы в этой ситуации сделал Хемингуэй? Я принял рискованное решение и указал в сторону улицы Вожирар.
– Нам надо немного пройти.
– Далеко? – поинтересовалась девушка с усталым видом.
– Да всего ничего, – соврал я. Чтобы выиграть время, я спросил: – А вы откуда?
Рассказ об Омахе занял два квартала, но на подходе к третьему – а это лишь полдороги до сада – она иссякла.
И тут вмешалось провидение и спасло мою жизнь. Мы случайно остановились у антикварной лавки.
– Вот это да! – воскликнул я, уставясь на витрину. – Вы только посмотрите!
Тонкая металлическая трубка, богато украшенная эмалью, была эффектно выставлена на первый план как явная жемчужина в коллекции магазина.
– Опиумная трубка! – произнес я, скорее, самому себе. – Знаете ли вы, какая это редкость? Они почти не встречаются в продаже. Любопытно, сколько за нее просят…
Если не считать алкоголя, ни один наркотик не оказал на европейское искусство такого мощного влияния, как опиум. Альфред де Мюссе курил его. Лорд Байрон принимал в виде лауданума, растворенного в алкоголе. Химические очищенные формулы вроде морфина и героина давали еще более острые ощущения, но художники и мыслители предпочитали наркотик в первоначальном виде. Он позволял им проводить целые вечера в грезах о мире, обращенном в чистейший образец пластической формы. Для культуры, породившей виньетки ар-нуво, кувшинки Моне и Дебюсси с его музыкой фонтанов, облаков и моря, это был идеальный наркотик – органический, сильный и якобы безвредный.
Любое тайное наслаждение обрастает разного рода атрибутами, которые для иных энтузиастов не менее важны, чем сам процесс. Подобно гольфистам с клюшками Бобби Джонса [35] и членством в клубах Пеббл-Бич и Сент-Эндрюс, некоторые опиоманы были не столько поглощены собственно действием наркотика, сколько тем, чтобы заполучить самую богато украшенную трубку, правильную лампу для разогревания опиума, булавки, чтобы держать его над пламенем, ну и, конечно же, сам опиум только лучшего качества.
Юньнаньский опиум пользовался большим успехом, чем более грубый варанасский English Mud, который англичане выращивали в Индии и сбывали китайцам.
– Опиум, знаете ли, был в большом почете в художественной среде. Пикассо курил его. Он сказал, что запах опиума – наименее дурацкий запах из существующих, кроме разве что морского. Жан Кокто тоже без него не обходился. В одной из лучших своих книг он рассказывает о курсе лечения в клинике в Сен-Клу…
Тишина за моей спиной заставила меня обернуться. Мои подопечные стояли тесной группкой и неотрывно глядели на трубку.
– О, простите, – сказал я. – Нам не стоит задерживаться.
– Нет-нет, – запротестовала одна из дам. – Это интересно, продолжайте.
– Об… опиуме?
– Да.
Как объяснить значение опиума в жизни французов? Ведь это вопрос разницы восприятия и предпочтений. Англичане любят солнце, французы выбирают тень. Опиум не будоражит и не погружает в сладостный трепет; скорее, он дает ключ от области между ощущениями… к состоянию, которое ближе всего к самой французской из всех идей: к le zone…
– Не пойму, как его курят, – произнес бородатый мужчина, всматриваясь в витрину. – У трубки же нет чашки.
И я поведал о том, как брали опиум, скатывали в шарик размером с горошину, грели над огнем, пока он не начинал пузыриться, а затем вставляли в крошечное круглое отверстие, превращаясь в несколько затяжек волшебного дыма, что порождал сновидения и грезы.
– А скажите, – спросила самая робкая из женщин, – у них что, правда были… – она запнулась, – …опиумные притоны?
– Конечно. И сейчас есть. Французы называют их fumeries. И некоторые из них довольно шикарные.
Они почти прильнули к стеклу.
– Видите ли… – продолжил я.
И хотя я теперь говорил чуть ли не шепотом, они прекрасно меня слышали. И снова я убедился, насколько верна старая добрая истина: неважно, как громко вы говорите, важно, что вы можете рассказать.
– … опиум притупляет чувство времени. Кокто говорил, что ощущение такое, будто сходишь с поезда существования. Но для полного эффекта нужно три-четыре трубки. А для этого необходимо…
 Девушка в курильне опиума
Девушка в курильне опиума
– Место, где можно лечь, – сказал бородатый мужчина.
– Именно!
Мы все дружно кивнули – уже больше не гид и его группа.Сообщники.
Спустя два дня я переходил улицу Вожирар перед зданием Сената, и тут на пороге почты появился продавец книг из магазина напротив нашего дома. Он уставился на что-то за моей спиной и изумленно произнес:
– А это что еще значит?
Ко мне, лавируя между машинами, приближались люди, записавшиеся на мою вторую экскурсию – все двадцать семь участников.
Я пожал плечами.
– Mes admirateurs. [36]
– Merde alors! [37] – уважительно присвистнул он.
Когда все подошли, я сказал:
– А теперь взгляните на ограду рядом с главным входом в Люксембургский сад. Филипп Супо писал, что в 30-е годы это было место, где собирались в поисках случайных знакомств садомазохисты.Хемингуэй, пожалуй, меня бы не одобрил, но я точно знал, что Генри Миллер был бы не против.
18. Открытки из Парижа
Никогда не пользуйтесь услугами так называемых “гидов”. Этими “гидами” кишат бульвары от улицы Руаяль до самой Оперы. Они липнут к вам, пытаются продать НЕПРИСТОЙНЫЕ открытки, водят на непристойные фильмы, в “дома” и на “выставки”. Держитесь от них подальше.
Брюс Рейнольдс
“Париж с открытым забралом” (1927)
– Так вот, ты им очень понравился, – торжествующе сообщила мне Дороти. – Только послушай…
– Прошу тебя, не надо!
С Хемингуэем меня роднило жгучее чувство неловкости, которое я испытывал всякий раз, когда про меня говорили что-то хорошее, в особенности если это происходило при мне. Когда Хемингуэй впервые встретился с Фицджеральдом в баре Dingoна улице Деламбр, он шарахался от комплиментов. Как он написал в “Празднике, который всегда с тобой”, “по нашей тогдашней этике похвала в глаза считалась прямым оскорблением”.
– Одна пара даже поинтересовалась, не твоя ли это профессия, – сообщила Дороти. – Тебе стоит подумать об этом.
Представить себя в качестве гида значило победить лавину стереотипов.
Наименее оскорбительную картину, которую я лицезрел ежедневно, представляли особи с высоко поднятыми зонтами или флажками, таскавшие вереницы зачуханных туристов вверх и вниз по улице Одеон. Никто не выглядел шибко довольным, и меньше всего – сам экскурсовод.
Может, есть в этом некое извращение, но мне гораздо больше были симпатичны гиды с куда менее лестной репутацией, но с авантюрной жилкой – ближайшие родственники того карикатурного персонажа, которого Фолкнер, когда в 1925-м жил за углом от нас, обозначил как “грязненького мужика из сортира подземки с пачкой французских почтовых открыток в руке”. Другие жаловали гидов еще меньше. Бэзил Вун писал в 1926 году в книге “Париж, которого нет в путеводителях”, что “наихудший способ [увидеть Париж ]– это воспользоваться услугами одного из тех профессиональных гидов, которые наводняют бульвары и предлагают непристойные открытки. В большинстве своем это русские или турки; встречаются и немцы с американцами, но их мало. В большинстве своем они воры, и абсолютно все – потенциальные шантажисты”. (И – да, его действительно звали Бэзил Вун. В 1920-е в Париже также обитали журналист по имени Уэмбли Болд и переводчик Брэвиг Имбс [38] . Вполне вероятно, что они скрывались в Париже, чтобы избежать насмешек, которые вызывали их имена на родине.)
 Игривые открытки создавали Парижу дурную репутацию
Игривые открытки создавали Парижу дурную репутацию
В этих псевдогидах есть что-то от морских разбойников, тень разврата и опасности, которые напрочь отсутствуют в их обычных коллегах, просто-напросто унылых занудах. Существуют ли еще настоящие профессионалы, одного из которых сыграл Ричард Гир в “Американском жиголо”, – те, что нанимаются к одиноким женщинам, приезжающим в Лос-Анджелес? Поначалу он просто везет их из аэропорта, но по дороге невзначай спрашивает позволения снять фуражку – этакий мужской эквивалент женского “я только быстренько переоденусь во что-нибудь поудобнее”, – после чего его обязанности приобретают более интимный характер. Ален Делон, странным образом выбранный на роль итальянца в “Желтом роллс-ройсе”, начинает гидом при гангстере Джордже К. Скотте, а заканчивает тем, что заводит шашни с его любовницей Ширли Маклейн, на которые телохранитель Арт Карни закрывает глаза. Роберт Редфорд в “Гаване” берет в оборот двух американок, жаждущих грязных удовольствий: он ведет их на порношоу в Шанхайский театр [39] , а затем и к себе домой, где они втроем устраивают веселые игрища в темноте. Во всех эпизодах каждый отлично проводит время, а не этого ли мы ждем от путешествия за границу?
Гиды с сомнительной репутацией не часто появляются в кино, но и в этих редких случаях исходящая от них угроза скорее смешная, чем зловещая. Моим героем стал бы Конрад Фейдт в мрачной картине 1943 года “Вне подозрений”. Большинство помнят его по роли майора Штрассера в “Касабланке”, где он спрашивает Хэмфри Богарта: “Вы один из тех, кто не может представить немцев в вашем обожаемом Париже?” Во “Вне подозрений” он носит мягкую фетровую шляпу, твидовый костюм и монокль, но выглядит не менее угрожающе. В музее пыток он сообщает Джоан Кроуфорд и Фреду Макмюррею, указывая на выставленные среди экспонатов щипцы: “Эта искусно сделанная вещица служила замечательным инструментом для выдергивания ногтей. Она и сейчас в отличном рабочем состоянии”. Демонстрируя металлическую статую, которая внутри была усеяна острыми шипами, он пояснял: “А это Железная дева Нюрнбергская, кое-где известная как немецкая Статуя Свободы”. Когда Кроуфорд с легкой дрожью в голосе замечает: “Вы не очень-то похожи на гида”, он, кровожадно ухмыляясь, отвечает: “А может, и вы не слишком-то похожи на туристов”. Увы, он на самом деле хороший парень. Жаль, что он слишком рано снимает маску и не предлагает Джоан и Фреду взглянуть на открытки. Тогда уж точно было бы что-то посильнее прелюбодеяния.