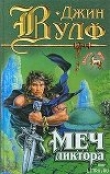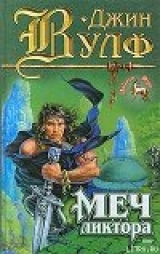
Текст книги "Меч ликтора"
Автор книги: Джин Родман Вулф
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Уходят вдаль людских голов бугры:
Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят,
Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я сказать, что солнце светит.
1. ХОЗЯИН ДОМА ЦЕПЕЙ
– Я едва сдерживалась, Северьян, – вздохнула Доркас и встала под струи воды в каменной парной, – на мужской половине, наверное, есть такая же; впрочем, я не знаю. И всякий раз, стоило мне шагнуть наружу, я слышала, что они обо мне говорят. Называют тебя гнусным мясником – я даже повторять не хочу, как еще.
– Ничего удивительного, – ответил я. – В городе целый месяц не было ни одного приезжего, ты первая; пошли толки – этого и следовало ожидать. Кое-кому из женщин известно, кто ты такая, и они будут только рады посудачить и рассказать пару баек. Сам я давно привык, а ты по дороге сюда наверняка не раз слышала, как меня величают; я, во всяком случае, слышал.
– Ты прав, – призналась она и уселась на внутренний выступ бойницы. Внизу простирался город, и огни многочисленных лавочек и мастерских уже заливали Ацисову долину желтым, как лепестки нарцисса, светом; однако Доркас, казалось, ничего этого не замечала.
– Теперь ты понимаешь, почему устав гильдии запрещает мне жениться, но я уже повторял тебе множество раз, что готов нарушить его ради тебя – только пожелай.
– Иными словами, мне было бы лучше жить где-нибудь в Другом месте, а сюда приходить только раз или два в неделю. Или ждать, пока ты сам ко мне наведаешься.
– Именно так все обычно и устраиваются. Рано или поздно тем женщинам, которые сегодня распускали о нас сплетни, станет ясно, что их сыновья, мужья или они сами в один прекрасный день могут оказаться в моей власти.
– Но ведь дело совсем не в этом, неужели ты не понимаешь? Дело в том, что… – Доркас осеклась и, поскольку я тоже молчал, вскочила и принялась мерить шагами комнату, скрестив на груди руки. Я никогда не видел ее такой и почувствовал раздражение.
– Так в чем же? – спросил я.
– Прежде это действительно были сплетни. А теперь – правда.
– Я упражнялся в своем искусстве всякий раз, как находилась работа. Нанимался в городские и сельские органы правосудия. Несколько раз ты наблюдала за мной из окна – никогда не любила стоять в толпе, хотя я и не вправе упрекать тебя в этом.
– Я не наблюдала.
– Но я помню, что видел тебя.
– Я не смотрела. В тот момент, когда все свершалось, я не смотрела. Ты бывал так поглощен своим занятием, что не мог видеть, отходила ли я от окна или закрывала глаза. Когда ты первым вспрыгивал на эшафот – вот тогда я действительно смотрела и махала тебе рукой. Ты был таким гордым, стоял прямой, как твой меч, – ты был очень хорош. Ты был честен. Помню, как однажды рядом с тобой стояли какой-то судейский служащий, иеромонах и осужденный; и только у тебя было честное лицо.
– Ты не могла его видеть. Я наверняка был в маске.
– Северьян, мне не обязательно было видеть его. Я ведь так хорошо его знаю.
– Разве я с тех пор изменился?
– Нет, – неохотно ответила она. – Но я побывала в подземелье. Видела в галереях людей, закованных в цепи. И сегодня вечером, когда мы уляжемся спать в нашу мягкую постель, они будут там, внизу, под нами. Сколько, говоришь, их было, когда ты водил меня туда?
– Около тысячи шестисот. Неужели ты искренне веришь, что эти шестнадцать сотен гуляли бы на свободе, если бы меня здесь не было? Вспомни, когда мы сюда прибыли, они уже сидели там.
Доркас избегала моего взгляда.
– Это похоже на общую могилу, – пробормотала она. Я заметил, что плечи ее дрожат.
– Так и есть, – сказал я. – Архон мог бы выпустить их, но кто воскресит тех, кого они погубили? Ты, верно, никогда никого не теряла? Она не ответила.
– Спроси жен, матерей, сестер тех людей, кого наши теперешние узники отправили гнить на кладбище, следует ли Абдиесу их отпустить?
– Я могу спросить только саму себя, – сказала Доркас и задула свечу.
Тракс кривым кинжалом вонзается в самое сердце горной страны. Он лежит в тесном ущелье, что занимает Ацисова долина, и простирается до самого Замка Копья. Арена, пантеон и прочие общественные постройки занимают всю ровную местность между замком и крепостной стеной (называемой Капулюс), замыкающей узкую часть долины. Жилые дома города облепили крутые горные склоны по обе стороны, многие просто высечены в скалах, за что Тракс получил одно из своих прозвищ: Град Без Окон.
Благополучием своим он обязан тому, что расположен в верховье судоходной части реки. В Траксе все товары, направляемые на север от Ациса (причем немалая их часть уже преодолела девять десятых Гьолла, прежде чем достичь устья речушки, из которой Гьолл скорее всего и берет начало), должны быть выгружены; дальнейшее путешествие, если таковое необходимо, им предстоит проделать на спинах вьючных животных. И наоборот, если вожди горных племен и местные землевладельцы пожелают отправить зерно и шерсть на юг, им придется свезти свой товар в Тракс и погрузить на корабль, потому что выше по течению река с ревом ударяется в выгнутый гребень склона, увенчанного Замком Копья.
Отправление правосудия заботило местного архона более других дел, что, вероятно, типично для районов, где сильная городская власть навязывает свои законы окрестным землям. Чтобы утвердить свою волю над теми, кто находился вне городских укреплений и мог ей воспротивиться, в его распоряжении было семь эскадронов димархиев, каждый – под предводительством особого командира. Суд созывался ежемесячно, в новолуние, и распускался, когда луна достигала полного диска. Заседания открывались со второй утренней стражей и заканчивали работу лишь после того, как все намеченные на день процессы бывали рассмотрены. Мне как главному исполнителю приговоров архона предписывалось посещать эти заседания, дабы он мог быть уверен, что установленные им наказания не будут ни смягчены, ни усугублены по воле тех, кому в противном случае поручалось бы передавать их мне; кроме того, я должен был присматривать за всей, до последней мелочи, внутренней жизнью Винкулы, где содержались узники. Возложенная на меня ответственность в некоторой степени сопоставима с той, что в нашей Цитадели приходится нести мастеру Гурло, и в первые недели моего пребывания в Траксе она чрезвычайно тяготила меня.
Мастер Гурло любил повторять, что идеальных по расположению тюрем не существует. Подобно большинству мудрых мыслей, изреченных в назидание юношеству, эта сентенция столь же неоспорима, сколь и бесполезна. Все побеги можно свести лишь к трем разновидностям: украдкой, с применением насилия или же благодаря подкупу охранников. Удаленное расположение тюрем серьезно затрудняет побег украдкой и по этой причине представляется предпочтительным тем, кто долго размышлял над данным вопросом.
Сколь ни прискорбно, пустыни, вершины гор и отдаленные острова особенно благоприятствуют насильственному побегу – если товарищи узников затеют осаду, то получить своевременное известие об их предприятии довольно трудно, всякая же попытка усилить тюремные гарнизоны почти неосуществима; буде же узники поднимут бунт, возможность подвести войска прежде, чем исход дела решится, весьма сомнительна.
Густонаселенная и надежно охраняемая местность служит для крепости хорошей защитой от подобных осложнений, однако здесь возникает иная, возможно, еще более серьезная опасность. Узнику уже не требуются сотни товарищей – достаточно одного или двух; и это не должны быть непременно воины – справится даже уборщица или уличный торговец, достало бы только ума и решимости. И далее: стоит узнику покинуть стены тюрьмы, он немедленно смешивается с безликой толпой, и его поимка становится делом уже не охотников с собаками, но сыщиков и осведомителей.
В нашем случае и думать было нельзя строить тюрьму особняком, в удалении от города. Даже если приставить к ней достаточно войска, помимо собственно охраны, для отражения атак автохтонов, зоантропов и культелариев, что рыщут за городской чертой, не говоря уж о вооруженных свитах мелких экзультантов (которым никогда нельзя доверять), и тогда было бы невозможно обеспечивать безопасность караванов с провиантом, не прибегая к помощи армии. Посему Винкула Тракса по необходимости расположена в черте города, а именно – посередине его западной горной стены, в полулиге от Капулюса.
Она построена в духе древних времен, и я всегда полагал, что ее первоначальный замысел отвечал нынешнему содержанию; однако существует легенда, согласно которой здесь когда-то была гробница, и лишь несколько веков назад она была расширена и перестроена в соответствии со своим новым назначением. Наблюдателю, расположившемуся на более просторном, восточном, валу, она кажется выступающей из скалы четырехгранной башней в четыре этажа с плоской зубчатой крышей, упирающейся в стену горы. Эта доступная взору часть сооружения, которую многие иноземцы принимают за целое, на деле есть ничтожная и по величине, и по значению доля. В бытность мою ликтором в ней размещались только хозяйственные службы, казармы стражников и мое жилище.
Узников помещали в выдолбленную в скале наклонную шахту. Содержали их не в отдельных отсеках, подобных тем, что ждали наших клиентов в подземелье на моей родине, и не в общей камере, в какую я сам был заключен в Обители Абсолюта. Здесь узникам надевали толстые железные ошейники и приковывали цепями вдоль стен шахты таким образом, чтобы по центру оставалось достаточное пространство и двое стражников могли разойтись, не опасаясь, что у них выхватят ключи.
Шахта тянулась примерно на пятьсот шагов в длину и могла вместить более тысячи узников. Вода подавалась из резервуара, выдолбленного в камне на вершине скалы, а нечистоты удалялись путем опорожнения того же резервуара, когда количество воды в нем становилось угрожающим. Труба, пробитая в нижней оконечности шахты, доставляла сточные воды в канал у подножия скалы, который сквозь отверстие в Капулюсе выносил их в Ацис далеко за городом.
Примыкающая к скале четырехгранная башня и сама шахта, должно быть, и составляли первоначальную основу Винкулы. Впоследствии ее структура была дополнена хитроумной сетью переплетающихся галерей и параллельных шахт, появившихся в результате безуспешных попыток освободить узников через ходы, прорытые из жилых домов на склоне горы, которые были соединены со встречными туннелями, пробитыми для предотвращения подобных авантюр; ныне все они приспособлены для размещения наших постояльцев.
Наличие этих ответвлений, плохо спланированных, а зачастую и вовсе не имевших никакого плана, доставляло мне лишнюю головную боль, поэтому в числе первых моих предприятий было уничтожение лишних и бесполезных проходов, для чего их засыпали смесью речного камня, песка, воды, извести и гравия, что вкупе с расширением и соединением оставшихся переходов обещало придать структуре определенную целесообразность. Однако, несмотря на необходимость таких работ, продвигались они крайне медленно, поскольку к ним могло быть единовременно привлечено лишь несколько сотен узников, которые к тому же по большей части были больны и немощны.
Когда мы с Доркас прибыли в Тракс, первые несколько недель работа поглощала все мое время без остатка. Доркас обследовала город, что было важно для нас обоих, я же со своей стороны настоятельно просил ее собрать сведения о Пелеринах. Весь долгий путь из Нессуса меня угнетала мысль, что Коготь Миротворца до сих пор находится при мне. Теперь же, когда путешествие было окончено, он сделался бременем почти невыносимым, ибо я мог оставить попытки отыскать следы Пелерин по пути, более не надеясь, что следую направлению, которое может привести меня к ним. Если ночь застигала нас в дороге и звезды сияли над моей головой, я прятал камень за голенище сапога, когда же выпадала редкая удача заночевать под крышей, засовывал его в носок. Теперь я обнаружил, что вовсе не могу без него спать: всякий раз, просыпаясь среди ночи, я должен был удостовериться, что он все еще со мной. Доркас сшила из оленьей кожи мешочек, чтобы я мог хранить в нем камень, и я носил его на шее день и ночь. В те первые недели я много раз видел во сне этот камень, зависший надо мной и объятый пламенем, подобно храму, из которого был взят, и, пробудившись, находил его свечение столь ярким, что оно легким ореолом пробивалось сквозь тонкую кожу. Каждую ночь я раз или два просыпался, лежа на спине с мешочком на груди, и он казался таким тяжелым (хотя я по-прежнему мог без усилий поднять его одной рукою), что я боялся быть раздавленным насмерть.
Доркас помогала мне чем могла и по мере сил утешала меня; и все же я видел, что резкая перемена в наших отношениях от нее не укрылась и причиняла ей беспокойство куда более сильное, нежели мне. Как подсказывает мне опыт, подобные перемены всегда неприятны – уже хотя бы потому, что таят в себе вероятность дальнейших перемен. Во время совместного путешествия (а скитались мы, то поспешая, то позволяя себе отдых, с того самого дня в Саду Непробудного Сна, когда Доркас помогла мне, нахлебавшемуся воды и полумертвому, выкарабкаться на поросшую осокой плавучую тропинку) мы были равноправными товарищами и лигу за лигой преодолевали пешком или каждый в своем седле. Пусть мои мускулы служили порой защитой для Доркас, зато у нее я всегда находил моральную поддержку, ибо лишь немногие могли долго оставаться беспристрастными к ее непорочной красоте или пребывать в страхе перед моим родом занятий – ведь, глядя на меня, нельзя было не видеть также и ее. Она была моей советчицей в беде и товарищем в бесприютной пустыне.
Когда же мы наконец достигли Тракса и я вручил архону письмо мастера Палаэмона, всему этому настал неминуемый конец. Мне, облаченному в свои угольно-черные одеяния, толпа уже была не страшна – это я был страшен ей, я, верховное лицо самой грозной ветви государственной власти. Теперь Доркас жила в Винкуле, в выделенных мне покоях, не как равная, но, по выражению Кумена, в качестве любовницы. Ее советы уже не могли быть мне полезны – по крайней мере, большинство их, – поскольку затруднения, столь угнетавшие меня, были связаны с законами и управлением, в коей стихии я за многие годы привык сражаться и о которой она не имела представления; более того, у меня почти не оставалось ни времени, ни сил разъяснять ей мои трудности, чтобы мы могли поговорить по душам.
И вот, пока я выстаивал при дворе архона одно присутствие за другим, Доркас привыкла бродить по городу, и мы, всю вторую половину весны не разлучавшиеся ни на миг, с наступлением лета едва виделись: делили вечернюю трапезу и, утомленные, забирались в постель, чтобы тут же уснуть в объятиях друг друга.
Наконец воссияла полная луна. С какой радостью я смотрел на нее с верхушки башни – зеленую, как изумруд, в обрамлении лесов, и круглую, точно ободок чашки! Я еще не был свободен, поскольку мелкие хозяйственные и следственные дела, накопившиеся за время заседаний у архона, еще ждали моих распоряжений; но теперь я наконец-то мог посвятить им себя всецело, что было равнозначно обретению свободы. На следующий же день я пригласил Доркас с собой на обход подземелий Винкулы.
Я допустил ошибку. Смрад и страдания узников довели ее до дурноты. Вечером того же дня, о чем я уже упоминал, она пошла в общественные бани (неожиданный с ее стороны поступок: ведь она так боялась воды, что мылась всегда частями, окуная губку в миску, где воды было не больше, чем супа в тарелке), желая избавиться от пропитавшего кожу и волосы запаха шахты. Там она и услыхала, как служительницы судачат о ней.
2. НАД ВОДОПАДОМ
Наутро, прежде чем покинуть башню, Доркас обрезала волосы, да так коротко, что теперь напоминала мальчишку; в кольцо, которым они прежде были схвачены, она вдела белый пион. Я же до наступления дня разбирал бумаги, а потом, позаимствовав у начальника стражи плащ, какой носят горожане, вышел в надежде на случайную встречу с ней.
В коричневой книге, с которой я не расстаюсь, говорится, что нет ощущения более необычного, чем то, которое испытываешь, бродя по городу, не похожему ни на один из виденных ранее, – ибо это означает открывать в собственной душе новые, неожиданные закоулки. Мне, однако, довелось изведать нечто еще более странное: я бродил по городу, в котором уже прожил некоторое время, так и не узнав о нем ничего.
Я не имел представления, где находятся бани, о которых говорила Доркас, хотя из слышанных мельком разговоров в суде подозревал, что они действительно существуют. Не знал я, и где находится базар, куда она ходила покупать наряды и косметические средства; к тому же базаров в городе могло быть и несколько. Короче говоря, Тракс оставался мне совершенно неизвестным – я знал лишь панораму, открывавшуюся из бойницы, да несколько улиц, ведущих от Винкулы к палатам архона. Возможно, я был излишне самоуверен, полагая, что не потеряюсь в городе, столь уступающем Нессусу размерами; тем не менее, шагая по извилистым улицам, в беспорядке разбегавшимся по склону горы и нелепо плутающим между домами-пещерами и домами – ласточкиными гнездами, я то и дело поглядывал, виден ли еще знакомый четырехгранник с крепостными воротами и черной хоругвью.
В Нессусе богачи живут в северной части города, где воды Гьолла чище, а бедняки – в южной, где река уже сильно засорена. Здесь, в Траксе, этого обычая больше не придерживались: бег Ациса так стремителен, что экскременты, сбрасывавшиеся выше по течению (где не набралось бы и тысячной доли жителей, населяющих северную оконечность Гьолла), не наносили реке ощутимого вреда; кроме того, для богатых домов и городских фонтанов воду забирали над порогом и доставляли по специальным каналам, так что река сама по себе не имела особого значения; исключение составляли производственные цехи и общественные бани, где требовалось большое количество воды.
В Траксе, таким образом, о состоятельности горожанина можно было судить по расположению его жилища – у подножия горы или на ее вершине. Самые богатые селились у ее основания, поближе к реке, откуда до торговых рядов и присутственных учреждений было рукой подать, а небольшая аллея вела прямо на набережную, где они могли нанять каик, и рабы возили их на прогулку вдоль города. Те, у кого денег было поменьше, строили дома повыше; жители среднего достатка – еще выше, и так далее, до самых крепостных стен на вершине горы, где лепились лачуги самых последних бедняков – зачастую просто логова из глины и соломы, забраться в которые можно было лишь по длинной приставной лестнице.
Я намеревался в свое время осмотреть и эти убогие хибары, но в этот раз решил не удаляться от реки и пройти по торговым кварталам. На их узких улочках царила такая толчея, что мне показалось, будто в городе праздник, или же война, представлявшаяся мне в Нессусе такой далекой, но ощущавшаяся тем живее, чем дальше мы с Доркас продвигались на север, пригнала сюда потоки беженцев.
Нессус так огромен, что о нем говорят, будто на одного жителя там приходится по пять зданий. О Траксе, несомненно, можно сказать обратное, и в тот день мне порой думалось, что под каждой крышей обитает человек пятьдесят. Нессус к тому же – город-космополит, но, хотя иноземцы на его улицах встречаются на каждом шагу, попадаются даже прибывшие из иных миров какогены, для коренных жителей они именно иноземцы, далеко оторвавшиеся от родных краев. Здесь же улицы пестрели выходцами из самых разнообразных народов, но это говорило лишь о разнообразии населявших горы племен. Когда я, к примеру, видел человека в шапке из птичьего оперения со свисающими на уши крыльями, или же прохожего, одетого в косматую шкуру, или вдруг мужчину с татуировкой на лице, я мог не сомневаться, что, завернув за угол, столкнусь с сотней таких же дикарей.
Эти люди были эклектики, потомки южных переселенцев, перемешавшихся с коренастыми темнокожими автохтонами и отчасти воспринявших их уклад, к которому добавились обычаи амфитрионов, обитавших еще дальше на север, и иных, еще менее известных народов, кочевых торговцев и мелких племен.
Многие эклектики питают пристрастие к изогнутым кинжалам, или, как здесь иногда говорят, «свернутым набок»: клинок состоит из двух относительно прямых лезвий и резко уходит вбок у самого острия. Считается, что кинжал такой формы легко прокалывает сердце, если вонзить его под грудную кость; лезвия скреплены посередине осью и заточены с обеих сторон чрезвычайно остро. Рукоять, как правило, костяная, ножен нет вовсе. (Я так подробно описываю эти кинжалы потому, что они составляют, пожалуй, самую характерную особенность здешних мест, к тому же именно им Тракс обязан другим своим прозвищем: Город Кривых Кинжалов. Общие очертания города также напоминают лезвие подобного кинжала: изгиб ущелья словно повторяет изгиб клинка, река Ацис осью прорезает Тракс посередине, а Капулюс играет роль основания рукояти.)
Один из смотрителей Медвежьей Башни сказал мне как-то, что если скрестить боевого пса с волчицей, то получится опасный, свирепый и непокорный зверь, равного которому не сыскать. Мы привыкли считать лесных и горных зверей дикими и, как о дикарях, думать о людях, едва оторвавшихся от земли и пришедших в города. На самом же деле некоторых домашних животных отличает еще более лютая злоба – как было бы для нас очевидно, не будь мы столь привычны к ней, – и это несмотря на то что они прекрасно понимают человеческую речь и порой сами способны воспроизводить отдельные слова; так же и в душах мужчин и женщин, чьи предки жили в больших и малых городах еще на заре человечества, гнездится еще худшая скверна. Водалус, в чьих жилах текла чистая кровь тысяч экзультантов – экзархов, этнархов и старейшин, – был способен на жестокость, немыслимую у автохтонов, заполонивших улицы Тракса и не знавших иной одежды, кроме гуанаковых плащей.
Подобно псам, рожденным волчицей (видеть которых мне не приходилось, поскольку они слишком злобны, а потому бесполезны), эти эклектики в результате столь разнокровного родства наследовали исключительную жестокость и необузданность: они становились либо угрюмыми, вероломными и вздорными союзниками, либо свирепыми, хитрыми и мстительными врагами. Во всяком случае, именно так мои подчиненные в Винкуле расписывали мне эклектиков, а ведь последние составляли более половины наших узников.
Ни разу не случалось, чтобы я, встретив мужчину, чья Речь, платье или обычай выдавали в нем иноземца, не задумывался о том, каковы должны быть женщины его народа. Родство всегда существует, поскольку их взрастила единая культура, как дерево едино для листьев, доступных взору, и плодов, спрятанных в его листве. Однако наблюдатель, осмеливающийся предсказывать наружность и вкус плодов на том лишь основании, что видел (на расстоянии) несколько покрытых листьями веток, должен многое знать и о листьях, и о плодах, если не хочет сделаться посмешищем.
Воинственных мужчин порой рождают слабые женщины, но у них могут быть сестры, готовые сравняться с ними в силе и превосходящие их по твердости характера. И вот я, пробиваясь сквозь толпу, в которой почти не замечал иных людей, кроме эклектиков и траксийцев (не сильно, по моему мнению, отличавшихся от жителей Нессуса, разве только меньшей изысканностью манер и одежды), поймал себя на том, что мечтаю о темноглазых, смуглых женщинах, женщинах, чьи гладкие блестящие волосы так же густы, как гривы пегих лошадей, на которых ездят их братья; женщинах, чьи лица одновременно и суровы, и нежны; женщинах, способных яростно сопротивляться и мгновенно уступать; женщинах, которых можно только завоевать и никогда – купить, если на свете еще встречаются такие женщины.
Покинув их объятия, я двинулся в своем воображении туда, где, как я предполагал, находились их жилища – низкие уединенные хижины подле источников, бьющих из каменных расщелин, укромные юрты среди высокогорных пастбищ. Вскоре я почувствовал, что пьянею при мысли о горах, как когда-то пьянел при мысли о море, еще до того, как мастер Палаэмон сообщил мне точное расположение Тракса. Сколь они величественны, эти бесстрастные идолы Урса, вырезанные неведомыми умельцами во времена, древность которых не подвластна разумению; и по сей день они возносят над миром гордые головы, увенчанные блистающими снежными митрами, тиарами и диадемами, глядят на него глазами огромными, как города, и плечи их, словно мантиями, укутаны лесами.
Так я, переодетый горожанином, пробирался по улицам, кишащим людьми и густо пропахшим экскрементами и дешевой стряпней, в то время как мысли мои полнились видениями камня и хрустальных потоков, подобных драгоценным ожерельям.
Теклу, думал я, должно быть, увозили к самым подножиям этих вершин – без сомнения, для того, чтобы спасти от жары в какое-нибудь особенно знойное лето; ведь многие картины, рождавшиеся в моем сознании (казалось бы, сами по себе), могли явиться лишь ребенку. Я видел цветущие цикламены и созерцал их девственно чистые лепестки с непосредственностью, которой взрослому никогда не достичь, если он не опустится на колени; видел пропасти, наводящие такой леденящий ужас, словно само их существование было противно законам природы; видел горные пики столь немыслимой вышины, что казалось, они вовсе не имеют вершин, и мир вечно пребывал в падении с неких недоступных человеческому воображению Небес, которые благодаря этим горам удерживают его в своей власти.
Наконец, пройдя почти весь город насквозь, я приблизился к Замку Копья. Я подождал, пока привратники установят мою личность, после чего мне было позволено взойти на главную башню – как когда-то я поднялся на нашу Башню Сообразности перед расставанием с мастером Палаэмоном.
Тогда я желал попрощаться с единственным известным мне городом и стоял на самой высокой башне Цитадели, которая, в свою очередь, располагалась на самом возвышенном участке Нессуса. Подо мной, насколько хватал глаз, простирался город, а Гьолл зеленел подобно липкому следу, оставленному на карте слизняком; и даже Стена виднелась где-то на горизонте. Тогда я испытал ни с чем не сравнимое высшее блаженство.
Теперешнее мое впечатление было совершенно иным. Я стоял прямо над Ацисом, который скачками несся прямо на меня по скалистым уступам в два, а то и в три раза выше самого высокого дерева. У основания замка он разбивался белоснежной, искрящейся на солнце пеной и исчезал подо мной, чтобы явиться с другой стороны серебряной лентой, – такой спокойный в плавном своем течении, что напомнил мне о кукольных деревеньках в ящике, который я получил когда-то (это во мне говорила Текла) на день рождения.
И все-таки меня не покидало ощущение, будто я стою на дне огромной чаши. Со всех сторон высились каменные стены, и, когда я глядел на них, в иные минуты казалось, что некий чародей разрушил законы гравитации, перемножив таинственные числа, и мир повернулся под прямым углом к себе прежнему, а эти высоты были на самом деле его поверхностью.
Одна стража сменялась другой, а я все смотрел на горные стены, наблюдал за тонкими, как паутина, нитями водопадов, устремлявших вниз свои гремящие воды, чтобы в порыве слепой страсти слиться с Ацисом; я смотрел на заплутавшие среди скал облака, которые кротко прижимались к их неподатливым краям, словно напуганные, встревоженные овцы на каменном пастбище.
Наконец великолепие вершин и мои горные грезы утомили меня или скорее одурманили; у меня закружилась голова, и, даже закрывая глаза, я продолжал видеть эти безжалостные пики. Я понял, что отныне обречен каждую ночь падать во сне в эти пропасти и, царапая в кровь пальцы, карабкаться по бесконечным скалам.
Я ощутил искреннее желание увидеть город и повернулся; зрелище крепостной башни Винкулы, казавшейся отсюда пристроенным к скале маленьким безобидным кубиком, крапинкой среди мощных каменных валов, успокоило меня. Я разглядывал линии центральных улиц, задавшись целью (игра помогала мне очнуться от долгого созерцания гор) отыскать те, по которым я шел к замку, и рассмотреть в новой перспективе здания и базарные площади, виденные мною по дороге. Взглядом я отыскал базары – их, обнаружил я, было в городе два, по одному на каждом берегу реки; знакомые объекты, которые я привык видеть из бойницы в Винкуле, – арена, пантеон, палаты архона смотрелись отсюда совсем по-другому. Когда я со своей новой, выгодной позиции обозначил для себя все, что видел на улицах, и убедился, что уяснил для себя пространственное отношение места, в котором находился, к известному мне плану города, я принялся изучать мелкие улочки: следовал глазами по их запутанным лабиринтам, вьющимся до самых горных вершин, вглядывался в узкие аллеи – темные полосы между рядами домов.
Наконец они вывели меня назад, к набережной Ациса, и я принялся рассматривать пристань: склады, пирамиды бочек, ящиков и тюков, ожидающих погрузки на борт какого-нибудь судна. Здесь река текла спокойно и только у границы с пирсом слегка пенилась. Цвет воды был густо-синий, и, подобно таким же синим бликам на снегу в морозный вечер, она скользила, зябко извиваясь в мнимом смирении; однако поспешное движение каиков и груженых фелюг свидетельствовало о стремительных потоках, таившихся под безмятежной поверхностью, и команды гребцов размахивали веслами, как фехтовальщики рапирами, сражаясь с водоворотами, а суда, подобно крабам, упрямо разворачивались поперек реки.
Когда я осмотрел ниже по течению все, что было доступно взору, я перегнулся через парапет, чтобы взглянуть на верхний участок реки и на верфь, находившуюся не далее сотни шагов от крепостных ворот. Наблюдая за портовыми рабочими, разгружавшими речную баржу, я заметил неподвижно сидящее неподалеку от них белокурое хрупкое существо. Я было подумал, что это ребенок, – рядом с мощными, почти нагими телами грузчиков оно казалось таким маленьким; но нет, это была Доркас. Она сидела у самой кромки воды, закрыв лицо руками.