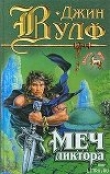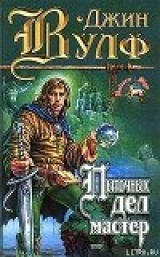
Текст книги "Пыточных дел мастер"
Автор книги: Джин Родман Вулф
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
Глава 32
Пьеса
Лишь после этого видения осознал я свою любовь к Доркас. Мы пошли вниз по дороге, пролегавшей через вершину холма, в темноту. Мысли наши были полностью поглощены увиденным, и души наши, пройдя через те несколько секунд, точно сквозь дверь, никогда прежде не открывавшуюся и захлопнувшуюся навеки, соединились без помех.
Я не знаю, куда мы шли. Помню лишь дорогу, петлявшую по склону холма, арчатый мост у подножия и еще одну дорогу, огражденную на протяжении лиги переносной деревянной оградой. И, куда бы мы ни направлялись, говорили мы не о себе, но только о нашем видении и его возможных значениях. В начале нашего пути Доркас была для меня лишь случайной попутчицей, которую я желал и жалел, в конце же его я любил ее так, как не любил ни одно человеческое существо. Нет, вовсе не оттого, что любовь моя к Текле уменьшилась – напротив, полюбив Доркас, я полюбил Теклу еще больше, ибо Доркас стала моим вторым «я» ведь и Текл было словно бы две – одна столь же ужасна, сколь прекрасна другая) и полюбила Теклу вместе со мною.
– Как ты думаешь, – спросила она, – кто-нибудь, кроме нас, видел это?
Я еще не думал об этом, но ответил, что, хотя здание было видно всего лишь мгновение, произошло все над величайшим из городов, и, если даже десятки миллионов людей не заметили его, сотни все равно обратили внимание.
– Но что, если это – видение, предназначенное только нам?
Доркас, у меня прежде никогда не бывало видений. А я и не знаю, бывали ли видения у меня. Когда я пытаюсь вспомнить, что было с мной до того, как я помогла тебе выбраться из воды, то вспоминаю лишь, будто была под водою сама. А до того – только яркие, мельчайшие осколки миража. Наперсток, лежащий на куске бархата, тявканье собачонки за дверью… Ничего подобного. Ничего похожего на то, что мы видели с тобой.
Слова ее напомнили мне о записке, которую я, собственно говоря, и искал, когда нащупал Коготь, а она, в свою очередь, о книге в коричневом переплете, хранившейся в соседнем отделении ташки. Я спросил Доркас, хочет ли она взглянуть на книгу, принадлежавшую Текле, когда мы найдем подходящее место для привала.
– Да, – отвечала она. – Когда мы снова будем сидеть у огня, как в той харчевне…
– Эта реликвия – мы, конечно, вернем ее Пелеринам перед уходом из города – и наш разговор напомнили мне то, о чем я читал однажды. Ты знаешь о Ключе к Мирозданию?
Доркас тихо засмеялась.
– Нет, Северьян. Я едва помню собственное имя – что я могу знать о Ключе к Мирозданию?
– Нет, я, пожалуй, неверно выразился. Знакома ли тебе идея, будто на свете есть тайный ключ к мирозданию? Фраза, сочетание слов, или, как говорят некоторые, всего одно слово, которое якобы могут исторгнуть уста некоей статуи, или же его можно прочесть в старинном пергаментном свитке, или узнать от анахорета, живущего за далекими морями?
– Его знают младенцы, – сказала Доркас. – Знают до того, как выучатся говорить. А выучившись, забывают. Однажды мне кто-то говорил об этом.
– Да, именно это я и имел в виду. В коричневой книге собраны древние мифы, и есть целый раздел, где перечислены все ключи к мирозданию – все то, что люди якобы узнавали от мистагогов с далеких миров, или вычитывали из волшебного пополь-вуха, или получали в озарении, постясь в дуплах священных деревьев… Мы с Теклой читали их и говорили о них, и суть одного из этих ключей была в том, что все на свете имеет три ипостаси, три смысла. Первая – практическая, как сказано в книге, «доступная взору оратая». Вот корова жует пучок травы, и трава реальна, и корова реальна; эта ипостась мира столь же важна и истинна, как и все остальные. Вторая – отображение мира в самом себе. Каждый предмет имеет связь со всеми прочими, и посему мудрый может из наблюдений над одним предметом извлечь знание обо всех остальных. Это называется ипостасью ворожей – именно ею пользуется тот, кто предсказывает удачную встречу по змеиным следам на песке или пророчит счастье в любви, если поверх патронессы одной масти выпадет курфюрст другой.
– А третья? – спросила Доркас.
– Третья ипостась – воплощение Панкреатора. Поскольку все в мире берет свое начало в Панкреаторе и им же приводится в движение, весь мир есть воплощение его воли. В этом – реальность высшего порядка.
– Выходит, то, что мы видели, – небесное знамение? Я покачал головой.
– В книге сказано, будто небесным знамением является все вокруг нас. И столб в этой ограде, и то, как ветви того дерева нависают над ней… Некоторые из знамений выражают эту третью ипостась с большей готовностью, нежели прочие.
Шагов сто после этого мы прошли в молчании. Затем Доркас заговорила:
– Пожалуй, если то, что написано в книге шатлены Теклы, правда, то у людей все наоборот. Мы видели, как огромное здание взмыло в воздух и пропало, верно?
– Я видел лишь, как оно висело над городом. Оно в самом деле взлетало вверх?
Доркас кивнула. Светлые волосы ее блеснули в свете луны.
– По-моему, третья, как ты говорил, ипостась – очевидна. Вторую найти труднее, а первую – казалось бы, самую простую – вовсе невозможно.
Я хотел сказать, что понимаю ее – по крайней мере, насчет первой ипостаси, но тут в некотором отдалении от нас раздался грохот – раскатистый, точно гром.
– Что это?! – воскликнула Доркас, схватив меня за руку.
Прикосновение ее маленькой, теплой ладони оказалось очень приятным.
– Не знаю. Похоже, это – за той рощицей впереди.
– Да, – кивнула она, – теперь я слышу голоса.
– Значит, твой слух острее моего.
За рощицей снова загрохотало – еще громче и продолжительнее прежнего. Впрочем, наверное, мы просто подошли ближе. Мне показалось, что сквозь заросли молодых буков пробивается свет огней.
– Вон там! – Доркас указала куда-то чуть севернее деревьев. – Это не звезда – слишком низко и слишком быстро движется.
– Наверное, фонарь. На крыше фургона или в чьей-то руке.
Грохот возобновился, и на этот раз я узнал в нем барабанную дробь. Теперь и я слышал голоса, и один из них звучал еще басовитее и, пожалуй, громче, чем барабан.
Обогнув рощу, мы увидели с полсотни человек, собравшихся вокруг небольшого помоста. На помосте, меж двух пылающих факелов, возвышался великан, державший под мышкой, на манер тамтама, литавру. Справа от него стоял богато одетый человек небольшого роста, а слева – самая чувственная и прекрасная из всех виденных мною женщин, почти нагая.
– Что ж, все в сборе, – громко и быстро говорил маленький человек. – Все в сборе. Кто у нас тут? Любовь и красота? – Он указал на женщину. – Сила? Храбрость? – Взмах тростью в сторону великана. – Хитрость? Таинственность? – Он ударил себя в грудь. – Порок? – Снова жест в сторону великана. – И… взгляните-ка, кто к нам пожаловал! Наш старый враг, Смерть! Рано ли, поздно, но он приходит обязательно!
С этими словами он указал на меня, и лица публики – все как одно повернулись в нашу сторону.
То были Балдандерс с доктором Талосом. Что же они, вездесущи? Женщину, насколько мне помнилось, я видел впервые.
– Смерть! – говорил доктор Талое. – Смерть явилась к нам! Вчера и сегодня я думал, что ты не придешь никогда! Извини, старый друг, ошибся!
Я ждал, что публика рассмеется его мрачноватой шутке, но – нет. Два-три человека что-то пробормотали себе под нос, какая-то старуха плюнула в ладонь и двумя пальцами указала на землю.
– Кого же привел он с собой? – Доктор Талое подался вперед, рассматривая Доркас в свете факелов. – Ну конечно, Невинность! Вот теперь и вправду все в сборе! Представление вот-вот начнется! Нервных просим не смотреть! Никогда в жизни не видели вы ничего подобного! Все в сборе! Все на местах!
Тем временем прекрасная женщина исчезла. Магнетизм в голосе доктора был столь силен, что я даже не заметил ее ухода.
Опиши я сейчас пьесу доктора Талоса такой, какой она показалась мне, одному из участвовавших в представлении, вы просто не поймете ничего. Если же я опишу ее так, как видела ее публика (что я и намерен сделать, ибо для данного повествования так будет правильнее), вы мне, наверное, не поверите. В драме сей, представленной силами пяти человек, двое из которых выступали впервые и даже не знали ролей, маршем шли армии, играли оркестры, падал снег и сам Урс содрогался. Да, доктор многого требовал от воображения зрителей, но призвал себе на помощь комментарии, простую и действенную механику, тени-силуэты, падавшие на экран, голографические проекторы, шумовые эффекты, зеркальные задники и прочие доступные сценические средства, и в целом удивительно преуспел, о чем свидетельствовали рыдания, вопли и вздохи, время от времени доносившиеся до нас из темноты.
И все же он потерпел поражение. Ему хотелось общения, он жаждал поведать публике великую историю, существовавшую лишь в его голове и неспособную воплотиться в простые слова, однако ни один зритель (а уж тем более – мы, двигавшиеся по сцене и говорившие по его указке) так и не понял толком, о чем она. Это (как говорил доктор Талое) можно было бы выразить лишь колокольным звоном, грохотом взрывов да – порой – ритуальными позами. Но под конец оказалось, что даже этих средств недостаточно. Там была сцена, в которой доктор Талое дрался с Балдандерсом, пока они не разбили лица друг друга в кровь; была сцена, в которой Балдандерс разыскивал объятую ужасом Иоленту (так звали прекраснейшую из женщин) в залах подземного дворца, и в конце концов сел на крышку сундука, в котором она пряталась. В заключительной части сцена превратилась в комнату для допросов, Балдандерс, доктор и Доркас с Иолентой были привязаны к разнообразным пыточным конструкциям, и каждого из них я – на глазах затаившей дыхание публики – подверг пыткам, столь же экзотичным, сколь и неэффективным, если применить их на деле. В этой сцене я не мог не заметить, как странно заропотала публика, когда я готовился якобы вывернуть из суставов ноги Доркас. Я не знал, что зрителям полагалось увидеть, как Балдандерс освобождается от оков. Цепь его с лязгом упала на помост, несколько женщин завизжали. Я украдкой оглянулся на доктора в ожидании указаний, но он, освободившись еще раньше Балдандерса, уже прыгнул к краю помоста.
– Табло! – крикнул он. – Табло!. Я уже знал, что это означает, и замер на месте.
– Почтеннейшая публика! Сколь восхитительно внимание, коим почтили вы наше представление! Теперь мы покорнейше просим поделиться с нами не только вашим драгоценным временем, но и содержимым ваших кошельков! В заключительной части пьесы вы увидите, что случится дальше, после того, как чудовище, наконец, вырвалось на свободу!
Доктор протянул к публике свою высокую шляпу, и в нее со звоном упали несколько монет. Не удовлетворившись этим, он спрыгнул в публику и пошел по рядам.
– Помните: чудовище на свободе, и теперь ничто не мешает удовлетворению его звериных желаний! Помните, что я, его мучитель, ныне связан и отдан ему на милость! Помните, что вы еще не раскрыли – благодарю тебя, сьер! – тайны загадочной фигуры, мелькнувшей в окне перед взором Графини! Спасибо. Помните, что там, над подземельем, которое сейчас перед вами, плачущая статуя – спасибо – все еще роет землю под корнями рябины! Ну же! Вы щедро поделились с нами своим временем – не скупитесь же, когда дело дошло до денег! Некоторые воистину проявили щедрость, но ведь мы представляем для всех! Где же серебряные азими, что дождем должны сыпаться в мою старую шляпу?! Не заставляйте троих платить за всех! У кого нет азими, сойдет и орихальк, а уж аэс-то найдется в каждом кармане!
В конце концов доктор удовлетворился собранным и, быстро вернувшись на место, скользнул в свои путы, которыми якобы накрепко был привязан к доске, усеянной острыми шипами. Балдандерс заревел и потянулся ко мне, выставив на обозрение публики вторую цепь, удерживавшую его на месте.
– Заметь его, – шепнул мне доктор Талое. – Отбивайся факелом.
Я сделал вид, будто только сейчас заметил, что руки Балдандерса свободны, и выдернул из гнезда в углу сцены факел. В тот же миг оба факела страшно зашипели, вспыхнули голубым и зеленым пламенем, осыпали сцену снопами искр, но огонь тут же приугас, языки его съежились до обычного размера. Я ткнул факелом в Балдандерса и, повинуясь указаниям доктора, закричал:
– Нет! Назад! Назад!
Балдандерс отвечал еще более яростным ревом. Цепь натянулась так, что декорация, к которой он был прикован, пошатнулась и заскрипела. На губах его – в буквальном смысле – выступила пена: две струйки густой белой жидкости потекли из уголков рта по подбородку, оросив белыми, точно снежные хлопья, каплями его костюм черного со ржавчинкой цвета. В публике завизжали. Цепь разорвалась со звуком хлопающего бича. Безумие в лице великана повергало в ужас, и я скорее попробовал бы остановить лавину в горах, чем встал бы на его пути, но не успел я и шагу ступить, как он вырвал из моей руки факел и сбил меня с ног его железной рукоятью.
Я поднял голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как он выхватил из гнезда второй факел и с обоими шагнул к краю помоста. Женский визг утонул в воплях мужчин – точно сотня палачей разом принялась за сотню пациентов. Вскочив на ноги, я было ринулся к Доркас, чтобы схватить ее и бежать под прикрытие рощи, но тут увидел доктора Талоса. Он, исполненный злобного веселья ~ иначе это не назовешь – уже вновь освободился от пут и развлекался вовсю. Иолента высвободилась тоже, и прекрасное лицо ее не выражало ничего, кроме облегчения.
– Замечательно! – воскликнул доктор Талое. – Прекрасно! Балдандерс, можешь вернуться, незачем держать нас впотьмах. Что ж, господин палач, понравился ли тебе сценический дебют твоей девушки? Для новичков – да еще без репетиций – вы выступили прекрасно!
Я как-то ухитрился кивнуть.
– Вот только, когда Балдандерс сбил тебя с ног… Ты должен простить его – он понимал, что ты не догадаешься упасть сам. Идем. Балдандерс наделен множеством талантов, но дара разыскивать среди травы потерянное в суматохе среди них не значится. За сценой есть фонари, и вы с Невинностью поможете нам.
Я не понял, о чем он, но через несколько мгновений факелы были водружены на место, и мы принялись обыскивать утоптанную землю перед помостом при свете тусклых фонарей.
– Здесь имеется элемент риска, – объяснил доктор Талое, – и мне это, должен признаться, нравится. Сбор денег – вещь верная; к концу первого акта я могу предсказать, сколько окажется в шляпе, с точностью до орихалька. Но вот оброненное на землю!.. Мы можем найти всего-то пару яблок да репку, а может статься, находки превзойдут самые смелые мечты! Однажды мы нашли маленького поросенка. Отменного – так сказал Балдандерс, поедая его. А однажды мы нашли маленького младенчика. Раз попалась трость с золотым набалдашником – она до сих пор со мною. Старинные броши, туфли… Туфли нам попадаются особенно часто. А вот женский зонтик… – Он поднял находку. – Очень пригодится завтра, в дороге, дабы укрыть от солнца нашу добрую Иоленту.
Иолента выпрямилась, словно усердно изживая привычку сутулиться. При этом спина ее изогнулась назад, словно для того, чтобы уравновесить тяжесть полных грудей.
– Я очень устала, доктор, – сказала она. – Если мы пойдем ночевать в гостиницу, идем сейчас же! Я и сам валился с ног от усталости.
– Ночевать? В гостиницу? Какое преступное разбазаривание средств! Подумай, дорогая моя: ближайшая гостиница, самое меньшее, в лиге отсюда, а собирая помост и прочие пожитки, мы с Балдандерсом провозимся не меньше стражи, даже при помощи дружественного нам Ангела Смерти. Таким образом, когда мы доберемся до гостиницы, солнце взойдет над горизонтом, запоют петухи, не менее тысячи разных дурней проснутся, примутся хлопать дверьми, выплескивать на мостовую помои…
Балдандерс хрюкнул (видимо, в знак согласия) и топнул ногой, точно хотел раздавить какую-нибудь мелкую, ядовитую тварь, прятавшуюся в траве.
Доктор Талое распростер руки в стороны, как бы обнимая все мироздание.
– Здесь же, дорогая моя, под звездами, каковые есть личная и нежно любимая собственность Предвечного, у нас есть все, что только может потребоваться для здорового отдыха. Воздух достаточно прохладен, чтобы спящие как следует оценили теплые одеяла и согревающий огонь костра; и, заметь, ни намека на дождь. Здесь встанем мы лагерем, здесь назавтра устроим роскошный завтрак, отсюда вновь отправимся в путь – обновленными, радуясь наступлению нового дня!
– Кстати о завтраке, – сказал я. – У вас есть какая-нибудь еда? Мы с Доркас голодны.
– Конечно! Я видел – Балдандерс только что нашел целую корзину ямса.
Должно быть, среди «почтеннейшей публики» сегодня оказалось немало крестьян, возвращавшихся с рынка с нераспроданным товаром. Кроме ямса мы в конце концов обнаружили еще пару сквобов и с десяток стеблей молодого сахарного тростника. Одеял оказалось немного, но все же это было лучше, чем ничего. Доктор Талое заявил, что ему постель не требуется – он посидит у огня, а позже, быть может, вздремнет в кресле, незадолго до того служившем троном Автарха и скамьей Инквизитора.
Глава 33
Пять ног
Наверное, целую стражу я не мог заснуть. Вскоре сделалось очевидно, что доктор Талое и вправду не собирается спать, но я не терял надежды, что он – в силу каких-нибудь причин – хотя бы удалится на время. Сначала он сидел у огня, словно бы в глубокой задумчивости, затем встал и принялся расхаживать из стороны в сторону. Лицо его было неподвижно, но весьма выразительно легкое движение брови или наклон головы могли совершенно изменить его выражение. Пока он гулял у костра, я видел сквозь полусомкнутые веки, как печаль лисьей маски его лица сменялась ликованием, тут же уступавшим место вожделению, сменявшемуся скукой, или решимостью, или же одной из дюжин других эмоций, которым мне не подыскать названий.
Наконец он начал сшибать тростью головки диких цветов и вскоре обезглавил их все на десяток шагов от костра. Я подождал, пока его прямая, энергическая фигура не скроется из виду, а свист трости станет почти не слышен, и тогда осторожно извлек из ташки камень.
Он озарил ночь, точно звезда, упавшая с неба мне в ладонь. Доркас уже спала, и, как ни хотелось рассмотреть самоцвет вместе с нею, я не стал тревожить ее сон. Холодное голубое сиянье было столь ярким, что я боялся, что доктор, как бы далеко ни забрел, может заметить его. В голову пришла по-детски озорная идея взглянуть сквозь камень на пламя костра, словно сквозь линзу, и я приставил его к глазу, но тут же опустил вновь – привычный мир с фигурами спящих в траве мгновенно превратился в сноп бешено пляшущих искр.
Не помню, сколько лет было мне, когда умер мастер Мальрубиус. Во всяком случае – задолго до того, как я стал капитаном; выходит, я был еще совсем мал. Однако прекрасно помню, как мастер Палаэмон заменил его на посту наставника учеников. Мастер Мальрубиус занимал эту должность с тех самых пор, как я узнал, что на свете существуют подобные вещи, и после смерти его мне многие недели – а, может, и месяцы – казалось, что мастер Палаэмон (хотя его я любил едва ли не больше) не сможет стать нашим наставником в том же смысле, в каком был им мастер Мальрубиус. Нереальность происходящего путаница в мыслях усугублялись еще ощущением, будто мастер Мальрубиус вовсе не умер и даже не ушел от нас, что на самом деле он просто лежит в своей каюте, в той же кровати, где спал каждую ночь, пока обучал и наставлял нас. Есть такая поговорка: «С глаз долой – из сердца вон», – но в данном случае выходило наоборот: сделавшись незримым, присутствие мастера Мальрубиуса стало куда более ощутимым, чем прежде. Мастер Палаэмон отказывался подтвердить, что он в самом деле никогда не вернется, и посему каждое деяние свое я мерил двойною мерой: «Разрешит ли мастер Палаэмон?» и «Что сказал бы мастер Мальрубиус?» (Он так ничего и не сказал… Палач не пойдет в Башню Исцеления, как бы ни захворал. Говорят – не знаю, правду ли, нет ли, – будто виною тому старые счеты.) Если бы я писал все это для развлечения или же в назидание читателю, то не стал бы здесь отвлекаться на описание мастера Мальрубиуса, к тому моменту, как я спрятал Коготь обратно в ташку, давным-давно обратившегося во прах. Но у исторического повествования – свои нужды. Я мало разбираюсь в литературной стилистике, но обучаюсь по ходу дела и нахожу, что ремесло сие не так уж отличается от моего прежнего.
Десятки и сотни людей приходят смотреть на казнь. Я видел, как под тяжестью зрителей рушились балконы, одним ударом убивавшие больше народу, чем я за всю свою карьеру. Эти десятки и сотни людей вполне можно уподобить тем, кто читает книги.
Но, кроме зевак, наблюдающих казнь, имеются и другие, кто также должен быть удовлетворен. Это – представители власти, от имени которой действует палач, это – те, кто платит палачу, чтобы смерть приговоренного оказалась легкой (или мучительной), и, конечно же, сам палач.
Зрители останутся довольны, если казнь пройдет без проволочек; если последнее слово приговоренного будет сочетать в себе краткость и красноречие; если занесенный клинок на миг задержится, сверкая в солнечных лучах, прежде чем опустится, и им будет предоставлена возможность затаить дыхание, подталкивая друг дружку локтями; и, наконец, если струя крови после отделения головы будет достаточно впечатляющей. Так же и вы, кто придет однажды в библиотеку мастера Ультана, потребуете от меня спорого, без проволочек, хода повествования; персонажей, которым позволено говорить лишь кратко, но красноречиво; драматических пауз, означающих, что вот-вот случится нечто важное; возбуждения чувств и достаточного количества крови.
Власти – хилиархи и архоны, от имени коих выступает палач, останутся (если позволите мне продолжить сию фигуру речи) довольны, если приговоренный не сможет спастись бегством или же взбунтовать толпу и в заключительной части процедуры будет неоспоримо мертв. Они подобны импульсам, побуждающим меня к писанию и требующим, чтобы главный предмет работы оставался во главе угла, а не сбежал в предисловие, алфавитный указатель или вовсе в другую книгу; чтобы он не затерялся среди риторики; и чтобы завершающий работу вывод оказался удовлетворительным.
Тех же, кто платит казнедею, дабы он сделал смерть приговоренного безболезненной или мучительной, можно уподобить литературным традициям и общепринятым схемам, которые взывают ко мне, требуя следовать им. Помню, однажды, ненастным зимним днем, когда ледяные струи дождя стучали в окна нашей классной комнаты, мастер Мальрубиус – очевидно, поняв, что мы не в настроении для серьезной работы, или же и сам будучи в не подходящем для нее расположении духа – поведал нам о некоем мастере Веренфриде из нашей гильдии, жившем в старые времена. Оказавшись в жестокой нужде, он принял плату и от врагов осужденного, и от его друзей, но мастерство его было столь высоко, что обе партии, стоявшие по разные стороны эшафота, остались вполне довольны увиденным. Таким же образом и враждебные партии литературных традиций навязывают свои мнения тому, кто пишет исторические повествования – будь он хоть самим Автархом. Одни желают легкости, другие – богатства ощущений, доставленных процедурой… чтения. И мне, отнюдь не наделенному мастерством мастера Веренфрида, предстоит разрешить ту же дилемму, что и ему. В этом я и стараюсь преуспеть.
Что же остается? Сам казнедей; то есть я. Ему вовсе не достаточно всеобщих похвал. Недостаточно и того, что казнь свершена по всем правилам, согласно всем требованиям наставников и древних традиций. В довершение ко всему, дабы ощутить полное удовлетворение собою, когда настанет миг и Время поднимет за волосы на потеху толпе его собственную седую голову, он должен сообщить процедуре некую – пусть мельчайшую – черточку, изобретенную им самим и никогда не повторяемую дважды. Только тогда он может чувствовать себя свободным художником.
В ту ночь, когда я делил постель с Балдандерсом, мне снился странный сон, и я без колебаний изложил его в своем повествовании: пересказ снов вполне укладывается в литературные традиции. А в то время, которое я описываю сейчас, когда мы с Доркас спали под звездным небом в обществе Балдандерса, Иоленты и доктора Талоса, сидевшего у огня, я видел нечто меньшее – а может, и большее, – чем просто сон. Это уже выходит за рамки традиций, посему я заранее предупреждаю вас, своих будущих читателей, что это не имеет почти никакого отношения к событиям, которые последуют вскоре, и я пересказываю его лишь ради собственного удовольствия. Впрочем, все-таки он, войдя в мое сознание и оставшись в нем навек, несомненно, оказал определенное влияние на последующую часть повествования…
Надежно спрятав Коготь, я вытянулся на одеяле у костра. Голова Доркас покоилась близ моей, ноги Иоленты едва не касались моих ног, а Балдандерс лежал по другую сторону костра, и толстые подошвы его башмаков находились в опасной близости от тлевших углей. Возле его плеча, спинкой к костру, стояло кресло доктора Талоса. Не знаю, вправду ли сидел он в нем, вглядываясь в ночь; в то время, что будет описано ниже, я порой ощущал его присутствие, а порой чувствовал, что его нет. По-моему, уже начинало светать – небо сделалось чуть светлее.
Шаги, достигшие моих ушей – тяжелые, однако мягкие, – почти не потревожили моего сна. Затем услышал я и дыханье – сопение зверя. Глаза мои были еще открыты, однако, скованный сном, я даже не повернул головы. Приблизившись, зверь обнюхал мое лицо и одежду. То был Трискель, тут же улегшийся рядом и прижавшийся ко мне спиной. Я не удивлялся, что он сумел отыскать меня, – помню лишь, что обрадовался этому.
Вскоре я снова услышал шаги – на сей раз это была медленная, твердая поступь человека. Я тут же вспомнил звуки шагов мастера Мальрубиуса, вместе с нами спускавшегося в темницы во время обхода камер, и понял, что это – он. Плащ его был в пыли – как всегда, кроме самых торжественных случаев, – и он, как обычно, закутался в него, усевшись на ящик с декорациями.
– Северьян, перечисли мне семь основ правления. Говорить оказалось трудно, однако (во сне, если это был сон) я умудрился раскрыть рот:
– Не помню, чтобы мы изучали эти вещи, мастер.
– Ты всегда был самым беззаботным из моих мальчиков…
Он погрузился в молчание, и я, точно в озарении, почувствовал, что должен ответить, иначе произойдет нечто ужасное.
– Анархия… – неуверенно начал я.
– Сие есть отсутствие какого бы то ни было правления. Анархия предшествует любой форме правления, я учил вас этому в классе. Перечисли же семь основ.
– Преданность персоне правителя. Преданность династии либо иному порядку преемственности. Преданность правящему сословию. Преданность кодексу, регулирующему принципы правления. Преданность единственно закону. Преданность большей или меньшей совокупности выборщиков, являющихся творцами закона. Преданность абстракции, объединяющей в себе совокупность выборщиков, совокупности лиц, их избравших, и ряду прочих элементов, большей частью – идеального свойства.
– Терпимо. Какая же – самая ранняя меж ними, а какая – высшая?
– Основы правления перечислены в хронологическом порядке, мастер. Но прежде ты не спрашивал, какая из них – высшая.
Мастер Мальрубиус склонился ко мне. Глаза его пылали ярче углей костра.
– Какая меж ними – высшая, Северьян?
– Последняя, мастер?
– То есть преданность абстракции, объединяющей в себе совокупность выборщиков, совокупности лиц, их избравших, и ряду прочих элементов, большей частью – идеального свойства?
– Да, мастер.
– Какого же рода, Северьян, твоя собственная преданность Божественной Сущности?
Я молчал. Быть может, размышлял – но, если так, сознание мое, объятое сном, не могло проследить хода мысли. Вместо того оно целиком сосредоточилось на реалиях окружающего мира. Небо надо мною, во всем его величии,.казалось, было сотворено единственно ради меня и теперь выставлено передо мною, дабы я мог осмотреть его. Я лежал на земле, точно на женщине, и самый воздух вокруг был восхитителен, словно тонкий хрусталь, и игрист, точно вино.
– Отвечай же, Северьян.
– Первого. Если она вообще имеется.
– То есть это – преданность личности правителя?
– Да, так как преемственности здесь нет.
– Животное, лежащее подле тебя, отдаст за тебя жизнь. Какого рода его преданность тебе?
– Первого?
Ответом мне было молчание. Я сел. Мастер Мальрубиус исчез. Исчез вместе с ним и Трискель – лишь бок мой еще хранил тепло его тела.