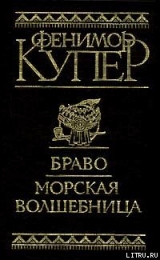
Текст книги "Браво, или В Венеции"
Автор книги: Джеймс Фенимор Купер
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– О, если бы я мог встретиться с этими почтенными отцами! Я уверен, что тогда мое справедливое требование было бы очень скоро удовлетворено.
– ч Это невозможно! – печально сказал сенатор. – Имена этих августейших особ содержатся в тайне, чтобы их величие не было запятнано низменными интересами. Они правят так же невидимо, как мозг управляет мышцами; они, так сказать, душа государства, и, как всякую душу, их невозможно увидеть.
– Я выразил свое желание скорее как мечту, без всякой надежды на его исполнение, – ответил герцог святой Агаты, надевая плащ и маску, которые он, войдя, снял и положил под рукой. – Прощайте, благородный синьор. Я не перестану убеждать кастильца советами, а в награду за ото я буду надеяться на справедливость патрициев и ваше доброе ко мне отношение.
Синьор Градениго с поклонами проводил гостя через анфиладу комнат до самой прихожей и там отдал его на попечение слуги.
"Необходимо заставить его действовать более энергично, а для этого нужно всячески ставить ему палки в колеса. Тот, кто хочет добиться милостей республики, должен прежде заслужить их, проявив усердие и преданность”. – Так размышлял синьор Градениго, медленно возвращаясь в свой кабинет, после того, как церемонно проводил гостя.
Закрыв за собой дверь, он снова начал шагать по маленькой комнате с видом человека, погруженного в тревожные размышления. С минуту в кабинете царила глубокая тишина, но вот осторожно отворилась дверь, скрытая портьерами, и в комнату заглянул новый посетитель.
– Входи, – сказал сенатор, не выказывая удивления, – твое обычное время уже прошло, я жду тебя.
Развевающееся платье, почтенная седая борода, благородные черты лица, быстрый, жадный и подозрительный взгляд и то особое выражение лица, которое, казалось, в равной степени отражало практический ум и подобострастие человека, привыкшего к грубости и презрению людей, – все обличало в этом человеке ростовщика с Риальто.
– Входи, Осия, и излей свою душу, – продолжал сенатор, видимо давно привыкший выслушивать сообщения старика. – Слышал что-нибудь новое насчет благополучия народа?
– Благословен народ, о коем так по-отечески заботятся! Может ли быть причинено добро или зло гражданину республики, благородный синьор, без участия или сострадания сената, который подобен отцу, заботящемуся о своих детях! Счастлива страна, где люди почтенного возраста, убеленные сединой, бодрствуют до той поры, когда ночь уступает место дню и забывают усталость в своем стремлении делать добро и почитать государство!
– Ты выражаешься с восточной цветистостью твоей страны, добрый Осия, и, вероятно, забываешь, что находишься не на пороге храма… Ну, а что интересного случилось за минувший день?
– Скажите лучше – за ночь, синьор, потому что все то немногое, что заслуживает вашего внимания, случилось с наступлением ночи.
– Уж не убийство ли кинжалом на мосту? Ха! Или люди в этот раз веселились меньше, чем обычно?
– Никто не умер насильственной смертью, и площадь брызжет соком веселья, как благоухающие виноградники Энгеди. Святой Авраам! Что может сравниться по веселью с Венецией! Как упиваются этим весельем сердца старых и молодых! Кажется, достаточно установить купель в синагоге, чтобы стать свидетелем радостного отречения от своей веры ради народа этих островов! Я не надеялся иметь честь увидеть вас сегодня, синьор, и я уже закончил свою вечернюю молитву, собираясь лечь спать, когда посыльный от Совета принес мне драгоценное кольцо с приказом расшифровать герб и другие эмблемы, дабы узнать его владельца. Такие кольца обычно посылают в подтверждение личности его хозяина.
– Кольцо с тобой? – спросил сенатор, протягивая руку.
– Вот оно. Прекрасный камень, драгоценная бирюза…
– Где нашли это кольцо? И почему его прислали тебе?
– Его нашли, синьор, насколько я мог понять больше из намеков, чем из слов посыльного, в одном месте, вроде того, откуда спасся благодаря своему благочестию праведный Даниил.
– Ты имеешь в виду Львиную пасть?.
– Так говорят об этом пророке наши древние книги, синьор, и на это намекал посланец Совета, вручая мне кольцо.
– Здесь нет ничего, кроме шлема с гребнем, какие носят наездники… Оно принадлежит кому-нибудь из венецианцев?
– Да поможет мудрый Соломон своему слуге разобраться в таком тонком деле! Камень этот редкой красоты, мало кто владеет такими, кроме тех, у кого полно золота. Посмотрите только на его мягкий блеск, благородный синьор, и заметьте, как переливаются краски!
– О.., прекрасно! Но чей же это девиз?
– Уму непостижимо, какое огромное богатство может содержать в себе такое маленькое колечко! Мне приходилось видеть, как за менее драгоценные безделушки платили огромные суммы полновесными цехинами.
– Неужели ты не можешь забыть свою лавчонку и гуляк на Риальто? Я приказываю тебе назвать имя того, кому принадлежит этот герб как доказательство его рода и звания!
– Благородный синьор, я повинуюсь. Герб принадлежит роду Монфорте, последний сенатор из которого умер около пятнадцати лет назад.
– А его драгоценности?
– Они перешли вместе с другим движимым имуществом во владение его родственника и преемника – если, конечно, сенату будет угодно, чтобы у этого стариннейшего рода был преемник, – к дону Камилло, герцогу святой Агаты. Богатый неаполитанец сейчас добивается восстановления своих прав в Венеции, и он теперь владелец этого великолепного камня.
– Дай мне кольцо. Этим делом нужно заняться… Что еще ты хочешь мне сказать?
– Ровно ничего, синьор, кроме просьбы: если кольцо будет конфисковано и пойдет в продажу, можно ли надеяться, что сначала его предложат старому слуге республики, у которого есть много причин сожалеть о том, что дела его идут хуже в старости, чем в юные годы?
– Тебя не забудут. Я слышал, Осия, что некоторые молодые люди благородных фамилий частенько посещают ростовщиков и занимают золото, а потом, промотав его, горько расплачиваются за свои ошибки. В такое положение не пристало попадать наследникам благородных фамилий. Не забудь моих слов, потому что, если недовольство Совета падет на кого-либо из твоего племени, это может вылиться в большую неприятность для всех вас. Но попадались ли тебе за последнее время другие драгоценности, кроме этого кольца неаполитанца?
– Ничего интересного, кроме того, что обычно оставляют в залог, благороднейший синьор, – Посмотри на это, – продолжал синьор Градениго и, порывшись в потайном ящике, вынул оттуда клочок бумаги, к которому был прилеплен кусочек воска. – Не можешь ли ты догадаться по оттиску, кому принадлежит печать?
Ювелир взял бумагу и поднес ее к свету; его горящие глаза тщательно изучали оттиск.
– Это выше мудрости сына Давида! – сказал он после долгого и, очевидно, бесплодного осмотра. – Здесь но что иное, как причудливая эмблема галантности, какие любят употреблять легкомысленные кавалеры Венеции, когда хотят обольстить слабый пол прекрасными словами и соблазнительными приманками.
– Это сердце, пронзенное стрелой амура, и девиз:
"Думай о сердце, пронзенном любовью”.
– И ничего больше, если мои глаза еще служат мне. Я не склонен думать, синьор, что за этими словами скрывается какой-либо иной тайный смысл!
– Может быть. Тебе не приходилось продавать драгоценности с этой эмблемой?
– Праведный Самуил! Мы сбываем их ежедневно, продаем христианам обоих полов и всех возрастов. Я не знаю эмблемы более распространенной, и, выходит, что этот пустяк хорошо служит своей цели.
– Тот, кто воспользовался им, поступил достаточно хитро, скрыв свои тайные мысли под такой обычной маской! Я бы дал сто цехинов в награду тому, кто сумел бы выследить владельца этой печати.
Осия уже хотел было вернуть оттиск и сказать, что он не в силах определить владельца печати, но, услышав последние слова синьора Градениго, сразу изменил свое намерение. Через мгновение глаза его вооружились увеличительными стеклами, равными по силе микроскопу, и бумага с оттиском снова была поднесена к лампе.
– Я продал не очень ценный сердолик с такой эмблемой жене императорского посла, но, думая, что в этой покупке пет ничего, кроме женской прихоти, я не пометил камень. Один господин торговал у меня аметист с такой же надписью, но и этот я тоже не пометил… Ха! А ведь здесь, на оттиске, осталась отметинка, которая, очевидно, была сделана моей рукой!..
– Неужели ты нашел примету? О какой пометке ты говоришь?
– Ни о чем более, благородный сенатор, как о пятнышке на букве, которое не привлекло бы внимания легковерной дамы.
– И кому же ты продал эту печать?
Осия колебался, боясь испортить дело и потерять обещанную награду, назвав имя владельца печати слишком быстро.
– Если это так важно, синьор, – сказал он наконец, – то мне придется заглянуть в свои книги. В таком серьезном деле сенат не должен быть введен в заблуждение.
– Ты прав! Дело действительно серьезное, и награда – доказательство того, как высоко мы ценим эту услугу.
– Вы что-то говорили, благороднейший синьор, о ста цехинах, но, когда дело касается блага Венеции, такие пустяки меня не интересуют.
– Сто цехинов – это обещанная мною сумма.
– Я продал кольцо с печатью, на которой был тот же девиз, женщине, служащей у самого высокого лица из свиты папского нунция 1212
Папский нунций – дипломатический представитель римского папы, в ранге посла.
[Закрыть]. Но эта печать не может быть оттуда, так как женщина ее положения…
– Ты уверен? – с живостью перебил его синьор Градениго.
Осия внимательно посмотрел на своего собеседника и, поняв по выражению его лица, что такой оборот дела вполне подходит, поспешно ответил:
– Так же верно, как то, что я живу по закону Моисееву! Безделушка долго валялась у меня, и я отдал ее за ничтожную цену.
– Ну что ж, цехины твои! Эта тайна разгадана до конца. Иди, ты получишь свою награду и, если найдешь какие-нибудь подробности в своих секретных книгах, без промедления сообщи об этом мне. Ну, ступай, добрый Осия, и будь внимателен, как всегда. Я устал от постоянных размышлений.
Ювелир, в восторге от своих успехов, удалился с хитрым и алчным видом через ту же дверь, в которую вошел.
Теперь как будто приемы этого вечера были окончены. Синьор Градениго тщательно осмотрел замки на нескольких потайных ящиках своего шкафа, потушил лампы, вышел и запер все двери. Некоторое время, однако, он еще шагал из угла в угол в одной из главных приемных комнат своего дома, пока не наступил привычный час отдыха, и дворец заперли на ночь.
Читатель, вероятно, уже составил себе некоторое представление о характере человека, который играл главную роль в описанных сценах. Синьор Градениго родился с теми же зачатками доброты и чуткости, как и все другие люди, но случай и воспитание, полученное в этой пропитанной ложью республике, превратили его в человека изворотливого и хитрого. Венеция казалась ему свободным государством, поскольку он сам широко пользовался преимуществами ее общественного строя; и, хотя он был дальновиден и практичен в повседневной жизни, во всем, что касалось политической жизни страны, проявлял редкостную тупость и беспринципность. Он красноречиво разглагольствовал о честности и добродетели, о религии и правах личности, но, когда приходило время действовать, все эти понятия сводились у него к личным интересам гак же неизменно, как неизменна сила земного притяжения. Как венецианец, он был одинаково против господства одного человека или господства большинства; в отношении первого он был яростным республиканцем, а в отношении последнего был приверженцем того софизма, который провозглашает, что господство большинства – принцип многих тиранов. Короче говоря, он был аристократом; и ни один человек не убеждал себя более старательно и успешно в незыблемости всех догм, которые были благоприятны его касте, чем это делал синьор Градениго. Он был могущественным поборником законных прав, ибо это было выгодно ему самому; он живо интересовался новшествами в обычаях и превратностями в историях старинных семейств, так как предпочитал действовать согласно не принципам, а своим склонностям. И он всегда умел защищать свои взгляды, приводя аналогии из библии. Он утверждал, что раз сам бог учредил такой порядок в мироздании, что ангелы на небе превратились в людей на земле, то можно без опаски следовать этой беспредельной мудрости, и такая философия, видимо, удовлетворяла его. Основы его теории были непоколебимы, хотя применение ее было огромной ошибкой, ибо невозможно представить себе, что какое-либо подобие природы может пытаться вытеснить самое природу.
Глава 7
Луна зашла. Не видно ничего.
Лишь слабая лампада
Мадонну освещает.
Роджерс, “Италия”
К тому времени, когда окончились тайные аудиенции во дворце Градениго, веселье на площади Святого Марка начало заметно спадать. В кафе оставались лишь группы людей, для которых мимолетные шутки и беззаботный смех на площади не составляли веселья; у них было достаточно денег, чтобы веселиться иначе. А те, кому пришлось вернуться к заботам о завтрашнем дне, толпами направились к своим бедным жилищам и жестким подушкам. Однако один из этих бедняков не ушел; он стоял там, где сходились две площади, так неподвижно, словно его босые ноги приросли к камню. Это был Антонио.
Луна освещала мускулистую фигуру и загорелое лицо рыбака. Темные глаза его тревожно и сурово глядели на озаренный луной небосвод, словно рыбак стремился проникнуть взглядом в другой мир в поисках спокойствия, которого не знал на земле. На его обветренном лице застыло страдание, но это было страдание человека, чьи чувства уже притупились, ибо он привык к доле низшего и слабого. Тому, кто считает жизнь и людей лучше, чем они есть на самом деле, он показался бы трогательным примером благородной натуры, страдающей гордо и привыкшей страдать; и в то же время тому, кто принимает преходящие общественные порядки как законы, данные свыше, он бы представился натурой упрямой, недовольной и непокорной, справедливо подавленной властной рукой.
Из груди старика вырвался глубокий вздох. Он пригладил поредевшие от времени волосы, поднял с мостовой свою шапку и собрался уходить.
– Поздненько ты сегодня не ложишься спать, Антонио, – сказал вдруг кто-то совсем рядом. – Должно быть, ты по хорошей цене продал свою рыбу или ее было очень много? Иначе человек твоего ремесла не может позволить себе в этот час прохлаждаться на площади! Ты слышал?
Часы пробили пятый час ночи.
Рыбак повернул голову и безучастно взглянул на человека в маске, не выражая ни любопытства, ни волнения.
– Ну, раз ты меня знаешь, – ответил он, – значит, ты знаешь и то, что, покинув площадь, я приду в опустевший дом. Если ты меня хорошо знаешь, ты должен так же хорошо знать и мои несчастья.
– Кто же обидел тебя, достойный рыбак, что ты осмеливаешься так храбро говорить о своих несчастьях под самыми окнами дожа?
– Республика.
– Святому Марку так отвечать безрассудно. Если бы ты сказал это погромче, мог бы зарычать вон тот лев. Но в чем же ты обвиняешь республику?
– Проводи меня к тем, кто послал тебя, и я все скажу прямо им, без посредников. Я готов рассказать о своих горестях самому дожу, сидящему на троне, потому что мне, старику, уже не страшен его гнев.
– – Ты думаешь, меня послали к тебе как доносчика?
– Тебе лучше знать свое поручение.
Человек снял маску и повернул голову так, что луна осветила его лицо.
– Якопо! – воскликнул рыбак, вглядываясь в выразительное лицо браво. – Человек твоего ремесла не может иметь поручения ко мне.
Даже при лунном свете было заметно, как краска залила лицо браво; но больше он ничем не выдал своих чувств.
– Ты ошибаешься. У меня есть к тебе дело.
– Разве сенат считает, что рыбак из лагун достаточно важная персона, чтобы удостоиться удара кинжалом? Тогда выполняй свою работу! – сказал Антонио, взглянув на свою обнаженную загорелую грудь, – Ничто не помешает тебе!
. – Ты несправедлив ко мне, Антонио. У сената нет такого намерения. Но я слышал, что у тебя есть причины для недовольства и что ты не боишься открыто говорить и на островах и на Лидо о таких делах, которые патриции предпочитают скрывать от бедняков. Я пришел как друг, и вовсе не для того, чтобы вредить тебе, а чтобы предостеречь тебя от последствий таких неразумных поступков.
– Тебя послали сказать мне об этом?
– Старик, годы должны были бы научить тебя придерживать язык. Какая тебе польза от напрасных жалоб на республику и что, кроме зла, могут эти жалобы принести тебе самому и ребенку, которого ты так любишь?
– Я не знаю.., но, когда болит сердце, язык не может молчать. Они отняли у меня моего мальчика, и у меня не осталось ничего дорогого в жизни. И мне не страшны их угрозы, потому что жить мне все равно осталось недолго.
– Ты должен усмирить свое горе разумом! Синьор Градениго давно уже дружески относится к тебе – я слышал, твоя мать была его кормилицей. Попытайся же упросить его, вместо того чтобы злить республику жалобами.
Антонио задумчиво смотрел на своего собеседника, но, когда тот умолк, он печально покачал головой, словно выражая этим, что от сенатора помощи ждать нечего.
– Я сказал ему все, что только может сказать человек, рожденный и вскормленный на лагунах. Он сенатор, Якопо, и не понимает страданий, каких не испытывает сам.
– Ты не прав, старик, и не должен обвинять в черствости человека, рожденного в богатстве, только за то, что он не испытал бедности, от которой ты и сам бы отказался, будь это в твоих силах. У тебя есть гондола и сети; с твоим здоровьем и умением ты счастливее, чем он, У которого ничего этого нет… Разве ты забросил бы свое искусство и разделил свой скудный доход с нищим у храма Святого Марка, чтобы оба вы стали одинаково богаты?
– Возможно, ты и прав, говоря о нашем труде и доходах, но что касается наших детей – здесь мы равны. Я не вижу причин, почему сын патриция может разгуливать на свободе, в то время как мой мальчик должен идти на верную гибель. Или сенаторам мало их власти и богатства и им нужно еще лишить меня внука?
– Но ты ведь знаешь, Антонио, что государству нужны защитники, и, если бы офицеры стали искать храбрых моряков во дворцах, подумай сам, смогли бы они найти там для флота тех, кто принес бы славу Крылатому Льву в трудный час? Твоя старческая рука еще сильна и ноги устойчивы в любую качку на море; вот они и ищут таких, как ты, привыкших с детства к морю.
– Ты мог бы добавить, что моя старческая грудь покрыта рубцами. Тебя еще не было на свете, Якопо, когда я пошел сражаться с нехристями, и кровь моя лилась, как вода, во славу отечества. Но они забыли об этом, а в храмах на мраморе высечены имена знатных господ, которые вернулись с той же самой войны без единой царапины.
– Все это я слышал от отца, – печально ответил браво изменившимся голосом. – Он тоже пролил кровь, защищая республику, и это тоже забыто.
Рыбак огляделся вокруг и, заметив, что несколько человек неподалеку о чем-то разговаривают между собой, сделал знак своему собеседнику следовать за ним и направился в сторону причалов.
– Твой отец, – сказал он, когда они медленно пошли рядом, – был моим товарищем и другом. Я стар, Якопо, и беден, дни мои прошли в труде на лагунах, а ночами я набирался сил для завтрашних трудов. Но мне горько было услышать, что сын того, кого я очень любил и с кем так часто делил радость и горе в ясный день и в ненастье, выбрал себе такое занятие в жизни, если, конечно, молва не лжет. Золото, которое платят за кровь, никогда не приносит счастья ни тому, кто платит, ни тому, кто его получает.
Браво не проронил ни слова, но рыбак, который в другое время и в другом расположении духа отшатнулся бы от него, как от прокаженного, грустно взглянул на своего спутника и увидел, что мускулы его лица вздрагивают, а щеки покрыла бледность, которая при лунном свете делала его похожим на привидение.
– Ты позволил нужде ввергнуть себя в смертный грех, Якопо, но ведь никогда не поздно воззвать к святым за помощью и не касаться больше кинжала. Не очень-то лестно человеку слыть твоим другом в Венеции, но друг твоего отца не отвернется от того, кто раскаивается. Оставь свой кинжал и иди со мной в лагуны. Ты найдешь там труд менее обременительный, чем преступление, и хотя ты никогда не смог бы заменить мне мальчика, которого у меня отняли, – он ведь был невинен как ягненок, – все же ты останешься для меня сыном моего старого друга и человеком с истерзанной душой. Пойдем со мной в лагуны: такого бедняка, как я, уже невозможно презирать более, даже если я стану твоим другом.
– Что же говорят про меня люди, если даже ты такого мнения обо мне? – спросил Якопо глухим, срывающимся голосом.
– Ах, если бы все, что они говорят, оказалось не правдой! Но почти каждое убийство в Венеции связывают с твоим именем.
– Почему же власти допускают, чтобы такой человек мог открыто плавать по каналам или свободно разгуливать по площади Святого Марка?
– Мы никогда не знаем, как поступит сенат. Одни говорят, что твое время еще не пришло, а другие считают, что ты слишком силен, чтобы судить тебя.
– Ты, видно, одинакового мнения и о правосудии и об инквизиции. Но, если я пойду с тобой сегодня, ты обещаешь мне быть более осторожным в разговорах с рыбаками на Лидо и на островах?
– Когда на сердце лежит тяжесть, язык старается хоть как-то облегчить ее. Я бы сделал все, чтобы заставить сына моего друга свернуть со страшного пути, но забыть о своем горе не могу. Ты привык иметь дело с патрициями, Якопо, скажи мне, может ли человек в одежде рыбака и с потемневшим от солнца лицом прийти к дожу и поговорить с ним?
– С виду справедливости в Венеции хоть отбавляй, все дело в ее сущности. Я уверен, что тебя выслушают.
– Тогда я останусь здесь, на камнях этой площади, и буду ждать того часа, когда дож поедет завтра на торжество, и попытаюсь склонить его сердце к милости. Он стар, как и я, и он пролил кровь за республику, так же как и я, а что самое главное – он тоже отец.
– Но ведь и синьор Градениго тоже отец.
– Ты сомневаешься в его сочувствии?
– Что ж, попытка – не пытка. Дож Венеции выслушает просьбу от самого низшего из ее граждан. Я думаю, – добавил Якопо едва слышно, – он выслушал бы даже меня.
– Хоть я и не смогу выразить свою мольбу так, как положено говорить с великим принцем, но зато он услышит правду от несчастного человека. Они называют его" избранником государства, а такой человек должен охотно прислушиваться к справедливым просьбам. Да, Якопо, пусть это жесткая постель, – продолжал рыбак, устраиваясь у подножия колонны святого Теодора, – по ведь я спал и на худшей и более холодной, а причин для этого у меня было меньше… Доброй ночи!
Старик скрестил руки на своей обнаженной груди, овеваемой морским ветром, а браво еще с минуту постоял рядом с ним, но, когда он понял, что Антонио хочет остаться один, он ушел, предоставив рыбака самому себе.
Ночь была уже на исходе, и на площадях осталось мало гуляк. Якопо взглянул на часы и, внимательно оглядев площадь, направился к причалу.
Глубокая тишина царила над всем заливом; у причалов, как обычно, стояли гондолы. Вода слегка потемнела от налетавшего ветерка, который скорее гладил, чем шевелил ее поверхность; ни одного всплеска весла не слышно было среди леса мачт между Пьяцеттой и Джудеккой. Браво мгновение колебался, но вот, окинув взглядом площадь, он снова надел маску, отвязал одну из лодок и вскоре уже скользил прочь от причала, к середине гавани.
– Кто идет? – спросил человек с борта фелукки, которая стояла на якоре несколько поодаль от других судов.
– Тот, кого ждут, – последовал ответ.
– Родриго?
– Он самый.
– Ты опоздал, – сказал моряк из Калабрии, когда Якопо ступил на нижнюю палубу “Прекрасной соррентинки”. – Мои люди давно уже спят, а мне за это время три раза успело присниться кораблекрушение и дважды – ужасающий сирокко.
– Значит, у тебя было больше времени, чтобы надувать таможенников. Как фелукка – готова к работе?
– Что касается таможенников, то в этом жадном городе много не заработаешь. Вся прибыль достается сенаторам и их друзьям, а мы на своих судах слишком много работаем и слишком мало за это получаем. С тех пор как начался маскарад, я послал всего дюжину бочонков лакрима-кристи на каналы и больше ничего не продал. Так что тебе хватит, если хочешь выпить.
– Я дал обет трезвости. Итак, твое судно готово выполнить поручение?
– А готов ли сенат заплатить мне за это? Ведь это уже четвертое плавание по его делам, и все сделано как следует – пусть заглянут в свои секретные бумаги и убедятся в этом.
– Они довольны, и тебе хорошо заплатили.
– Не так уж хорошо. Я гораздо больше заработал на одной партии фруктов с островов, чем за все ночные поездки по делам сената. Вот если бы те, кому я служу, дали моей фелукке разрешение на въезд в каналы, тогда бы можно было действительно кое-что заработать.
– Нет ни одного преступления, которое святой Марк карает так сурово, как контрабанду. Будь осторожен со своим вином, а не то можешь лишиться не только судна и поручений сената, но и свободы!
– Вот это-то меня и возмущает, синьор Родриго! Мы для республики когда мошенники, а когда и нет. Иной раз сенат доброжелателен к нам, как отец к своим детям, а в другой – нам приходится делать свои дела только ночью. Мне очень не нравится такое неровное отношение, как только у меня появляется хоть малейшая надежда на заработок, она тотчас рассыпается в прах от такого хмурого взгляда, какой только святой Януарий мог бы бросить на грешника.
– Запомни, ты находишься не в Средиземном море, а на одном из каналов Венеции. Такой разговор мог бы навлечь на тебя беду, если бы его услышал кто-нибудь другой, менее дружественно к тебе настроенный.
– Спасибо за заботу, хотя вид вон того старого дворца – такое же внушительное предупреждение для болтуна, как для пирата виселица на берегу моря. Я встретил старого приятеля на Пьяцетте, когда там уже стали собираться маски, и мы перекинулись несколькими словами на этот счет. Он уверен, что чуть ли не каждый второй человек в Венеции получает деньги за доносы на Других. Очень жаль, Родриго, что сенат при всей его кажущейся любви к правосудию позволяет разгуливать на свободе разным мошенникам, один вид которых заставил бы и камни покраснеть от стыда и гнева!
– Я и не знал, что такие люди открыто разгуливают по Венеции. Тайное преступление может некоторое время оставаться нераскрытым, потому что его трудно доказать, но…
– Черт возьми! Мне говорили, что у Совета с грешниками разговор короткий – все признаются в своих злодеяниях. А вот взять этого негодяя Якопо… Что с тобой, дружище? Якорь, на который ты опираешься, не из раскаленного железа.
– Но он и не из пуха: от одного прикосновения к нему могут заболеть все кости, не в обиду будь сказано.
– Да, конечно, он сделан из железа, которое ковал сам Вулкан. Этот Якопо не достоин гулять на свободе в честном городе, а между тем его можно встретить на площади и расхаживает он там так же спокойно, как любой патриций на Бролио!
– Я его не знаю.
– Если ты не знаком с храбрейшей рукой и надежнейшим клинком Венеции, добрый Родриго, это делает тебе честь. Мы же, в порту, хорошо его знаем и при виде этого человека сразу вспоминаем обо всех своих грехах. Удивительно, что инквизиторы до сих пор не прокляли его на одной из публичных церемоний в назидание более мелким преступникам!
– Разве его преступления так хорошо известны, что с ним можно расправиться без всяких доказательств?
– Задай-ка этот вопрос на улицах! Если в Венеции умирает христианин – а их умирает немало, не говоря уж о тех, кого губит борьба за власть, – то все уверены, что умер он от руки Якопо. Синьор Родриго, ваши каналы – отличные могилы для внезапно умерших.
– Мне думается, здесь есть противоречие. То ты говоришь о руке Якопо, то о каналах, воды которых покрывают умерших. Право же, люди ошибаются в Якопо. Может быть, его несправедливо оклеветали?
– Я понимаю, что можно оклеветать священника, потому что он, как христианин, должен охранять свое доброе имя ради чести церкви, но что касается браво, то его оклеветать не удалось бы и бывалому адвокату. Не все ли равно, больше или меньше обагрена рука, если на ней кровь человека!
– Ты прав, – с тяжелым вздохом ответил мнимый Родриго. – Осужденному на смерть безразлично, за одно или за несколько преступлений его казнят.
– А знаешь ли ты, друг Родриго, что я рассуждаю так же и это придает мне смелости, когда бывает нужно вывезти отсюда товар, чтобы потом тайно его продать? “Ты фактически в сделке с сенатом, достойный Стефано, – говорю я самому себе, – и потому у тебя нет причин быть особенно разборчивым в качестве товара”. У этого Якопо такие глаза и такой грозный вид, что если бы он уселся на престол святого Петра, то люди и там узнали бы его. Но сними маску, синьор Родриго, пусть морской ветер освежит твои щеки. Нечего играть в прятки со старым, испытанным другом.
– Мой долг по отношению к тем, кто послал меня, запрещает мне такую вольность, иначе я с радостью открыл бы тебе мое лицо, Стефано.
– Ты очень осторожен, хитрый синьор, но я поспорил бы с тобой на десять цехинов из тех, что ты должен мне заплатить, что завтра безошибочно узнаю тебя среди тысячи людей в толпе на площади Святого Марка. Так что можешь снять свою маску – говорю тебе, ты знаком мне так же хорошо, как эти латинские реи моей фелукки.
– Тем более мне незачем снимать маску. Несомненно, люди, которые так часто встречаются, узнают друг друга по многим приметам.
– У тебя красивое лицо, синьор, и прятать его совсем ни к чему. Я заметил тебя среди веселившейся толпы, когда ты и не подозревал об этом, и скажу тебе откровенно, вовсе не думая извлечь из этого какую-либо выгоду для себя, человеку с таким красивым лицом нужно всем его показывать, а не прятать всю жизнь под маской.
– Я же тебе сказал: я делаю то, что мне приказано. А раз ты знаешь меня, смотри не выдай.
– Бог ты мой! Твои тайны в такой же безопасности, как если бы ты исповедался своему духовнику! Я не из тех, кто шатается среди продавцов воды и разбалтывает секреты; но ты искоса взглянул на меня, когда танцевал среди масок на площади, и я тебе подмигнул! Разве я не прав, Родриго?
– А ты умнее, синьор Стефано, чем я думал, хоть твое искусство в управлении фелуккой ни для кого не секрет.
– Есть две вещи, синьор Родриго, которые я ценю в себе, хотя, надеюсь, с надлежащей христианской скромностью. Немногие из моряков, плавающих вдоль этого побережья, могут похвастать большим умением управлять судном в мистраль, сирокко, левантер или зефир; а что касается масок, то я узнаю своего знакомого на карнавале, нарядись он хоть самим сатаной! По части предсказания шторма или опознания маски, синьор Родриго, я не знаю себе равного среди людей не слишком ученых.








