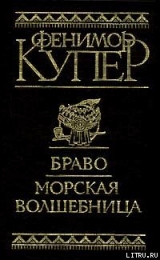
Текст книги "Браво, или В Венеции"
Автор книги: Джеймс Фенимор Купер
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава 10
Не медлить мы должны с уплатой долга,
Но сразу же воздать вам за любовь.
Шекспир, “Макбет”
Когда все три гондолы приблизились к “Буцентавру”, рыбак остановился позади двух остальных, словно сомневаясь в своем праве предстать перед сенатом. Однако ему знаком приказали подняться на палубу, а двум другим победителям следовать за ним.
Высшая знать, одетая в свои парадные платья, образовала длинную и внушительную живую изгородь от сходней до кормы, где расположился номинальный владыка еще более номинальной республики, окруженный важными и величественными сановниками.
– Подойди, – мягко сказал дож, видя, что старик в лохмотьях не решается приблизиться к нему. – Ты победил, рыбак, и в твои руки я должен передать приз.
Антонио преклонил колена и низко склонил голову, прежде чем повиноваться. Затем, набравшись мужества, он подошел поближе к дожу и остановился перед ним с виноватым и смущенным видом, ожидая дальнейших повелений. Дождавшись, когда улеглось легкое движение вокруг, вызванное любопытством, и воцарилась полная тишина, престарелый правитель заговорил:
– Наша прославленная республика гордится тем, что не ущемляет ничьих прав: люди низшего класса получают заслуженные награды так же, как и патриции. Святой Марк держит весы справедливости беспристрастной рукой, и почетная награда простому рыбаку, заслужившему ее в этих гонках, будет вручена ему с той же готовностью, как если бы он был самым близким ко двору человеком. Патриции и простые граждане Венеции, учитесь высоко ценить ваши прекрасные и справедливые законы, ибо отеческая забота правительства о своем народе больше всего проявляется именно в таких законах, тогда как в более важных случаях правительству приходится поступать в соответствии с мнением всего мира.
Дож произнес эти вступительные слова твердым голосом, как человек, уверенный в одобрении своих слушателей, и он не ошибся. Едва он умолк, как восторженный шепот пронесся среди собравшихся, подхваченный тысячами людей, которые стояли далеко и не могли услышать дожа и понять смысл его слов. Сенаторы склонили головы в подтверждение справедливости того, что высказал их правитель, а последний, дождавшись этих знаков одобрения, продолжал:
– Мой долг, Антонио, – и долг этот доставляет мне удовольствие – надеть тебе на шею эту золотую цепь. Весло, которое к ней прикреплено, – символ твоего искусства, и твои товарищи, видя его, всегда будут вспоминать о доброте и справедливости республики и о твоей заслуге. Прими награду, решительный старец! Годы оголили твои виски и избороздили морщинами щеки, но не отняли у тебя силы и мужества.
– Ваше высочество! – воскликнул Антонио, отступая на шаг, вместо того чтобы склониться перед дожем, который хотел было надеть цепь ему на шею. – Мне не подобает носить этот знак величия и удачи. Блеск золота только выставил бы напоказ мою нищету, а драгоценность, подаренная мне столь высоким лицом, выглядела бы просто нелепо на моей обнаженной груди.
Этот неожиданный отказ вызвал всеобщее удивление и замешательство.
– Разве не ради этой награды ты принял участие в состязании, рыбак? Впрочем, ты прав, золотое украшение и в самом деле не очень-то подходит к твоему положению и к твоим повседневным нуждам. Надень его сейчас, чтобы все смогли убедиться в справедливости и мудрости наших решений, а потом, когда праздник окончится, принеси его к моему казначею, и он даст тебе взамен вознаграждение, которое, конечно, больше тебе пригодится. Л сейчас – таков обычай, и ему нужно следовать.
– Ваша светлость! Вы правы, я старался изо всех сил не без надежды на вознаграждение. Но не золото и желание покрасоваться среди товарищей с этой сверкающей драгоценностью на груди заставили меня переносить презрение гондольеров и немилость патрициев.
– Ты ошибаешься, честный рыбак, если думаешь, что мы с неудовольствием встретили твое понятное стремление. Мы любим смотреть на благородное соперничество среди наших людей, и мы всячески стараемся поощрять тот дух отваги, который приносит честь государству и богатство нашим берегам.
– Я не смею возражать своему повелителю, – ответил рыбак. – Но тот позор и тот стыд, какие я испытал, заставляют меня думать, что знатные люди получили бы больше удовольствия, если бы счастливец, завоевавший приз, был моложе и благороднее меня.
– Ты не должен так думать. А теперь преклони колена, чтобы я смог надеть тебе на шею приз. Когда зайдет солнце, ты найдешь в моем дворце того, кто освободит тебя от этого украшения за справедливое вознаграждение.
– Ваша светлость! – сказал Антонио, умоляюще глядя на дожа, который уже поднял руки с цепью и теперь снова удивленно остановился. – Я стар и по избалован судьбой. Того, что я зарабатываю в лагунах с помощью святого Антония, мне хватает, но в вашей власти осчастливить старика в последние дни его жизни, и тогда ваше имя не забудется во многих молитвах, произносимых от всей души. Верните мне моего ребенка и простите назойливость убитого горем отца!
– Уж не тот ли это старик, что докучал нам просьбой относительно юноши, призванного на службу государству? – воскликнул дож, и на лице его появилось привычное выражение бесстрастности, так часто скрывавшей его истинные чувства.
– Он самый, – сухо ответил голос, в котором Антонио узнал голос синьора Градениго.
– Только снисхождение к твоему невежеству, рыбак, подавляет во мне гнев. Получай свою цепь и уходи.
Антонио не опустил глаз. Он почтительно преклонил колена и, скрестив руки на груди, сказал:
– Страдание придало мне смелости, великий принц! Слова мои идут от тоски в сердце, а не от распущенности языка, и я умоляю вашу светлость выслушать меня.
– Говори, но покороче, так как ты задерживаешь празднество.
– Великий дож! Богатство и нищета – вот причина, которая сделала такими непохожими наши судьбы, а знание и невежество усугубили эту разницу. У меня грубая речь, и она совсем не подходит к этому славному обществу. Но, синьор, бог дал рыбаку те же чувства и ту же любовь к своим детям, что и принцу. Если бы я полагался только на своп скудные знания, я был бы сейчас нем, но я нахожу в себе мужество говорить с лучшим и благороднейшим человеком Венеции о моем ребенке.
– Ты не можешь обвинять сенат в несправедливости, старик, и не можешь сказать ничего против всем известной беспристрастности законов!
– Мой повелитель! Соблаговолите выслушать, и вы все поймете. Я, как вы сами видите, человек бедный, живу тяжелым трудом, и близок уже тот час, когда меня призовут к престолу благолепного святого Антония из Римини, и я предстану перед престолом еще более высоким, чем этот. Я не настолько тщеславен, чтобы думать, что мое скромное имя можно найти среди имен тех патрициев, что служили республике в ее войнах, – этой чести могут быть удостоены только благородные, знатные и счастливые; но если то немногое, что я сделал для своей страны, и не занесено на страницы Золотой книги, то оно написано здесь, – и, говоря это, Антонио показал на шрамы, которыми было изуродовано его полуобнаженное тело. – Вот знаки, оставленные турками, и сейчас я предъявляю их как ходатайство о снисходительности сената.
– Ты говоришь туманно. Чего ты хочешь?
– Справедливости, великий государь. Они отрубили единственную сильную ветвь умирающего дерева, отрезали от увядающего стебля самый крепкий отросток; они подвергли единственного товарища моих трудов и радостей – дитя, которому следовало бы закрыть мне глаза, когда богу будет угодно призвать меня к себе; дитя неопытное и не искушенное в вопросах чести и добродетели, совсем еще мальчика, – они подвергли его всем греховным искушениям, отослав в опасную компанию матросов на галерах.
– И только? Я думал, твоя гондола отслужила свой век или тебе запрещают ловить рыбу в лагунах!
– “И только”… – повторил Антонио, скорбно оглядываясь вокруг. – Дож Венеции, это свыше того, что может вынести измученный старик, осиротевший и одинокий.
– Подойди, возьми свою цепь с веслом и уходи к товарищам. Радуйся своей победе, на которую ты, по правде говоря, не мог рассчитывать, и предоставь государственные дела тем, кто мудрее тебя и более способен заниматься ими, Рыбак, привыкший за свою долгую жизнь почтительно относиться к сильным мира сего, покорно поднялся, но не подошел принять предложенную награду.
– Склони голову, рыбак, чтобы его светлость мог надеть тебе на шею приз, – приказал один из сенаторов.
– Мне не нужно ни золота, ни весла, кроме того, с помощью которого я отправляюсь в лагуны по утрам и возвращаюсь на каналы ночью. Отдайте мне моего ребенка или не давайте ничего.
– Уберите его прочь! – послышались голоса. – Он смутьян! Пусть покинет галеру!
Антонио подхватили и с позором столкнули в гондолу. Этот непредвиденный случай, прервавший церемонию, заставил нахмуриться многих, ибо венецианские аристократы сразу учуяли здесь крамольное политическое недовольство, хотя кастовое высокомерие и заставило их воздержаться от каких бы то ни было иных проявлений своего гнева.
– Пусть подойдет следующий победитель, – продолжал дож с самообладанием, воспитанным привычкой лицемерить.
Не известный никому гребец, благодаря тайной услуге которого Антонио добился победы, приблизился, все еще не снимая маски.
– Ты выиграл второй приз, – сказал дож, – хотя по справедливости должен был бы получить и первый, ибо нельзя безнаказанно отвергать наши милости. Стань на колени, чтобы я мог вручить тебе награду.
– Простите меня, ваша светлость! – сказал гондольер в маске, почтительно кланяясь, но отступив на шаг от предлагаемого приза. – Если вам угодно наградить меня за успех в гонках, то и я осмелился бы просить вас об иной милости.
– Это неслыханно – отказываться от награды, вручаемой самим дожем Венеции!
– Мне бы не хотелось настаивать, чтобы не показаться непочтительным к высокому собранию. Я прошу немногого, и стоить это будет гораздо меньше, чем награда, которую предлагает мне республика.
– Чего же ты просишь?
– На коленях, исполненный глубочайшего уважения к главе государства, я прошу вас услышать мольбы старого рыбака и вернуть ему внука, ибо служба на галерах развратит мальчика и сделает Антонио несчастным на старости лет.
– Это уже становится назойливым! Кто ты и зачем, скрывшись под маской, пришел просить о том, в чем уже отказано?
– Ваша светлость, я второй победитель в гонках.
– Ты что, изволишь шутить? Маска священна до тех пор, пока не нарушает спокойствия Венеции, а тут, кажется, нужно как следует разобраться… Сними маску, я хочу увидеть твое лицо.
– Я слышал, что в Венеции тот, кто разговаривает вежливо и ничем не нарушает закона, может, если пожелает, оставаться в маске, и его не спрашивают ни об имени, ни о роде его занятий.
– Совершенно верно, если только человек не оскорбляет республику. Но твое единодушие с рыбаком подозрительно. Я приказываю тебе снять маску.
Неизвестный, прочтя на лицах окружающих необходимость повиноваться, медленно снял маску и открыл бледное лицо и горящие глаза Якопо. Невольно все, кто стоял рядом, отпрянули назад, оставив правителя Венеции лицом к лицу с этим наводящим ужас человеком посреди широкого круга удивленных и преисполненных любопытства слушателей.
– Я тебя не знаю! – воскликнул дож, пристально вглядываясь в стоящего перед ним человека и не скрывая изумления, подтверждавшего искренность его слов. – Видно, причина, заставившая тебя надеть маску, более веская, чем причина твоего отказа от награды.
Синьор Градениго приблизился к главе республики и что-то прошептал ему на ухо. Дож выслушал его, бросил быстрый взгляд, в котором любопытство смешивалось с отвращением, на бледное лицо браво и знаком приказал ему удалиться, в то время как круг придворных инстинктивно сомкнулся вокруг дожа, словно готовясь защитить его.
– Этим делом мы займемся на досуге, – сказал дож. – Пусть празднество продолжается!
Якопо низко поклонился и пошел прочь. Когда он шел по палубе "Буцентавра”, сенаторы поспешно расступались перед ним, словно он был зачумленным, хотя, судя по выражению их лиц, делали они это со смешанным чувством. Браво, которого сторонились, но все же терпели, спустился в свою гондолу, и звуки трубы оповестили народ о том, что церемония продолжается.
– Пусть гондольер дона Камилло Монфорте выйдет вперед! – выкликнул герольд, повинуясь жесту своего начальника.
– Ваше высочество, я здесь, – ответил растерянный и перепуганный Джино.
– Ты калабриец?
– Да, ваше высочество.
– Но ты, видно, давно уже на наших каналах, иначе ты не смог бы обогнать наших лучших гребцов… Ты служишь знатному хозяину?
– Да, ваше высочество.
– Я думаю, герцог святой Агаты доволен тем, что у него такой честный и преданный слуга?
– Очень доволен, ваше высочество.
– Преклони колена и получи награду за свою ловкость и решительность.
Джино, не в пример своим предшественникам, охотно опустился на колени и принял приз с низким и покорным поклоном. Но в эту минуту внимание зрителей было" отличено от короткой и простой церемонии громким криком, который раздался неподалеку от “Буцентавра”. Все бросились к бортам галеры и об удачливом гондольере забыли.
По направлению к Лидо единым фронтом двигалась сотня лодок, и на воде не видно было ничего, кроме красных шапочек рыбаков. Среди них четко выделялась непокрытая голова старого Антонио, чью лодку влекли за собой остальные, без всякой помощи с его стороны. Управляли движением этой небольшой флотилии тридцать или сорок сильных гребцов трех или четырех больших гондол, идущих впереди.
Причина этой необычной процессии была очевидна. Жители лагун с тем непостоянством, с каким невежественные люди меняют своп симпатии, внезапно испытали резкий поворот в своих чувствах к старому товарищу. Того, кого они всего час назад высмеивали как тщеславного и нелепого претендента на приз и на чью голову так Щедро сыпали грубые проклятья, теперь превозносили торжественными криками.
Гондольеры каналов были с презрением осмеяны, и даже ушей надменной знати не пощадила эта ликующая толпа, издеваясь над их изнеженными слугами. Короче говоря, как это часто бывает и как вообще свойственно человеческой натуре, заслуга одного из них стала вдруг неотделима от их общей славы и торжества.
Если бы торжество рыбаков ограничилось таким естественным проявлением чувства солидарности, это не очень оскорбило бы бдительную и ревностную власть, охраняющую покой республики. Но к крикам торжества и одобрения примешались и выкрики недовольства. Слышались даже серьезные угрозы по адресу тех, кто отказался вернуть внука Антонио; на палубе “Буцентавра” шепотом передавалось из уст в уста, что группа бунтовщиков, вообразив, что их победа на гонках – выдающееся событие, отважилась угрожать, что будет силой добиваться того, что они так дерзко называют справедливостью.
Этот взрыв народных чувств был встречен зловещим и тягостным молчанием членов сената. Человек, непривычный к размышлению о таких вещах или не умудренный жизнью, мог бы подумать, что на мрачных лицах сановников отразились смятение и страх и что такое знамение времени было мало благоприятно для поддержания власти, которая полагается больше на силу законов, чем на свое моральное превосходство. Но, с другой стороны, тот, кто в состоянии правильно оценить силу политической власти, опирающейся на установленные ею порядки, мог бы сразу видеть, что одних лишь выражений чувств, какие бы они ни были громкие и бурные, еще недостаточно, чтобы ее сломить.
Рыбакам позволили беспрепятственно продолжать свой путь, хотя то там, то здесь появлялась гондола, пробирающаяся к Лидо, в которой находились агенты тайной полиции, чей долг – предупреждать об опасности власть имущих. Среди этих лодок была и лодка виноторговца – с Анниной и большим запасом вина на борту; он отошел от Пьяцетты, делая вид, что хочет воспользоваться веселым и буйным настроением своих обычных клиентов. Между тем праздник продолжался и небольшая заминка в церемонии была, казалось, забыта всеми; но страшная и тайная сила, управлявшая судьбами людей в этой необыкновенной республике, ничего и никогда не забывала, Б новом состязании участвовали гребцы, гораздо слабее предыдущих, и, пожалуй, не стоит задерживать внимание читателя их описанием.
Хотя важные обитатели “Буцентавра”, казалось, с интересом наблюдали за тем, что происходило перед их глазами, на самом деле они прислушивались к каждому звуку, доносившемуся к ним с далекого Лидо. И не раз можно было заметить, как сам дож поглядывал в ту сторону, выдавая этим тревогу, царившую в его душе.
И все же праздник продолжался как обычно. Победители торжествовали, толпа аплодировала, и сенат, казалось, тоже участвовал в развлечениях народа, которым он правил с уверенностью, напоминавшей страшную и таинственную поступь рока.
Глава 11
Кто здесь купец, а кто еврей?
Шекспир, “Венецианский купец”
В таком оживленном городе, как Венеция, мало кто стал бы проводить вечер подобного дня в тоскливом уединении. Пестрая, суетливая толпа вновь заполнила огромную площадь Святого Марка, и сцены, уже описанные в первых главах нашего повествования, теперь вновь повторялись, с той лишь разницей, что их участники с еще большим, если только это возможно, самозабвением предавались мимолетным радостям. Паяцы и шуты вновь показывали свое искусство, выкрики торговцев фруктами и прочими лакомствами смешались со звуками флейты, гитары и арфы, а в укромных местах, как и прежде, встречались бездельники и дельцы, бездумные и расчетливые, заговорщики и агенты полиции.
Было уже за полночь, когда гондола, своим плавным движением напоминавшая лебедя, легко проскользнув между стоявшими в порту кораблями, коснулась носом набережной там, где канал Святого Марка соединяется с заливом.
– Приветствую тебя, Антонио, – сказал человек, приблизившийся к одинокому гребцу, когда тот закрепил лодку у берега, как все гондольеры воткнув в щель между камнями железный клин, которым кончается канат, привязанный к носу лодки. – Приветствую тебя, Антонио, хоть ты и запоздал.
– Я начинаю узнавать твой голос, даже когда лицо твое скрыто маской, – ответил рыбак. – Друг, удачей нынешнего дня я обязан твоей доброте, и, хотя то, о чем я мечтал и молился, не свершилось, моя благодарность не станет от этого меньше. Как видно, и ты хлебнул немало горя, иначе едва ли стал бы заботиться о старом и презираемом человеке в минуту, когда ликующие крики толпы уже звучали в твоих ушах и молодая кровь кипела гордостью и торжеством победы.
– Тебе дано красиво говорить, рыбак. Верно, дни моей юности прошли не в играх и пустых забавах, свойственных этому возрасту, жизнь не была для меня праздником, но сейчас не об этом… Сенату не угодно уменьшить команду галеры, и тебе придется подумать о какой-нибудь иной награде. Я принес цепь и золотое весло – надеюсь, они будут благосклонно приняты тобой.
Антонио был поражен, поддавшись естественному любопытству, он на минуту жадно впился глазами в награду, затем, вздрогнув, отпрянул, нахмурился и тоном человека, принявшего бесповоротное решение, произнес:
– Нет, я всегда буду думать, что эта безделка отлита из крови моего внука. Оставь ее у себя. Тебе ее вручили, и она твоя по праву; раз они отказались выполнить мою мольбу, награда должна принадлежать только тому, кто честно ее заработал.
– Рыбак, ты совсем забыл разницу наших лет и силу молодости! Я думаю, присуждая подобные награды, судьям следовало бы об этом помнить, и тогда они признали бы, что ты превзошел всех нас. Клянусь святым Теодором, я провел детство с веслом в руке, но никогда прежде не встречал в Венеции человека, который мог заставить меня так стремительно гнать мою гондолу! Ты касаешься воды легко, словно девушка, перебирающая струны арфы, однако с силой, подобной могучей волне, что обрушивается на Лидо!
– Я помню время, Якопо, когда твоя молодая рука изнемогла бы в подобном состязании. Это было еще до рождения моего старшего сына, который потом погиб в битве с турками, оставив мне своего дорогого мальчика грудным ребенком… Ты ни разу не видел моего сына, добрый Якопо?
– Нет, старик, не пришлось. Но, если он походил на тебя, стоит оплакивать его гибель. Клянусь Дианой, с моей стороны было бы глупо хвастать ничтожным превосходством, какое дает мне молодость!
– Какая-то внутренняя сила гнала и меня и лодку все вперед, но что проку? Твоя доброта и последние усилия старика, изнуренного нуждой и лишениями, – все вдребезги разбилось о каменные сердца аристократов.
– Не говори так, Антонио. Милостивые святые могут внять нашим молитвам как раз тогда, когда мы меньше всего этого ожидаем. Пойдем, ведь меня послали за тобой.
Рыбак с удивлением взглянул на нового знакомого, после чего, задержавшись на несколько секунд, чтобы позаботиться, как обычно, о своей лодке, с радостью выразил готовность следовать за Якопо. Место, где они стояли, было расположено в стороне от проезжей части набережной, и, хотя луна светила ярко, присутствие здесь двух человек в неприметных одеждах едва ли привлекло бы чье-нибудь внимание; и все же, казалось, браво не был спокоен. Он подождал, пока Антонио вышел из гондолы, и затем, расправив плащ, перекинутый через руку, без разрешения набросил его на плечи рыбака. Потом достал шапку, точь-в-точь как его собственная, и надел ее на седую голову Антонио, что довершило преображение внешности старика.
– Маска тебе не нужна, – сказал Якопо, внимательно оглядев фигуру рыбака. – В этом наряде, Антонио, тебя никто не узнает.
– А есть ли нужда в том, что ты сделал, Якопо? Я благодарен тебе за добрые намерения, за то великое благодеяние, какое ты хотел мне оказать и не смог лишь из-за жестокосердия вельмож и богачей. Но все-таки я должен сказать, что ни разу еще маска не скрывала моего лица; ибо зачем человеку, который встает вместе с солнцем, чтобы приняться за свой тяжкий труд, и обязан тем немногим, что у него есть, милости святого Антония, зачем ему разгуливать подобно кавалеру, собирающемуся похитить доброе имя девушки, или ночному разбойнику?
– Тебе известны нравы Венеции, и для дела, которое нам предстоит, не вредно принять некоторые предосторожности.
– Ты забываешь, что твои намерения все еще неведомы мне. Скажу еще раз, и скажу от всей души и с благодарностью: я очень тебе обязан; хотя мои надежды рухнули и мальчик все еще томится в этой плавучей школе порока, я бы хотел, чтобы кличка “браво” принадлежала не тебе. Мне трудно поверить всему тому, о чем говорили сегодня на Лило про человека, который так жалеет слабых и обиженных.
Браво застыл на месте; наступившее вдруг тягостное молчание было столь мучительным для рыбака, что, когда, наконец успокоившись, Якопо глубоко вздохнул, Антонио тоже почувствовал облегчение.
– Я не хотел сказать…
– Неважно, – прервал браво глухим голосом. – Неважно, рыбак, мы поговорим обо всем этом в другой раз.
А пока следуй за мной и молчи.
С этими словами самозванный проводник Антонио жестом пригласил его следовать за собой и направился в сторону от канала. Рыбак повиновался, ибо этому несчастному человеку с разбитым сердцем было все равно, куда идти! Якопо воспользовался первым же входом, ведущим во внутренний двор Дворца Дожей. Шаги его были неторопливы, и в глазах прохожих оба они ничем не выделялись среди многочисленной толпы, вышедшей на улицу, чтобы подышать мягким ночным воздухом или насладиться развлечениями, которые обещала Пьяцца.
Оказавшись во дворе, освещенном слабо и то лишь местами, Якопо на миг задержался, видимо для того, чтобы разглядеть находившихся здесь людей. Надо полагать, он не усмотрел никакой причины для дальнейшего промедления, так как, незаметно подав своему спутнику знак не отставать, он пересек двор и поднялся по известной лестнице, той самой, с какой скатилась голова Фальери 1414
Фальери, Марино – дож Венеции, казненный в 1355 году на Лестнице Гигантов за попытку проведения самостоятельной политики.
[Закрыть] и которую по статуям, стоящим на верху ее, называют Лестницей Гигантов. Миновав знаменитые Львиные пасти, они быстро пошли по открытой галерее, где их встретил алебардщик из гвардии дожа.
– Кто идет? – спросил наемник, выставив вперед свое длинное грозное оружие.
– Друзья государства и святого Марка!
– В этот час никто не проходит без пароля. Жестом приказав Антонио оставаться на месте, Якопо приблизился к алебардщику и что-то шепнул ему. Оружие тотчас поднялось, и стражник вновь принялся шагать по галерее с глубоко равнодушным видом. Едва путь перед ними открылся, как оба двинулись дальше. Антонио, немало удивленный тем, что ему пришлось видеть, с нетерпением следовал за Якопо, ибо сердце его сильно забилось горячей, хотя и смутной надеждой. Не так уж несведущ был он в людских делах, чтобы не знать, что правители иногда втайне уступают там, где согласиться открыто им мешают соображения политики. Поэтому, полагая, что сейчас его приведут к самому дожу и наконец-то дитя вернется в его объятия, старик легко шагал по мрачной галерее и, пройдя вслед за Якопо через какой-то проход, вскоре оказался у подножия новой широкой лестницы. Рыбак теперь едва представлял себе, где он находится, так как его спутник оставил в стороне главные входы дворца и, пройдя через потайную дверь, вел его мрачными, тускло освещенными коридорами. Они не раз поднимались и спускались по лестницам, проходили через множество небольших, просто обставленных комнат, так что в конце концов у Антонио совсем закружилась голова и он окончательно перестал понимать, куда идет. Наконец они достигли помещения, темные стены которого, украшенные довольно безвкусным орнаментом, казались еще более мрачными из-за слабого освещения.
– Ты неплохо знаешь жилище дожа, – сказал рыбак, когда к нему вернулась способность говорить. – Похоже, ты гуляешь по всем этим галереям и коридорам свободнее, чем самый старый гондольер Венеции по каналам города.
– Мне приказали привести тебя, а все, что мне поручают, я стараюсь делать как следует. Ты из тех люден, Антонио, которые не боятся предстать перед лицом великих, – в этом я сегодня убедился. Собери все, свое, мужество, ибо настал час испытания.
– Я смело говорил с дожем. Кроме самого всевышнего, кого еще мне бояться на свете?
– Ты говорил, пожалуй, даже слишком смело, рыбак. Укроти свой язык, ибо великие не любят непочтительных слов.
– Значит, истина им неприятна?
– Смотря какая. Они любят слушать, как восхищаются их делами, если дела заслуживают похвалы; но им не нравится, когда действия их порицают, даже если ясно, что порицания справедливы.
– Боюсь, – сказал старик, простодушно глядя на своего собеседника, – между великим и ничтожным окажется мало разницы, когда с обоих снимут одежду и они предстанут взору нагими.
– Подобную истину нельзя высказывать здесь.
– Почему? Разве патриции отрицают, что они христиане, что они смертны и грешны?
– Первое они считают благом, Антонио, о втором забывают и не терпят, чтобы кто-нибудь, кроме них самих, замечал третье!
– Тогда, Якопо, я начинаю сомневаться в том, что добьюсь свободы для моего мальчика.
– Говори с почтением, остерегайся задеть их самолюбие, оскорбить их власть, и многое простят тебе, в особенности если ты учтешь мой совет.
– Но ведь это та самая власть, которая отобрала у меня мое дитя! Разве я смогу восхвалять тех, кто поступает несправедливо?
– Ты должен притвориться, иначе твоя просьба останется неисполненной.
– Мне лучше вернуться на лагуны, друг Якопо, ибо всю жизнь язык мой говорил лишь то, что подсказывало сердце. Боюсь, я слишком стар, чтобы говорить, будто сына можно по праву насильно оторвать от отца. Скажи им от меня, что я приходил выразить им свое почтение, но, поняв, сколь безнадежны дальнейшие просьбы, вернулся к своим сетям, вознося молитвы святому Антонию.
С этими словами Антонио крепко стиснул руку своего спутника, который точно застыл на месте, и повернулся, собираясь уходить. Но не успел он сделать и шага, как две алебарды скрестились на уровне, его груди; только теперь старик заметил вооруженных людей, преградивших ему путь, и понял, что стал пленником. Природа наделила рыбака умением сохранять присутствие духа и любой обстановке, а многолетние испытания закалили его. Оценив истинное положение вещей, он ничем не выдал своей тревоги и, не пускаясь в бесполезные споры, снова повернулся к Якопо; лицо его выражало терпение и покорность судьбе.
– Видно, высокие синьоры хотят поступить со мной по справедливости, – сказал он, приглаживая поредевшие волосы, как это делают люди его сословия, готовясь предстать перед господами, – и смиренному рыбаку не пристало лишать их такой возможности. Все же лучше, чтобы у нас в Венеции пореже применяли силу даже во имя справедливости. Но сильные любят показывать свою власть, а слабым приходится подчиняться.
– Посмотрим, – отвечал Якопо, который не выказал никаких чувств, когда его спутнику не удалось уйти.
Наступило глубокое молчание. Алебардщики, одетые и вооруженные по обычаям того времени, вновь, подобно безжизненным статуям, застыли в тени у стен, да и Якопо со своим спутником, неподвижно стоявшие посреди комнаты, едва ли больше, чем стражники, походили на живые и разумные существа.
Здесь уместно будет познакомить читателя с особенностями государственного устройства страны, о которой мы рассказываем, имеющими отношение к событиям, излагаемым далее, ибо само понятие РЕСПУБЛИКА – если слово это означает что-то определенное, – бесспорно подразумевает представление и преобладание интересов народа, но оно так часто осквернялось ради защиты интересов господствующих групп, что читатель, возможно, задумается, какая же все-таки связь между государственным укладом Венеции и более справедливыми – хотя бы потому, что они более демократичны – установлениями его собственной страны.
В век, когда правители были достаточно нечестивы, чтобы утверждать, будто право повелевать ближними дается человеку непосредственно богом, а их подданные были не в силах противиться этому, считалось достаточным хотя бы на словах отказаться от сего дерзновенного и эгоистического принципа, чтобы придать политике государства характер свободы и здравомыслия. В таком мнении есть даже известная доля истины, поскольку оно основывает, пусть только теоретически, государственную власть на концепции, существенно отличной от той, какая полагает всю власть собственностью одного человека, который, в свою очередь, есть представитель непогрешимого и всемогущего Правителя Мира. Нам незачем пускаться в обсуждение первого из упомянутых принципов; достаточно лишь добавить, что существуют положения, столь порочные по самой своей природе, что достаточно лишь просто выразить их в отчетливой и ясной форме, как они сами опровергнут себя. Что же касается второго, то мы вынуждены ненадолго отвлечься от темы нашего рассказа и рассмотреть заблуждения, свойственные Венеции того времени.








