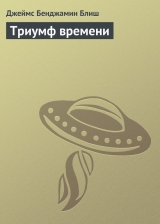
Текст книги "Триумф времени"
Автор книги: Джеймс Бенджамин Блиш
Жанр:
Космическая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
7. МЕТАГАЛАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Для самого Амальфи, переход на Он оказался не таким уж и долгим. Для него Новая Земля теперь была все равно, что кладбище. На некоторое время, пока шла странная, неопределенная борьба с Апостолом Джорном, он чувствовал себя в некотором роде как встарь, и Ново-Земляне, похоже признавали, что Амальфи, однажды уже бывший их мэром, когда они странствовали меж звезд как Бродяги, снова принял бразды правления на себя, столь же изобретательный и необходимый, как и прежде. Но все это продлилось недолго. Как только кризис прошел – и в основном без особых затрат со стороны или непосредственного участия Ново-Землян – они снова спокойно и благодарно успокоились и занялись уходом за своими садиками, которые они почему-то ошибочно принимали за границы. Что же касается Амальфи, то они были рады, что он снова принял командование на себя во время недавних неприятностей, но после того, как все эти события стали не такими уж и необычными, кому могло понравится, если Амальфи постоянно будет ставить на уши всю почти полностью освоенную планету и губить помидоры только для того, чтобы найти какую-то иную возможность расходовать свою собственную, но неподконтрольную ему энергию.
Никто не стал бы плакать, если бы Мирамон сейчас забрал Амальфи. Мирамон более подходил к стабильному типу. Несомненно, тесное сотрудничество с ним могло бы пойти Амальфи только на пользу. По крайней мере, вряд ли это нанесло бы вред Новой Земле. И если там, на планете Он, желали иметь рядом с собой таких постоянных диссидентов, вроде Амальфи, что ж – это их проблемы.
Хэзлтон же представлял собой куда как более сложный вопрос, как для самого Амальфи, так и для Ново-Землян. Как ученик Гиффорда Боннера, теоретически он был приверженцем доктрины безграничной абсурдности попыток навязать порядок вселенной, чье естественное состояние являлось простым шумом, и чья естественная дорога шла в направлении все большего и большего шума, вплоть до безграничного, непостижимого для чувств грохота тепловой смерти. Боннер учил – и не существовало никого, кто мог бы ему возразить – что даже те многие законы природы, которые уже давно открыты, еще с первых моментов истории, когда началось использование научного метода, еще в семнадцатом веке, являлись просто долговременными статистическими случайностями, местными разрывами в грандиозной схеме, чьей единственной непрерывностью являлся хаос. Если бы вы предприняли путешествие по вселенной, пользуясь в качестве органа восприятия только ухом, часто говорил Боннер, стараясь упростить, то что хотел пояснить, вы не услышали бы ничего, кроме ужасающего и нескончаемого грохота в течении миллиардов лет, затем лишь трехминутный отрывок Баха, который представлял собой все то, что было собрано в организованное познание, а после этого – снова один лишь грохот, в течение тех же миллиардов лет. И даже Бах, если бы вы остановились и попробовали пристальнее разобраться в нем, через мгновение или около того, распался бы и стал Джоном Кэйджем или слился бы с преобладающим во вселенной неослабевающим буйством.
И все же привычка к власти по-прежнему так никогда и не ослабила своего захвата над Хэзлтоном; снова и снова, с тех пор, как впервые «новая» появилась в окрестностях Новой Земли, the Compleat Стохастик постоянно подталкивался к действиям, к насаждению своего собственного чувства необходимости и порядка на Стохастическую вселенную бездумного беспорядка, вроде Квакера, которого наконец-то ввели в такое состояние, что он вот-вот ударит своего противника. Во время борьбы с Апостолом Джорном, Амальфи, лицезрея результаты действий Марка, но не имея возможности наблюдать за самими предпринимаемыми им действиями, частенько задумывался о нем: стоит ли все этого того, чтобы спустя столько лет, снова искусно играть в эти политически игры, которые, как они считали, ушли навсегда? Что это значит для человека, который стал приверженцем подобных доктрин, предпринимать борьбу ради мира, который, как он знает, скоро должен все равно погибнуть, даже скорее, чем ему доказывала философская система, поклонником которой он стал?
И на другом, обывательском уровне, стоит ли Ди для него хоть что-нибудь? Знает ли он, во что она превратилась? Как молодая женщина, она любила приключения, но теперь и она изменилась; а теперь лишь немногим отличалась от высиживавшей яйца курицы, естественная цель в гнезде для любого браконьера. И что касается этого, то знал ли Марк что-нибудь насчет их «стерильного» романа?
Ну да ладно, на последний вопрос уже ответ имеется, но все остальные были, как обычно, по-прежнему совершенно неопределенны. Неужели неожиданное решение Хэзлтона отправиться с планетой Он в конце концов представляло собой окончательный отказ от привычки ко власти – или же, наоборот, ее признание? Для человека с проницательностью Хэзлтона, должно быть понятно, что власть над Новой Землей более уже никак нельзя сравнивать с властью над Бродягами; она была такой же вознаграждающей, как, например, служба капелланом в летнем лагере. Или быть может, он смог заметить, что инцидент с Апостолом Джорном доказал, что Амальфи остался и продолжал бы оставаться настоящей фигурой могущества и умах Ново-Землян, к которой всегда можно обратиться, в любом случае, если Новая Земля столкнется к конкретной опасностью. Остальные же Ново-Земляне давно уже потеряли способность быть хитрыми, планировать битву, способность быстро думать и принимать решения, когда это требовалось, и не могли бы признаться в том, что ни у кого больше не сохранилось по-прежнему этих способностей, кроме их легендарного экс-мэра; Оставив любому другого мэру, занимавшему в настоящий момент этот пост, даже Хэзлтону, лишь рутину управления в мирное время, когда существовала лишь небольшая необходимость или желание каких-то правил. В действительности, как неожиданно и с удивлением понял Амальфи, тот обман, который он применил в отношении Апостола Джорна, оказался вовсе не таким уж и обманом, по крайней мере до какого-то уровня: то, что Ново-Земляне вполне удовлетворялись случайностями, точно так же, как Стохастики утверждали в отношении себя, и не имели никакого интереса в наложении какой-то цели на свои жизни, за исключением того случая, если это им навязывалось извне, либо кем-то подобным Джорну, либо кем-то вроде Амальфи, являвшимся противоположностью Джорна. Так что возможность того, что Стохастицизм мог проникнуть и пропитать души Воинов Господа все это время, была в действительности реальной, в независимости от того, понимали это или нет сами Ново-Земляне, признавали ли они Стохастицизм или нет; просто время и философия нашли друг друга, и это представлялось гораздо более вероятным, чем сам эрудит Гиффорд Боннер являлся всего-лишь запоздалой интеллектуализацией чувства, которое подсознательно витало над Новой Землей многие годы. Ничто другое не могло служить доказательством быстрого успеха Амальфи и Хэзлтона в области «продажи» Апостолу Джорну чего-то такого, во что сам Джорн, будучи в начале слишком проницательным, едва ли поверил бы – и ничего другого, кроме того факта, что по крайней мере, хотя этого не подозревал сам Амальфи и, возможно, и Хэзлтон, на самом деле оказавшегося правдой. Если же Хэзлтон и заметил это, тогда он не отказывался ни от чего, оставляя Новую Землю ради планеты Он; напротив, вместо этого, он выбирал единственный центр власти, который еще что-либо должен означать в течении нескольких последующих лет, которые осталось просуществовать ему и всей остальной вселенной.
За исключением, конечно, этой неизвестной величины – Паутины Геркулеса; но, естественно, решение этого вопроса находилось совершенно вне пределов возможностей и компетенции Хэзлтона.
И даже Амальфи начал поддаваться действию вируса Стохастицизма. Эти вопросы по-прежнему интересовали его, но привкус академизма, который все более и более четко проявлялся в них перед лицом приближающейся катастрофы, становился все более очевидным даже для него. И все, что оставалось, за что еще можно было бы ухватиться, так это лишь бешеный полет планеты Он к метагалактическому центру, борьба за подготовку механизмов и приборов, который понадобятся по прибытии на место, и отчаянная необходимость оказаться там раньше Паутины Геркулеса.
И таким образом за Ди оказалось – если не окончательная победа, то во всяком случае – последнее слово. Именно ее суждение об Амальфи, как о Летучем Голландце, больше всего поколебало его, после всех этих ярлыков и масок, которые оказались сорваны приближающимся триумфом времени. И проклятие лежало теперь, как оно лежало всегда, но уже не в самом полете, а в одиночестве, погнавшем человека в этот бесконечный полет.
За единственным исключением. Теперь уже явственно был виден конец.
Открытие того, что огромные спиральные галактики, острова вселенных в космосе, в которые группировались звезды, и сами склонялись к объединению в огромные группы, вращающиеся по спиральным рукавам вокруг общего центра плотности, было предзнаменовано еще в начале 1950-х, когда Шепли выполнил карту «внутренней метагалактики» – группы примерно в пятьдесят галактик, к которой принадлежал как Млечный Путь, так и галактика Андромеды. После того, как гипотеза Милна оказалась доказанной, представилось вполне возможным показать, что подобные метагалактики существовали как правило, как и то, что они, в свою очередь, формировали спиральные рукава, тянущиеся по направлению к центру, который являлся втулкой своеобразного «колеса» на котором вращалось все мироздание, и из которого в самом начале произошел взрыв моноблока.
И именно в этот мертвый центр сейчас и мчалась планета Он, назад, в лоно времени.
На планете уже больше не было дневного света. Путь, которым планета двигалась, иногда позволял появляться в небе светлым недолговечным пятнам, или небольшому спиральному свечению в ночи, производимому галактикой, мимо которой они пролетали, но никогда в небе вновь не сияло солнце. Даже разреженные мостики звезд, соединявшие галактики, подобно пуповинам – мостики, чье открытие Фрицем Зворкиным в 1953 году вызвало серьезный пересмотр предполагаемого количества материи во вселенной, и таким образом – пересмотр ее предполагаемых размеров и возраста – не ослабило ту черную пустоту, сквозь которую, мчалась планета Он, хотя бы даже на день. Межгалактическое пространство было слишком безграничным для этого. И поэтому, освещаемая лишь искусственным светом, планета Он мчалась на полной скорости своих движителей спиндиззи, что было возможно лишь для столь массивного «корабля» по направлению к тому Месту, где Желание дало жизнь Идее, и где стал свет.
– В своей работе мы отталкивались от того, чему вы нас учили, и что вы называли гипотезой Маха, – объяснял Ретма Амальфи. – Доктор Боннер называет ее Виконианской гипотезой или космологическим принципом: он состоит в том, что с любой точки в пространстве или во времени вселенная должна была бы выглядеть точно так же, как и с любой другой точки и, таким образом, невозможен полный учет всех стрессов, воздействующих на эту точку, если только наблюдатель не предположит, что и всю остальную вселенную необходимо взять в расчет. Тем не менее, это могло быть реально лишь в случае тау-времени, в котором вселенная – статична, безгранична и вечна. В т-времени, которое представляет вселенную, как конечную и расширяющуюся, гипотеза Маха диктует, что каждая точка является уникальным и удобным наблюдательным пунктом – за исключением метагалактического центра, которым свободен от стрессов и находится в стазисе, потому что, в нем все стрессы практически гасят друг друга, являясь эквидистантными. И там возможно проведение огромных изменений с помощью относительно незначительного расхода энергии.
– Например, – предложил доктор Боннер, – изменение орбиты Сириуса всего лишь тем, что вы наступите на цветок лютика.
– Ну, я надеюсь, что это не так, – возразил Ретма. – Мы не можем контролировать небрежность такого рода. Но это и не такой уж и пустячок, как орбита Сириуса – то, что мы, так или иначе, будем пытаться изменить, так что, наверное, в этом нет никакой реальной опасности. То, на что мы рассчитываем – всего лишь шанс, хотя и незначительный, но все же реальный – состоящий в том, что эта нейтральная точка совпадает в подобной точкой для вселенной антивещества, и что в момент аннигиляции эти две нейтральные зоны, два мертвых центра, станут общими и переживут полное уничтожение на какой-то заметный миг.
– И на сколь большой? – поежившись, спросил Амальфи.
– Вы сами можете с таким же успехом предположить это, – ответил доктор Шлосс. – Мы рассчитываем, как минимум, примерно на пять микросекунд. Если этот момент продлится хотя бы столько, этого окажется вполне достаточно для наших целей – и он может продлиться и полчаса, в то время, как будут воссоздаваться элементы. Эти полчаса для нас столь же хороши, как и сама вечность; но мы сможем наложить нашу печать на все будущее обеих вселенных в том случае, даже если нам будет предоставлено хотя бы эти пять микросекунд.
– И только если уже кто-нибудь еще не оказался в центре и не подготовился лучше нас к этому моменту, – угрюмо добавил Ретма.
– А как мы собираемся использовать это? – спросил Амальфи. – Я не слишком хорошо продираюсь сквозь эти ваши обобщения. В чем собственно, заключается наша цель? На какого рода цветок лютика мы собираемся наступить – и каков при этом будет результат? Сможем ли мы пережить его – или будущее нанесет наши лица на почтовые марки, как лица жертв? Объяснитесь!
– Конечно, – ответил Ретма, слегка опешив. – Ситуация, как мы ее видим – такова: Все, что переживет эти пять микросекунд Гиннунгагапа в метагалактическом центре, будет нести в себе достаточный энергетический потенциал в будущее, который окажет значительное воздействие на реформацию обеих вселенных. Если уцелевший при этом предмет является камнем или планетой – как например Он – тогда обе вселенных реформируются точно так же – или почти точно также, какими они сформировались после того, как взорвался моноблок и их историческое развитие весьма близко будет соответствовать повтору. Если же, с другой стороны, у уцелевшего объекта будет в наличие желание и небольшая маневренность – например как у человека – это делает доступным ему любое безграничное число измерений пространства Гилберта. И каждый из нас при пересечение этого барьера в пять микросекунд, за эти несколько мгновений создаст свою собственную вселенную, с судьбой совершенно непредсказуемой.
– Но, – добавил доктор Шлосс, – при этом он погибнет в процессе своих действий. Его материя и энергия станут моноблоком созданной им вселенной.
– Боги звезд, – произнес Хэзлтон… – Хеллешин! Мы станем богами всех звезд, именно поэтому мы и мчимся, чтобы обогнать Паутину Геркулеса, не так ли? Что ж, в таком случае я наказан за свою самую старую, наиболее приятную клятву. Я никогда не думал, что стану таким – и я даже не уверен, что хочу стать.
– А имеется ли какой-либо иной выбор? – спросил Амальфи. – Что будет, если Паутина Геркулеса доберется туда первой?
– Тогда они переделают вселенную так, как им заблагорассудится, – ответил Ретма. – Так как мы ничего о них не знаем, мы даже не можем предположить, каким образом они будут производить свой выбор.
– За одним исключением, – добавил доктор Боннер, – что любой их выбор, скорее всего, никоим образом не будет иметь в себе нас или нечто, нам подобное.
– Все это весьма похоже на довольно безопасное пари, – произнес Амальфи. – Я должен признать, что чувствую себя столь же невдохновленным, как и Марк, насчет альтернативы. Но – может есть какая-то третья альтернатива? Что произойдет, если метагалактический центр окажется пуст, когда наступит катастрофа? Если ни Паутина, на Он не окажутся там, подготовленными к ее использованию?
Ретма пожал плечами.
– Тогда – если вообще можно сказать что-то определенное о столь грандиозной трансформации – история повторит сама себя. Вселенная снова возродится, пройдет через свои родовые муки, и продолжит свое путешествие к своим конечным катастрофам – тепловой смерти и моноблоку. Может быть и так, что мы обнаружим себя живущими все так же, но уже во вселенной антивещества; даже если и так, мы не сможем отметить никакого различия. Но я считаю это весьма маловероятным. Наиболее возможное событие – немедленное уничтожение, а затем – возрождение обеих вселенных из первобытного илема.
– Илем? – спросил Амальфи. – Что это еще такое? Я никогда прежде не слышал этого слова.
– Илем был первобытным скоплением нейтронов, из которого все остальное и возникло, – пояснил доктор Шлосс. – Я не удивлен, что вы раньше не слышали этого термина; это азы космогонии, гипотеза Альфера-Бете-Гамова. Илем для космогонии то же самое, что и существование «нуля» в математике – что-то столь старое и фундаментальное, что вам и в голову не пришло бы, что кто-то изобрел этот принцип.
– Хорошо, – сказал Амальфи. – Тогда, в том случае, как утверждает Ретма, если этот мертвый центр в момент прихода второго Июня окажется пустым, наиболее вероятная развязка состоит в том, что мы все превратимся в море нейтронов?
– Именно так, – ответил доктор Шлосс.
– Не слишком обширный выбор, – отстраненно заметил Гиффорд Боннер.
– Нет, – произнес Мирамон, впервые подав голос. – Не слишком значительный выбор. Но это все, что мы имеем в своем распоряжении. Однако, у нас не будет и этого, если нам не удастся вовремя достичь метагалактического центра.
Тем не менее, все же только в последний год Уэб Хэзлтон начал понимать, да и то – весьма туманно – настоящую природу приближающегося конца. Но даже и в этом случае, это познание не пришло к нему от тех людей, которые руководили подготовкой; то, к чему они готовились, хотя и не держалось в секрете, в основном оставалось совершенно непонятным для него, и таким образом, это не могло поколебать его уверенности в том, что все это как-то предназначалось для предотвращения Гиннунгагапа вообще. Он прекратил верить в это, в отчаянии и окончательно лишь после того, как Эстелль отказалась родить ему ребенка.
– Но почему? – спросил Уэб, прижав ее к себе одной рукой а другой в отчаянии указывая на стены жилища, предоставленного им Онианами. – Теперь мы постоянно вместе – дело не только в том, что мы это знаем, но и в том, что и все остальные с этим согласны. И для нас больше нет этой запретной черты!
– Я знаю, – мягко ответила Эстелль. – Дело не в этом. Мне хотелось, чтобы ты не задавал этот вопрос. Так было бы проще.
– Рано или поздно, это пришло бы мне в голову. Обычно я бы сразу же прекратил прием таблеток, но с этим переездом на Он навалилось столько всяких дел – так или иначе, но только сейчас понял, что ты по-прежнему их принимаешь. И я бы хотел, чтобы ты мне объяснила – почему.
– Уэб, дорогой мой, ты поймешь, если хотя бы чуть побольше подумаешь обо всем этом. Конец – это конец – и все. Какой смысл заводить ребенка, который проживет только год или два?
– Быть может, это вовсе не так уж и неотвратимо, – угрюмо произнес Уэб.
– Ну конечно же это вполне определенно. В действительности, мне кажется, что я знала о приближении этого еще с того момента, как родилась – может быть, еще и до того, как я родилась. Как будто я могла чувствовать приближение этого.
– Ну послушай, Эстелль. Если честно, неужели ты не понимаешь, что это похоже на чепуху?
– Я вполне могу видеть, почему это может так звучать, – признала Эстелль. – Но я ничем не могу помочь. И так как конец – неминуем, я не могу назвать это чепухой, не так ли? У меня было предчувствие и оно оказалось правильным.
– Мне кажется, все это означает то, что ты не хочешь иметь детей.
– Да, это правда, – удивительно, но Эстелль подтвердила догадку Уэба. – У меня никогда не было особого желания иметь детей – и в действительности – меня даже не особо беспокоило мое собственное выживание. Но, пожалуй, это часть одного целого. Некоторым образом, я оказалась в числе счастливчиков; многие из людей не чувствуют себя, как дома, в свое собственное время. Я же родилась в то время, которое оказалось как раз именно моим – время конца мира. Вот почему я не предрасположена к обзаведению детьми – потому что я знаю, что после моего и твоего поколения больше не будет никакого другого. В конце концов, насколько я могу предположить, в действительности я могу вообще оказаться стерильной; но конечно же, это бы меня уже не удивило.
– Перестань, Эстелль. Я не могу слушать, когда ты так говоришь.
– Мне жаль, любовь моя. Я не хотела тебя расстраивать. Правда, это не так расстраивает меня, но я знаю в чем здесь причина. Просто я ориентирована на конец – и, некоторым образом, это является естественным, конечным результатом моей жизни, событие, которое придает ей значение; но ты – всего-лишь захвачен этим, как и большинство людей.
– Я не знаю, – пробормотал Уэб. – Для меня все это похоже на чертовски холодную рационализацию. Эстелль, ты такая прекрасная… разве это ничего не значит? Неужели ты не столь красива, чтобы привлечь мужчину, так, чтобы ты могла иметь ребенка? Ведь именно так это я всегда понимал.
– Возможно, когда-то так оно и было, – спокойно произнесла Эстелль. – Так или иначе, это звучит весьма похоже на аксиому. Что ж… я не сказала бы никому, кроме тебя Уэб, но я хорошо знаю, что красива. Большинство женщин сказали бы тебе то же самое о себе, если бы это только было допустимо – это просто состояние ума, которое присуще женщинам. Она всего-лишь половинка настоящей женщины, если не считает себя красивой… и она красива, даже если не думает о себе так, и не имеет значения то, как она выглядит. Я вовсе не стыжусь того, что красива и я не вовсе не раздосадована этим, но просто я больше и не обращаю на это внимания. Все это для меня – лишь средство для достижения цели, как ты и сказал – вот только цель изжила уже свою необходимость. Мне кажется, что женщина, которая могла мы приговорить своего годовалого сынишку к адскому пламени, должна была бы непременно быть ужасным злодейкой, если бы она точно знала, что именно к этому идет дело, когда рожала бы дитя. Я _з_н_а_ю_, и поэтому не могу этого сделать.
– Женщины и раньше рисковали ничуть не меньше, даже зная цену риска, – упрямо продолжил Уэб. – Крестьяне, которые _з_н_а_л_и_, что их дети могут голодать, потому что и родители уже голодали. Или женщины века, того времени, предшествовавшего непосредственному началу космических полетов; доктор Боннер говорил, что в течении пяти лет вся раса стояла в двадцати минутах от гибели. На они все же шли вперед и все-таки рожали детей – в ином случае нас просто бы здесь не было.
– Это побуждение, – тихо ответила Эстелль, – которого у меня более нет, Уэб. И на этот раз, не существует никакого спасения.
– Ты все еще повторяешь это, но вовсе даже не уверена, что ты права. Амальфи утверждает, что шанс все же есть…
– Я знаю, – вздохнула Эстелль. – Я сама проводила некоторые вычисления. Но это вовсе не тот шанс, дорогой мой. Это что-то, что мы сможем сделать, ты или даже я, потому что мы уже достаточно взрослые, чтобы понять инструкции и выполнить именно то, что нужно в то время, когда именно это понадобится. Ребенок же не сможет этого сделать. Это будет равносильно тому, что отправить его на космолете в пространство одного, хотя и с достаточным запасом энергии и еды – но он все равно погибнет, и ты не сможешь сообщить ему, как избежать гибели. Все это настолько сложно, что неизбежно кто-то из нас конечно же сделает какие-нибудь фатальные ошибки.
Он лишь промолчал.
– Кроме того, – мягко добавила Эстелль, – даже для нас все продлится не так уж и долго. Мы тоже умрем. Все дело только в том, что у нас имеется шанс воздействовать на момент создания, который непосредственно скрыт в мгновении уничтожения. И это, если мне удастся, и будет моим ребенком, Уэб – единственным, которого сейчас стоит иметь.
– Но он не будет моим.
– Нет, любимы мой. У тебя будет свой собственный.
– Нет, нет, Эстелль! Что в этом хорошего? Я хочу, чтобы мой был и твоим тоже!
Она обняла его и при коснулась своей щекой к его щеке.
– Я знаю, – прошептала она. – Знаю. Но увы, время для этого прошло. Это судьба, для которой мы оказались рождены, Уэб. Дар иметь детей у нас оказался отнят. Вместо детей, нам были даны вселенные.
– Но этого недостаточно, – воскликнул Уэб. Он яростно сжал ее в своих объятиях. – Даже наполовину. Никто проконсультировался со мной, когда подписывался этот контракт.
– А разве ты просил о том, чтобы тебя родили, любимый мой?
– Ну вообще то… нет. Но я не возражал… О. Так вот значит, как все обстоит.
– Да, именно так, все сейчас и обстоит. Он тоже не может проконсультироваться по этому вопросу с нами. Так что все теперь зависит от нас. Никакой наш совместный с тобой ребенок, Уэб, не окажется в пламени ада; никакой ребенок, рожденный мною.
– Нет, – пусто ответил Уэб. – Ты права, это было бы нечестно. Хорошо, Эстелль. Мне хватит еще одного года даже тебя одной. Мне не кажется, что я хочу еще и вселенную.
Торможение началось в конце января 4104 года. С этого момента, дальнейший полет Он будет весьма осторожным, несмотря на растущую необходимость скорейшего достижения цели; ибо метагалактический центр был столь же неразличим, как и остальная часть межгалактического пространства и лишь исключительная внимательность и исключительно сложная аппаратура могли бы сообщить путешественникам, что они прибыли на место. Для этой цели, Ониане во многом усложнили командный пост своей планеты, который располагался на вершине трехсотфутовой плетеной стальной башни, расположенной на вершине самой высокой горы планеты – названной к очевидному замешательству Амальфи – Гора Амальфи. Здесь Уцелевшие – как они начали себя называть с некоторым чувством отчаянной веселости – встречались на почти непрерывных совещаниях.
Уцелевшие состояли в основном из тех на планете, кто согласно Шлоссу и Ретме могли следовать инструкциям в тот бесконечный миг хотя бы с наименьшей долей вероятности успеха. Шлосс и Ретма были весьма тверды в своем отборе: это оказалась небольшая группа. В нее вошли все Ново-Земляне, хотя Шлосс и сомневался насчет Ди и Уэба, и кроме того, группа из десяти Ониан, включая Мирамона и самого Ретму. Странно, но по мере приближения времени, один за другим Ониане начали уходить, совершенно очевидно, как только каждый из них до конца проникался тем, что именно будет предпринято и каков может быть результат.
– Почему они это делают? – спросил Амальфи Мирамона. – Разве ваши люди не имеют совершенно никакого желания выжить?
– Я вовсе не удивлен, – ответил Мирамон. – Они живут, придерживаясь стабильных ценностей. Они скорее умрут с ними, чем будут жить без них. Конечно же, у них есть побуждение к жизни, но оно выражает себя совершенно иначе, в отличие от вашего, Мэр Амальфи. То, что они хотят увидеть уцелевшим, является теми вещами, которые они считают ценными и необходимыми для жизни вообще – и этом проект представляет им весьма малую толику таких возможностей.
– А как насчет вас и Ретмы?
– Ретма – ученый; и это, наверное, вполне достаточное объяснение. Что же касается меня, Мэр Амальфи, то как вы очень хорошо знаете, я давно уже являюсь анахронизмом. Я больше уже не разделяю основные ценности системы Он, как и вы – Новой Земли.
Амальфи получил ответ на свой вопрос, но теперь он сожалел о том, что вообще задал его.
– Как вы думаете, насколько близко мы сейчас от места назначения? – спросил он.
– Сейчас – уже очень близко, – ответил Шлосс из-за контрольного пульта. За огромными окнами, которые полностью окружали комнату, по прежнему разглядеть можно было немногое, кроме все поглощающей и постоянной ночи. Если же вы обладали достаточно острым зрением и могли бы постоять где-то около получаса снаружи, чтобы привыкнуть к темноте, то для вас имелась возможность разглядеть по меньшей мере пять галактик различной степени тусклости, ибо здесь, вблизи центра плотность галактик была гораздо выше, чем где-либо еще во вселенной. Но для обычного, быстрого взгляда, небеса казались столь же пустыми, что на них не видно было даже и светлячка света.
– Показания постоянно и неуклонно понижаются, – согласился Ретма. – И есть еще что-то весьма странное: мы получаем слишком много энергии по всем местным источникам. Всю прошлую неделю мы постоянно снижали потребление энергии, и все равно выход ее продолжает подниматься – экспоненциально, в действительности. Я надеюсь, что эта кривая _н_е_ сохранит такой вид постоянно, в ином случае, мы просто не сможем управлять нашими машинами, когда достигнем точки цели.
– А в чем причина этого? – спросил Хэзлтон. – Неужели Закон Сохранения энергии отменяется в центре?
– Я в этом сомневаюсь, – ответил Ретма. – Мне кажется, кривая выровняется при приближении к вершине…
– Кривая Пирла, – вставил Шлосс. – Мы должны были это предусмотреть. Естественно, все что произойдет в центре – будет срабатывать с гораздо большей эффективностью, чем где-либо еще, поскольку центр свободен от стрессов. И кривая начнет выравниваться, как только эффективность наших машин начнет приближаться к абстрактным возможностям физики – идеальный газ, поверхность без трения, совершенно абсолютный вакуум и так далее. Вся мою жизнь меня учили не верить в реальное существование любого из этих идеалов, но, похоже, мне, по крайней мере, удастся получить хотя бы смазанное представление о них!
– Включая и свободную от гравитации метрику пространства? – обеспокоенно спросил Амальфи. – Ну и в кашу же мы попадем, если окажется, что спиндиззи не за что зацепиться.
– Нет, скорее всего, полное отсутствие гравитации невозможно, – сказал Ретма. – Вполне возможно гравитационная нейтральность точки – снова это можно отнести к беспрецедентной эффективности – но и только лишь потому, что все стрессы сбалансированы. Не может существовать такой точки во вселенной, которая гравитационно не напряжена, покуда в ней не останется хотя бы крохотного кусочка материи.
– Предположим, спиндиззи отключатся, – сказала Эстелль. – После достижения центра мы ведь все равно больше никуда не отправимся.
– Нет, – согласился Амальфи, – но все же мне хотелось бы сохранить маневренность, пока мы не увидим, что делают наши соперники – если они вообще что-то делают. Пока никаких их признаков, Ретма?
– Пока ничего. К сожалению, мы не знаем, чего именно искать. Но, по крайней мере, поблизости нет ни одной перемещающейся массы, вроде нашей; и в действительности – никакой активности, несущей в себе отпечаток какого-нибудь плана вообще.

