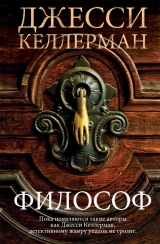
Текст книги "Философ"
Автор книги: Джесси Келлерман
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава восьмая
Я хоть и посещал дом Альмы почти каждый день вот уже шесть недель кряду, но за пределами гостиной мне бывать не приходилось – если не считать «дамской комнаты» по соседству с холлом. Остальные четыре пятых дома оставались для меня загадкой.
Поэтому к кухне я следовал за Альмой полным возвышенных предвкушений. Неразумно возвышенных. В конце концов, это была кухня, а не подземная тюрьма и не сераль, – хотя, в отличие от многих кембриджских кухонь, оборудованных бытовыми устройствами из нержавеющей стали и современной фурнитурой, в этой ничто, похоже, за последние сорок лет не менялось. Духовка выкрашенной под стать шкафчикам в коричневый цвет плиты не превосходила размерами средней микроволновки. Что до настоящей микроволновки, таковая отсутствовала. На плите стоял старенький чайник. Еще я увидел хлебницу, гриль-тостер, маленький транзисторный приемник, потрескавшийся кувшинчик с четырьмя-пятью вилками не то ложками и несколько плиток шоколада. Над небольшим столиком висел телефонный аппарат с наборным диском.
– Признаюсь, готовить я почти не умею. Раз в неделю сюда приезжают люди из магазина, что за углом. Если вы согласитесь принять мое предложение, я позвоню им и добавлю к моему обычному заказу продукты, которые предпочитаете вы. – Она развернула одну из плиток, отломила для меня кусочек шоколада. – Мой единственный порок. Шоколад я заказываю в Цюрихе.
– Восхитительный, – сказал я. (Так оно и было.)
– Стиральная машина и сушилка вон там, впрочем, стиркой занимается моя домашняя работница. Она более чем способна справиться и с вашими вещами.
– Мне становится все труднее ответить вам отказом.
– Чего я, собственно, и добиваюсь, – сказала она.
Мы возвратились в гостиную, пересекли ее, направляясь к еще одной двери, и оказались в темном коридоре. У подножия лестницы Альма остановилась.
– Мои комнаты на втором этаже, там же и та, что отведена под телевизор. Если хотите, могу купить для вас второй.
– Вряд ли он мне понадобится.
– Очень хорошо. И должна сделать еще одно признание: я люблюнекоторые программы. Надеюсь, вы не станете слишком строго судить меня за это.
Я улыбнулся:
– Не стану.
– Ну, тогда мне, возможно, удастся уговорить вас составить мне компанию, когда я буду их смотреть.
– Я непременно посмотрю по разу каждую из них.
Альма улыбнулась и повела головой, предлагая мне следовать за ней.
Сначала мы миновали бельевой шкаф («Он весь в вашем распоряжении»), затем вошли в тускло освещенную восьмиугольной формы комнату. Луч послеполуденного солнца, пробиваясь в щель между задернутыми шторами, падал на нотный пюпитр с «Юмореской № 6, соль минор» Сибелиуса. Стоящая наособицу высокая стойка проигрывателя грампластинок с прислонившимся к ней скрипичным футляром; заполненный долгоиграющими пластинками шкафчик с сетчатой дверцей; двухместный диванчик с переброшенным через подлокотник большим шерстяным пледом составляли всю обстановку.
– Мама связала этот плед, когда я была девочкой, – сказала Альма. – Теперь он кажется мне слишком жарким. Но навевает приятные воспоминания.
Она подошла к футляру. Я надумал было помочь ей, однако, решив, что это будет хорошей проверкой Альмы на намерение обратить меня в помощника по дому, остался стоять на месте и с удовольствием увидел, как легко она нагибается и выпрямляется. Она опустила футляр на диванчик. Внутри обнаружилась скрипка, покрытая необычным лаком – красным, почти пурпурным. Альма отложила ее в сторону, открыла маленькое отделение футляра и вынула из него черно-белую фотографию мужчины с бородкой клинышком.
– Мой отец, – сказала она.
Грубоватое, прямоугольное лицо, никаких признаков утонченности Альмы не несшее. Единственным, что напоминало о ней, было его загадочное выражение. Не улыбающееся и не насупленное, оно, пожалуй, говорило лишь о том, что его обладатель может того и гляди наброситься на тебя, и за многие часы наших разговоров я далеко не один раз становился свидетелем (жертвой?) этой ее повадки.
Какое-то время она смотрела на снимок, потом отложила и его.
– Ну что же, вперед.
Коридор разветвлялся. Мы повернули налево, подошли к двум дверям.
– Ваша ванная комната, – сказала Альма.
Главной приманкой была здесь ванна – глубокая, на изогнутых ножках. Мальчиком я любил читать в ванне. Сопротивление мое ослабевало.
– Придется попросить Дакиану навести здесь порядок, – сказала Альма. – Боюсь, эту часть дома она запустила. Примите мои извинения. А вот тут будет ваша комната.
На самом-то деле две комнаты – спальня соединялась с кабинетом. Просторными комнаты не были, но вместе создавали немалое жизненное пространство. Альма включила свет, и я увидел огромную, гладко застеленную кровать, высокий комод на ножках, тумбочку с лампой для чтения. Потолок, как и во многих старых викторианских домах, был низким, с лепным карнизом. Я перешел в обшитый деревянными панелями кабинет – письменный стол, кресло ему под стать, еще одно кресло, уютное, немного потертое.
– Телефона здесь нет. Надеюсь, вам будет не слишком обременительно использовать тот, что на кухне.
Я кивал, впитывая все, что меня окружало. В выходящей на заднюю веранду двери имелось перекрещенное металлическими прутками окошко. Все его стеклышки, кроме одного, были прозрачными, а это одно – расписным. Я наклонился, чтобы получше разглядеть картинку – крошечную охотничью сцену, на которой мужчина и собака замерли на лесной поляне, а за листвой окружавших ее деревьев различались грудь и голова оленя. Мастерство, старина, которыми дышала картинка, зачаровали меня. За окном были видны пара плетеных кресел, айва, тонкий слой покрывшего двор снега. Мысли мои убежали вперед, к лету, – если Альма позволит, я смогу повесить там гамак… Но самое большое наслаждение доставляла мне тишина. Я слышал, как звенит спираль потолочной лампочки.
– Для пущего вашего удобства здесь, я думаю, не помешало бы поставить небольшой обогреватель. Все остальное, полагаю, вполне отвечает вашим нуждам.
Я снова покивал.
– Очень хорошо. А теперь я, с вашего разрешения, покажу вам еще кое-что. – Она повернулась и направилась к коридору. – Уверена, это определит ваше решение.
Мы вернулись к развилке и вошли в другой коридор, оказавшийся еще более темным, мне даже пришлось слегка придерживаться, чтобы сохранить равновесие, за стену. Впереди послышался тихий лязг вставляемого в замочную скважину ключа, затем в коридор вылилась струя теплого желтого света. Я вошел в комнату площадью примерно в тридцать пять квадратных футов. Позднее я сообразил, что когда-то комнат здесь было несколько и пространство их составляло около половины общей площади дома. А в тот раз меня просто-напросто ослепило богатство увиденного: пол, выложенный паркетом «в елочку»; кроваво-красный турецкий ковер; высокий камин с медной, украшенной конскими головами подставкой для поленьев; старинные часы; глобус; древний секретер со скатной крышкой; лампы с ярко раскрашенными абажурами; напольные, в фут высотой, мраморные и бронзовые изваяния мифологических персонажей – Афины, Улисса и иных, не узнанных мной; пара роскошных кресел, а между ними – круглый столик, обтянутый кожей, прибитой медными гвоздиками. Но, главное, книги. Тысячи книг, которые стояли на доходивших до потолка полках, самая бесценная библиотека, какую я когда-либо видел.
– Входите, – сказала Альма.
Я обошел библиотеку, глаза мои застилал туман. Корешки многих книг давно выцвели. Впрочем, я различал оттисненные на них слова – около половины книг были немецкими, остальные английскими, французскими, латинскими и греческими. Философия, литература, музыка, естественные науки, архитектура, история – на полках висели бирки, надписанные тонким, паучьим почерком. В углу библиотеки возвышался старинный ящичек с каталожными карточками. Эта была единственная в доме комната, в которой не стоял ледяной холод, – думаю, ее протапливали, чтобы уберечь страницы книг от иссыхания, – а густые тона ее дерева, сумрачность тканей, присущая ей интимность мгновенно пленили меня.
– На то, чтобы устроить все это, ушло два с половиной года, – сказала Альма. – Думаю, сейчас терпения мне уже не хватило бы.
Я остановился перед камином. Окружавшая его часть стены, не занятая полками, была обита зеленым шелковистым жаккардом. Впрочем, поверхность ткани оставалась почти невидимой, поскольку большую часть места над камином занимала картина, изображавшая ворона, который сидел на черепе, стоявшем, в свой черед, на стопке книг. Ворон держал в клюве ивовый прут и надменно откидывал голову назад – мрачным контрапунктом ярких попугаев гостиной.
Вокруг картины висело около дюжины черно-белых снимков. Альма в летнем платье. Она же с отцом в лодке. С сестрой – обе позируют фотографу на оживленной венской улице, за ними видны размытые движением трамваи и женщины в высоких шляпках. На велосипеде. Среди подруг – шесть девушек, склонившихся над горшочком с фондю, позади на стене висят лыжи. Лица, дома, веселье – обрамленная жизнь. Я стоял, завороженный. Мне хотелось спросить об одной из фотографий. Но выдавить я смог только:
– Это кто же, Хайдеггер?
Вообще говоря, спрашивать было незачем. Немолодой брюзга с похожей на картофелину физиономией: я узнал его сразу. Он замер, набычившись, перед высокой каменной аркой. А слева от него стояла, так близко, что руки их могли бы соприкоснуться, – Альма.
– Конечно. Для него это было хорошее время – он терял вес. – Она хмыкнула. – Моционы Мартин никогда не любил.
Мартин? Это куда же я, простите, попал? И кто она, эта женщина? Я взглянул на нее, но увидел на ее лице только улыбку, достойную Сфинкса.
– Итак, мистер Гейст, я показала вам все, что могла. Добилась ли я успеха, нет ли – решать вам. – Она развела руки в стороны. – Сколько минут вам потребуется, чтобы принять решение?
Девушки, узнав, что я ухожу, расстроились. Я пообещал, что дам им знать, если услышу о ком-то, кто нуждается в комнате (и поражен глухотой, мысленно добавил я).
– А где же прочие ваши вещи? – спросила Альма.
– Все здесь.
– Мистер Гейст. Я и не знала, что вы аскет.
– Kyrie eleison [15]15
Господи помилуй ( греч.).
[Закрыть].
– С маленькой «к», если вы не против.
На моей кровати лежали два больших полотенца и мочалка.
– Если хотите, пользуйтесь стиральной машиной. Если нет, оставляйте белье рядом с ней, Дакиана, когда придет, займется им.
– Огромное вам спасибо.
– Всяческое вам пожалуйста.
Вся моя одежда замечательным образом влезла в комод – еще и место осталось. И хорошо, поскольку стенной шкаф оказался доверху забитым коробками с какими-то бумагами. Установив и включив компьютер, я сообразил, что не потрудился поинтересоваться у Альмы, есть ли у нее подключение к Интернету. Таковое, разумеется, отсутствовало. Я совсем уж было собрался спросить, нельзя ли им обзавестись, но передумал. Мне следовало сначала обосноваться здесь всерьез, а потом уж докучать ей просьбами.
Наверное, я должен был ощущать неудобство от того, что она стояла рядом со мной, наблюдая, как я раскладываю мои вещи. Но по правде сказать, я ее почти и не замечал. То, что она составляет мне компанию, представлялось более чем естественным.
– Ваша диссертация, – сказала она.
– Во всем ее величии. – Я открыл шкаф, затиснул рукопись на верхнюю полку.
– Возможно, я как-нибудь почитаю ее – тайком от вас, – сказала она.
– На ваш страх и риск. Помните, что случилось с моим первым руководителем?
– Я увидела бы в этом свидетельство вашего мастерства, – сказала Альма. – Автор, способный привести читателя на порог смерти, – большая редкость.
В ответ на эти слова я полез в рюкзачок и извлек на свет полголовы Ницше.
– Мистер Гейст! Какое чудо. Я знаю, где это должно стоять.
Она прошла в библиотеку, расчистила самую середку каминной полки.
– Я, разумеется, не настаиваю. Быть может, вы предпочтете держать ее в вашей комнате.
– Здесь она смотрится намного лучше.
– Ну, стало быть, решено. – Она отступила на шаг, чтобы полюбоваться вместе со мной подставкой для книг. – Вкус у вас безупречный. Надо же, какое уродство.
– Спасибо.
– Завтра я дам вам ключи, снимете с них дубликаты для себя. А теперь прошу прощения, но вот-вот начнется моя передача. – Она помолчала. – Если вы не против, присоединяйтесь ко мне.
Мы поднялись наверх. Я насчитал, оказавшись на лестничной площадке, пять дверей, все они были заперты, кроме последней. В нее мы и вошли. Я опустился в кресло-качалку, Альма включила телевизор.
Зазвучала, усиливаясь, музыкальная заставка. На экране появилось название:
ЖИЗНЬ ДАЕТСЯ ТОЛЬКО РАЗ
Альма села в свое кресло и очень сухо произнесла: «Не спешите с выводами, мистер Гейст».
Я улыбнулся и откинулся на спинку кресла, устраиваясь как у себя дома.
Глава девятая
Вскоре после того, как я перебрался в дом сорок девять, снег начал таять и в комнатах стало на несколько градусов теплее, что позволило мне обходиться без куртки. В конце концов я и обогреватель приладился использовать лишь от случая к случаю. Уж слишком исправно он работал: если я оставлял его включенным на ночь, приходилось на несколько дюймов приоткрывать окно.
Распорядок нашего дня был прост. Альма вставала рано, всегда раньше меня, и я, приняв ванну, одевшись и спустившись вниз, находил ее сидящей за кухонным столом с чаем и тостами; из радиоприемника, настроенного на станцию, которая передает классическую музыку, неслись негромкие мелодии Генделя или Бизе. Мы обсуждали газетные заголовки или вместе решали кроссворд. Головоломки, говорила Альма, позволяют ей не глупеть. Кроссворды она больше всего любила криптические, – я их раньше не решал, но освоил довольно быстро.
После завтрака я уходил в библиотеку и несколько часов подряд читал. Одни книги впервые, другие по десятому разу. Многие были слишком хрупкими, их и раскрывать-то было боязно. У Альмы имелись десятки первых изданий, и среди них «Так говорил Заратустра», «Тошнота», «Бытие и время», но одно уж то, что они окружали меня, дарило мне ощущение покоя. Вот причина, по которой я никогда не куплю себе электронную читалку, ведь выстроившиеся в ряд книги – это не просто скопление информации, это карта тех мест, в которых побывал ваш разум, сообщество друзей, молча стоящих рядом, утешая вас. Заключенный в кокон из книг, окруженный ими со всех сторон, я чувствовал себя в безопасности, и все мои невзгоды блекли, а разум словно сбрасывал с плеч хаотическое скопление прожитых лет. Я читаю скорее ради удовольствия, чем ради добычи фактов. Медитацию иногда описывают как «расслабленное бодрствование» – это словосочетание точно передает то, что я ощущаю во время чтения. И чаще всего я читал, растянувшись во весь рост на ковре библиотеки, – то, что мне удавалось лежать, не впадая в дремоту, говорит и об увлечении, с которым я предавался этому занятию, и о крепости чая, который заваривала Альма.
Единственной «книгой», найти которую я не смог, была диссертация Альмы. Поначалу меня это расстроило. Но с другой стороны, моюя ведь тоже от нее прятал. Захочет показать, решил я, покажет. А выведывать да выпытывать – не мое это дело, и, честно говоря, она предоставила мне столько других великолепных возможностей, что просить о большем было бы неблагодарностью.
В полдень я накрывал стол для простого ленча. Альма довольствовалась четвертью плитки шоколада и, грызя его, разговаривала со мной на немецком, единственном языке, который представлялся ей пригодным для рассказов о ее юности. До моего переезда к ней мы беседовали подолгу, но только о философии, так что фрагментарные рассказы Альмы о ее жизни доставляли мне подлинное наслаждение, тем более что со временем я сумел сложить из них связное целое.
Родившаяся в семье музыкальных дел мастеров, она выросла в девятом районе Вены, Альзергрунде, всего в десяти минутах ходьбы от дома Фрейда. Отец ее каждый день уезжал на велосипеде в Оттакринг, там, неподалеку от Гюртель, у него была небольшая фабрика, на которой работало тридцать мастеров, изготавливавших рояли, арфы и клавесины. Альма живо описывала свои посещения этой фабрички: густой, ударявший в голову запах лака, перестук инструментов, мускулистые мужчины в рубашках с короткими рукавами. Отец был заядлым изобретателем и постоянно испытывал устройства, не имевшие к его основному делу никакого отношения.
– Скрипку, которая стоит в музыкальной гостиной, он сделал для меня сразу после моего рождения, – сказала Альма. – И он, и мама умели и изготавливать вещи своими руками, и ценить работу других мастеров. Любовь их друг к другу была, пожалуй, материалистичной, хоть и возвышенно чувственной на свой манер. Я в этом смысле сильно от них отставала, была по натуре их противоположностью. Полагаю, осталась ею и поныне… Ну так вот, скрипка эта попала ко мне словно обвешанной ожиданиями. Думаю, они надеялись, что я вырасту и стану солисткой. Но у меня отсутствовал талант. Усердие, это да, его хватало. Мои учителя вечно твердили, что техника у меня великолепная. И мне пришлось состариться, прежде чем я поняла, что они имели в виду. Сестра как музыкант была на голову выше меня.
– А на чем она играет?
– Играла. На виолончели. Также изготовленной отцом. Но из сестры солистка тоже не получилась – те зачатки честолюбия, какими она обладала, уничтожились ее замужеством.
С ранних лет обе девочки учили английский и французский. Альма, у которой обнаружились способности к языкам, увлеклась античной литературой, и это быстро пробудило в ней интерес к философии. Она в красочных подробностях описывала мне Gymnasium, в которой сдавала экзамены на аттестат зрелости, и Kaffeehaus, куда заглядывала ради пирожных и разговоров. Для молодых и любознательных жителей Вены то было хорошее время. Человек быстро сводил знакомство со всеми – при условии, что он происходил из определенного класса и принадлежал к определенному слою общества, – рассказы Альмы о ее знакомых напоминали мне перекличку, на которую выходят в раю гении и корифеи.
– Рассказывала я вам о моей встрече с Виттгенштейном?
Я покачал головой.
– Его брат, Пауль, – вы ведь знаете, он был пианистом, – так вот, потеряв на войне руку, Пауль заказал отцу клавиатуру, приспособленную к его увечью. Такими уж людьми они были, Виттгенштейны, – откупавшимися от любых проблем. У него также имелись в запасе Равель и Штраус, которые писали ему концерты для левой руки.
Так вот, предполагалось, что клавиатура будет двухуровневой – верхняя половина регистра, скажем, здесь, а басовая под ней. По-моему, отец ее так и не соорудил. Я помню, однако, как Пауль приходил к нам, чтобы обсудить ее устройство. При первом его визите отец попросил меня принести им шнапса, я принесла, и Пауль ущипнул меня за щеку.
Как-то раз он привел с собой еще одного мужчину. Меня этот незнакомец поразил – волосы торчат вверх, глаза вращаются. Пока Пауль разговаривал с отцом, незнакомец то и дело вскакивал, выбегал из кабинета и описывал несколько кругов по вестибюлю, потирая виски и что-то бормоча сам себе, точно сомнамбула. Я сидела на верхней ступеньке лестницы и наблюдала за ним. Он вроде бы и не замечал моего присутствия, но вдруг остановился, взглянул прямо на меня и спросил, чему нас учат в школе. Вы, может быть, помните, одно время он служил сельским учителем. Ну и соответственно, держался в вопросах образования мнений самых строгих. Я рассказала ему о нашей школьной программе, и он принялся поносить меня за ее несовершенство – как будто это я ее и составила.
– Сколько вам было лет?
– Да не больше пяти-шести. Мне он показался каким-то дикарем. Совершенно не умевшим разговаривать с людьми. Я это даже тогда поняла. Его брат вышел на шум из кабинета и закричал: «Черт возьми, Люди. Оставь бедную девочку в покое». Ну, тем все и кончилось. Виттгенштейн бросил на меня взгляд – никогда такой ненависти не видела, – ушел, крадучись, на кухню и просидел там до конца визита.
У меня, пока я ее слушал, понемногу отвисала челюсть.
– О боже.
– Да уж, – сказала Альма. – Странный он был человек.
– Это невероятно.
– О нет, все так и было, уверяю вас.
– Да я не о том – просто я знаю людей, которые пошли бы ради такой встречи на убийство.
– Ну, значит, они глупцы. Давайте не будем числить среди тех немногих вещей, за которые стоит убить, право терпеть наскоки бесцеремонного безумца.
Она прямо и без сожаления сказала мне, что замужем никогда не была – махнула рукой на уговоры родственников и поклонников и решила посмотреть мир, передвигаясь по нему на судах и самолетах, трясясь на давно списанных самыми разными странами джипах, которыми управляли беззубые, вооруженные винтовками мужчины. Китай, Россия, Египет… страны, по которым она, молодая женщина, путешествовала в одиночку, переживали в ту пору нелегкие времена. В пятидесятых-то, а? Мне и представить себе такое путешествие было трудно. В Афганистане она попала под обстрел. В Пенджабе чудом выжила при крушении поезда. В Бирме ее едва не посадили в тюрьму. Она была в Гане в тот день, когда Нкрума провозгласил независимость этой страны, однако празднества пропустила, потому что малярия на месяц приковала ее к больничной койке. «Если соберетесь туда, – сказала Альма, – настаиваю, и в выражениях самых сильных, прихватите с собой накомарник».
В конце концов странствия Альмы привели ее в Соединенные Штаты, и она прожила здесь четыре года, изучая страну. Одним из многих ее приключений стала поездка на мотоцикле из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Она редко останавливалась в каком-либо месте на срок, позволявший завести знакомства. «В этой стране то, чего тебе не удается увидеть, куда интереснее того, что ты видишь», – сказала Альма. В 1963-м она приехала в Кембридж, нашла в частной школе работу – преподавала немецкий язык. Думала провести здесь не больше года, однако, по некоторым причинам, – тут Альма запнулась, – по некоторым причинам осела в городе.
Но как же она скучала по Вене! По культуре этого города, по его образованности, жизни. В Вене, куда ни взгляни, видишь музыку, искусство. И все до невероятия романтично. Как-то раз она попала на вечеринку в дом, хозяину которого принадлежала дюжина Климтов, – так один из них висел у него в кухне, на дверце холодильника. В сезон балов празднества шли один за другим, то были оргии вина и вальсов, продолжавшиеся до пяти утра, когда двери танцзалов распахивались и все высыпали наружу – мужчины врезались в фонарные столбы, женщины, босые, в одних сорочках, бегали по улицам. Те же, кому хватало сил и прозорливости, отправлялись, собравшись с духом, на поиски Katerfrühstück’а– раннего завтрака, состоявшего из соленой селедки и крепкого кофе, каковые гарантировали избавление от смертельного похмелья.
Все это ушло в прошлое. Альма не была в Вене с восьмидесятых, и в последний раз город произвел на нее удручающее впечатление. Ее Вена, настоящая Вена, существовала только в воспоминаниях Альмы, и я понимал: моя задача – предоставить ей чистый холст, на котором она их воспроизведет. Я делал все, что было в моих силах. Восторженно слушал ее, старался задавать умные вопросы, благо немецкий мой стал более беглым. Когда она обмолвилась, что найти настоящий торт «Захер» в Бостоне невозможно, я отправился в компьютерную лабораторию Научного центра, выгрузил из Интернета несколько рецептов и принялся печь по ним торты – по штуке в день, каждый день на протяжении двух недель, пока наконец не ухитрился произвести на свет то, что она, подмигнув, назвала «впечатляющей подделкой». Начиная с того дня я пек этот торт каждый понедельник.
После ленча мы смотрели мыльные оперы. Даже в этом занятии Альма проявляла разборчивость. Помимо «Жизнь дается только раз» она любила «Как вращается мир» и «Путеводный свет». «Больницу общего профиля» Альма отвергала как «неизящную»; «Молодых и дерзких», равно как и «Дерзких и красивых», считала «неправдоподобными». Услышав от нее эту характеристику, я не смог удержаться от смеха. И Альма тоже рассмеялась. «Человеку надлежит упражнять свои критические способности», – сказала она.
Когда смотреть было нечего, я выполнял какие-нибудь ее поручения или снова брался за книгу. В три часа дня она приходила ко мне в библиотеку ради нашей официальной беседы, а после обеда, который Альма заказывала в магазине и который мы всегда съедали на кухне, – никогда в столовой, за обеденным столом, – я отправлялся на длинную прогулку, дабы обдумать все, что прочитал и услышал за день.
Чудесная была жизнь, и спокойная, и волнующая сразу. Если у меня и имелся повод для жалоб, то давала его уборщица, дородная румынка с похожими на караваи грудями и трехмерным родимым пятном на верхней губе. Раз в неделю она приезжала к нам в фургончике «субару», передние фары которого держались на кусках клейкой ленты. Приезжала рано утром, входила в дом через боковую дверь и приступала к старательным попыткам разбудить меня, наделав побольше шума: топала по дому, напевала, подметая полы и вытирая пыль, нечто минорное, останавливаясь лишь для того, чтобы смерить меня злобным взглядом, когда я выползал, намереваясь почистить зубы, из спальни. Ее нелюбовь ко мне была понятной (хотя приятнее от этого не становилась). Я добавил ей работы, а она, как я потом узнал, оплату получала не почасовую, но обговоренную при найме. До моего появления особо утруждать себя ей не приходилось. Теперь же она вынуждена была стирать дополнительную одежду – мужскую – и убираться еще в трех комнатах. Вот она и старалась досадить мне, как только могла, таскаясь за мной по пятам по всему дому, грузно топая, тяжело сопя и напевая. Что бы она ни пела, все отдавало похоронным маршем. Надо полагать, молодость ее, проведенная в Восточном блоке, была невеселой.
Не думаю, что она знала мое имя. Если ей приходилось ссылаться на меня, она прибегала к третьему лицу, а обращаясь непосредственно ко мне, что случалось нечасто, использовала титул «сэр», произнося его как «сиир» – с карикатурным сарказмом. Интересно было бы узнать, кем она меня считала. Молодым любовником? Внуком? Я надумал было пронять ее учтивостью. Благодарил за самые пустячные услуги. Хвалил ее пение. В конце концов она начала встречаться со мной глазами, и я решил, что сумел перебросить мосты через разделявшую нас пропасть, однако на следующей неделе Дакия ввалилась в мою комнату в шесть утра – с ревущим пылесосом наперевес. Я заплетающимся со сна языком велел ей удалиться.
– Извиняйте, сиир, – сказала она и удалилась, хлопнув за собой дверью.
Я сдался и стал уходить в ее рабочие дни из дома, отправлялся просматривать мою электронную почту. Возможность проводить, не заглядывая в электронный ящик, целую неделю доказывала, что я нуждаюсь во внешнем мире гораздо меньше, чем мне представлялось. Просто поразительно, насколько значительную часть того, что сходит у нас за связь, составляет никчемный, если говорить честно, хлам. Я лишился и телефона, и Интернета – и ничего, хуже мне от этого не стало. Ясмина вела, вне всяких сомнений, направленную против меня пропагандистскую кампанию, излагая нашим знакомым свою версию случившегося, так что людей, с которыми мне хотелось бы поговорить, осталось, если не считать Альмы, всего ничего. Приходившие мне по почте приглашения на разного рода мероприятия я игнорировал, да и вообще пристрастился почаще использовать кнопку DELETE. Мир мой сужался, и меня это более чем устраивало.
Каждый из нас живет в собственном ритме, определяющем то, как мы говорим, движемся, взаимодействуем с нашей средой обитания. Есть люди, которые любят на всем оставлять свои следы. Ты входишь в комнату, из которой они только что вышли, и замечаешь, что стулья в ней слегка передвинуты, что абажуры настольных ламп наклонены под иными, нежели прежде, углами. И есть другие, подобные мне, предпочитающие оставаться неприметными. Всю мою взрослую жизнь я провел бок о бок с другими людьми, и ритм мой неизменно приходил в столкновение с ритмами тех, кто меня окружал. Ясмина была единственным исключением. Я уже успел соскучиться по легким синкопам подобного рода и теперь наслаждался ими заново. С Альмой я чувствовал себя и не одиноким, и не затерянным в людской толпе. Она источала спокойную и ровную жизненную энергию, которую я ощущал даже с другого конца дома. Мы постоянно оставались на связи, обмениваясь из смежных комнат шуточками, успокаивая друг дружку звуками наших шагов.
Но каким бы уютным ни было ее соседство, нездоровье Альмы оказывалось пропорционально губительным для этого уюта. В первые проведенные мной в ее доме шесть недель она пережила четыре приступа. Я понимал – случилось неладное, как только выходил из библиотеки и обнаруживал, что дом наполнился странным спокойствием, что согласие наших ритмов нарушено. Какая-либо упорядоченность в ее приступах отсутствовала, и это было особенно невыносимо. Один продлился час, другой с полудня до ночи, и, хотя Альма продолжала твердить, что никакая опасность ей не угрожает, ведь уже на следующий день она поправляется, мне было очень трудно сидеть сложа руки. И потому я страшно обрадовался, услышав от Альмы, что завтра ее посетит врач. Вернувшись в тот день с прогулки, я увидел на подъездной дорожке зеленый «БМВ», за руль которого усаживалась сухопарая женщина.
– Вы, должно быть, новый постоялец. Я – Полетт Карджилл.
Я тоже представился.
– Не знал, что врачи все еще навещают больных на дому.
– Я их не навещаю. Альма – случай исключительный.
– Что верно, то верно. Скажите, с ней все в порядке?
Доктор развела руки в стороны, немного беспомощно. А затем прочитала мне маленькую лекцию о невралгии тройничного нерва и трудностях лечения.
– После операции ей на какое-то время полегчало, это было в две тысячи втором, но примерно через полтора года боли возобновились. Мы поговорили с ней о второй операции. По моему мнению, – и, думаю, Альма с ним согласилась – предпринимать ее не стоит. В возрасте Альмы каждый новый год приводит с собой новый риск осложнений. Операция может принести больше вреда, чем добра. Сейчас наша цель в том, чтобы удерживать боль на переносимом уровне, а не в том, чтобы избавиться от нее. Последнее, боюсь, попросту не реально.
– Она все время повторяет, что ей ничто не грозит.
– Это верно. Собственно, она попросила меня успокоить вас. Говорит, что, чрезмерно волнуясь за нее, вы самого себя до могилы доведете.
– Но у меня действительно есть поводы для волнений.
– Я на вашем месте чувствовала бы то же самое. Однако, если не считать болей, здоровье у нее превосходное. С ее сосудами она и до ста лет проживет.
Мы помолчали, обдумывая то, что следовало из этих слов.







