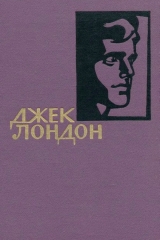
Текст книги "Собрание сочинений в 14 томах. Том 13"
Автор книги: Джек Лондон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 42 страниц)
Глава двадцать первая
Красивая трехмачтовая шхуна «Ариель» совершала кругосветное плавание и вышла из Сан-Франциско за год до того, как Джерри попал к ней на борт. Как мир, и при этом мир белых богов, она казалась ему вне всяких сравнений. Она была больше «Эренджи», и чернокожие не сновали на ней повсюду: и на носу, и на корме, и на палубе, и внизу Джерри нашел на ней только одного чернокожего – Джонни; остальное же ее пространство было заполнено двуногими белыми богами.
Джерри встречал их повсюду: они стояли на вахте у штурвала, мыли палубу, начищали медные части, взбирались на мачты и поднимали паруса. Но боги были разные, и Джерри скоро усвоил, что в иерархии этих белых богов «Ариеля» матросы и прочая судовая команда стояли значительно ниже капитана и его двух помощников, одетых в белое с золотом. А эти, в свою очередь, были ниже Гарлея Кеннана и Виллы Кеннан, ибо им, как быстро обнаружил Джерри, приказания отдавал Гарлей Кеннан. Однако кое-что Джерри не знал, и не суждено было ему это узнать, а именно: кто был верховным божеством на «Ариеле». Эту загадку он и не пытался разрешить, ибо на подобное мышление был неспособен; он так никогда и не узнал, командовал ли Гарлей Кеннан Виллой или Вилла Кеннан Гарлеем. Не утруждая себе голову разрешением этой проблемы, Джерри принял их верховное господство над миром как дуалистическое. Ни один не превосходил другого. Казалось, они правили как равные, а все остальные перед ними склонялись.
Неверно, будто необходимо кормить собаку, чтобы завоевать собачье сердце. Гарлей и Вилла никогда не кормили Джерри; однако их он избрал своими господами, их пожелал любить и им служить, а не японцу-баталеру, аккуратно его кормившему. Дело в том, что Джерри, как и всякая собака, умел уловить разницу между тем, кто дает ему есть, и тем, кто приказывает его кормить. Подсознательно он понимал, что не только его собственная кормежка, но и пропитание всех на борту зависит от мужчины и женщины. Это они всех кормили и всеми управляли. Капитан Винтере мог отдавать приказания матросам, но сам получал приказания от Гарлея Кеннана. Джерри был в этом убежден и действовал соответственно, хотя это никогда сознательно не приходило ему в голову.
И как всегда – как это было с мистером Хаггином, со шкипером и даже с Башти и верховным колдуном Сомо – Джерри привязался к старшим богам, а со стороны низших богов принимал соответствующие знаки внимания. Как шкипер на «Эренджи» и Башти Сомо провозгласили табу на Джерри, так и владельцы «Ариеля» защитили его табу. Пищу Джерри получал от Сано, японца-баталера, – и только от него. Ни один матрос не смел ему предложить кусочек сухаря или пригласить на берег пробежаться, а Джерри не мог принять такое предложение. Но они и не предлагали. Не разрешалось им и фамильярничать с Джерри, затеять с ним игру или позвать его свистом.
Джерри по натуре своей был собакой «одного господина», а потому все это было для него очень приемлемо. Конечно, намечались известные градации, но никто не разбирался в них с такой тонкостью и точностью, как сам Джерри. Так, обоим помощникам разрешалось приветствовать его словом «Алло!» и даже дружески погладить по голове. А с капитаном Винтерсом допускалась большая фамильярность. Капитан Винтере мог трепать его за уши, здороваться с ним за лапу, чесать ему спину и даже хватать за морду. Но капитан Винтере неизменно оставлял его в покое, когда на палубе показывались Кеннаны.
Что касается вольностей очаровательных и шаловливых – только Джерри, одному из всех находившихся на борту, разрешалось вольничать с мужем и женой, а с другой стороны – только им двоим и он позволял такие же вольности. Всякую выходку, какая приходила на ум Вилле Кеннан, он принимал, замирая от счастья; так, например, она завертывала ему внутрь уши и одновременно заставляла его служить; чтобы сохранить равновесие, он беспомощно махал передними лапами, а она шутливо дула ему в нос. Такими же вольными были и шутки Гарлея Кеннана; застав Джерри сладко спящим на подоле юбки Виллы, он начинал щекотать ему между пальцами. Джерри бессознательно отбрыкивался во сне, а проснувшись, слышал взрыв смеха по своему адресу.
По вечерам на палубе Вилла шевелила пальцами под одеялом, подражая какому-то странному ползущему животному, а Джерри прикидывался одураченным и приводил в полный беспорядок ее постель, яростно накидываясь на крадущееся животное, хотя прекрасно знал, что это были всего-навсего ее пальцы. К взрывам ее смеха примешивались возгласы почти подлинного испуга, когда Джерри едва не хватал ее зубами за ногу, и дело всегда кончалось тем, что Вилла заключала его в свои объятия, и замиравший смех щекотал ему уши, любовно прижатые назад. Кто еще из находившихся на борту «Ариеля» дерзнул бы так безобразничать на постели богини? Этого вопроса Джерри себе не задавал; однако он прекрасно понимал, какими исключительными милостями пользуется.
Еще одну вольную шалость Джерри придумал случайно. Как-то он любовно подсунул морду к ее лицу и нечаянно ткнулся своим твердым носом с такой силой, что она вскрикнула и отшатнулась. А когда это случилось вторично, он уже сознательно отметил, какое впечатление это производит на Виллу, и с тех пор всякий раз, как она начинала слишком вольно над ним подшучивать и дразнить его, он совался мордой в ее лицо, заставляя ее откидывать голову. Вскоре он убедился, что своей настойчивостью может заставить Виллу сдаться: она прижимала его к себе, и ее журчащий смех лился прямо ему в уши; и с той поры он упорно играл свою роль, пока не добивался такой восхитительной капитуляции и радостной развязки игры.
В этой игре гораздо больнее приходилось его нежному носу, чем ее подбородку или щеке, но и сама боль доставляла ему удовольствие. Все это было шуткой, и вдобавок еще любовной шуткой. Такая боль казалась ему счастьем.
Все собаки поклоняются божеству. Джерри оказался счастливее большинства собак: он обрел любовь двух богов; хотя они и командовали им, но и любили сильнее. Правда, нос его угрожал ударить щеку возлюбленного бога, но Джерри скорей отдал бы по капле всю кровь своего сердца, чем согласился сделать больно. Он жил не ради куска хлеба, не ради пристанища, не ради уютного местечка в мире, окутанном мраком. Он жил ради любви. И за любовь он готов был умереть с такою же радостью, с какою жил ради любви.
В Сомо воспоминания о шкипере и мистере Хаггине не скоро могли стереться. Жизнь в деревне каннибалов не удовлетворяла Джерри. Слишком мало было там любви. Только любовь может изгладить память о любви, или, вернее, боль утраченной любви. А на борту «Ариеля» этот процесс совершался быстро. Джерри не забыл шкипера и мистера Хаггина. Но в те минуты, когда он их вспоминал, тоска по ним была менее острой и мучительной. Он стал реже вспоминать их и видеть во сне, а сны Джерри, как и всех собак, были отчетливые и яркие.
Глава двадцать вторая
Яхта «Ариель» лениво двигалась на север вдоль подветренного берега Малаиты, прокладывая себе путь по красочной лагуне, окаймленной рифами. Яхта дерзала проходить в такие узкие, усеянные кораллами проливы, что у капитана Винтерса, по его словам, с каждым днем прибавлялась новая тысяча седых волос на голове. Якорь отдавали у каждого укрепленного кораллового островка и у каждого мангиферового болота, где могли селиться каннибалы. Гарлею и Вилле Кеннан некуда было спешить. Пока путешествие их занимало, они не беспокоились о том, сколько времени тянется переезд с одного места на другое.
За это время Джерри усвоил свое новое имя – вернее, целую серию имен. Это объяснялось тем, что Гарлею Кеннану не хотелось давать ему новую кличку.
– Какое-нибудь имя у него было, – убеждал он Виллу. – Хаггин, несомненно, дал ему кличку, перед тем как отправить на «Эренджи». Пусть уж он останется безымянным, пока мы не вернемся в Тулаги и не узнаем его настоящего имени.
– Велика важность – имя! – стала поддразнивать Вилла.
– Это очень важно. Представь себе, что ты потерпела кораблекрушение и твои спасители называют тебя миссис «Ригге», или мадемуазель «де Мопен», или просто – «Топси». А меня – «Бенедикт Арнольд», или «Иуда», или… или «Аман». Нет, пусть остается без имени, пока мы не узнаем его первоначальной клички.
– Но должна же я как-нибудь его называть, – не соглашалась Вилла. – Иначе как я буду о нем думать?
– Ну, так давай ему разные клички, но никогда не повторяй одной и той же. Называй его сегодня «Пес», завтра – «Мистер Пес», а послезавтра как-нибудь иначе.
И с тех пор, угадывая скорее по тону, ударению и по обстоятельствам момента, Джерри стал смутно отождествлять себя с кличками: Пес, Мистер Пес, Авантюрист, Силач, Глупыш, Безымянный и Горячее Сердце. То были лишь несколько из многочисленных прозвищ, расточаемых Виллой. Гарлей, в свою очередь, называл его: Мужественный Пес, Неподкупный, Некто, Грешник, Золотой, Сатрап Южных Морей, Немврод, Юный Ник и Убийца Львов. Короче, и муж и жена соперничали друг с другом, давая ему всевозможные имена и никогда не повторяясь. А Джерри, не столько по звукам и слогам, сколько по любовной интонации, быстро научился отождествлять себя со всяким новым прозвищем. Он больше не думал о себе, как о Джерри, и своим именем признавал всякое слово, звучащее ласково и любовно.
Большим разочарованием – если только можно считать разочарованием неосознанную неудачу-окончилась его попытка разговаривать. Ни один человек на борту, не исключая Гарлея и Виллы, не говорил на языке Наласу. Весь богатый словарь Джерри и его умение пользоваться им, какое могло выдвинуть его как феномен из среды всех прочих собак, тратились зря на борту «Ариеля». Обитатели «Ариеля» не понимали и не догадывались о существовании стенографического языка, какому обучил его Наласу, и со смертью Наласу этот язык знал во всем мире один только Джерри.
Тщетно пытался Джерри разговаривать с богиней. Сидя перед ней и положив вытянутую голову на ее руки, он говорил и говорил, но ни разу не услышал от нее ответного слова. Еле слышно повизгивая, скуля, сопя, издавая горлом разнообразные звуки, он старался рассказать ей что-нибудь из своей жизни. Она вся была воплощенное внимание: так близко подставляла ухо к его рту, словно хотела утопить его в струящемся благоухании своих волос, и все же ее мозг не воспринимал его речи, хотя сердцем она, несомненно, чуяла его намерение.
– Боже мой, муженек! – восклицала она. – Ведь Пес говорит. Я знаю, что он говорит. Он мне рассказывает всю свою жизнь. Я знала бы о нем все, если бы могла понять. Но мои несчастные несовершенные уши ничего не улавливают.
Гарлей отнесся скептически, но женская интуиция ее не обманывала.
– Я в этом уверена! – убеждала она мужа. – Говорю тебе, он мог бы рассказать нам историю всех своих приключений, если бы мы его понимали. Ни одна собака не разговаривала так со мной. Это настоящий рассказ. Я чувствую все его оттенки. Иногда я почти уверена, что он говорит о радости, о любви, о великих битвах. А потом слышится негодование, оскорбленная гордость, отчаяние и печаль.
– Ну, естественно, – спокойно согласился Гарлей. – Собака белых, заброшенная к антропофагам на остров Малаиту, несомненно, испытывала подобные чувства; и так же естественно жена белого человека, женушка, очаровательная женщина Вилла Кеннан, может себе представить переживания собаки и найти в ее бессмысленном визге рассказ об этих переживаниях, не замечая, что все это лишь ее собственная очаровательная, милая выдумка. Песня моря срывается с губ раковины… Вздор! Человек сам создает песню моря и приписывает ее раковине.
– А все-таки…
– А все-таки ты права, – галантно перебил он. – Всегда права, в особенности когда коренным образом ошибаешься. Разумеется, оставим в стороне таблицу умножения или мореплавание, где сама реальность ведет судно среди скал и отмелей; но в остальном ты права, тебе доступна сверхистина, которая выше всего, а именно, истина интуитивная.
– Вот ты теперь меня высмеиваешь с высоты своей мужской мудрости, – возразила Вилла. – Но я знаю… Она приостановилась, ища слова посильнее, но слова изменили ей, и она прижала руку к сердцу с таким авторитетным видом, что все слова оказались лишними.
– Согласен, преклоняюсь, – весело рассмеялся он. – Это именно то, что я сказал. Наши сердца почти всегда могут переспорить наши головы. А лучше всего то, что наши сердца всегда правы – вопреки статистике, утверждающей, будто они большей частью ошибаются.
Гарлей Кеннан так никогда и не поверил рассказу своей жены о повествовательных способностях Джерри. И всю свою жизнь, до последнего дня, считал это милой фантазией, поэтическим вымыслом Виллы.
Но Джерри, гладкошерстный ирландский терьер, действительно обладал даром речи… Хотя он и не мог обучать других, но сам был способен изучать языки. Без всяких усилий, быстро, даже не обучаясь, он стал усваивать язык «Ариеля». К несчастью, то не был урчащий и придыхательный язык, доступный собакам, какой изобрел Наласу, и Джерри, научившись понимать многое из того, что говорилось на «Ариеле», сам не мог воспроизвести ни слова. Для богини у него было по меньшей мере три имени: «Вилла», «Женушка» и «Миссис Кеннан», ибо так называли ее окружающие. Но он не мог называть ее этими именами. То был исключительно язык богов, и говорить на нем могли только боги. Он не походил на язык, изобретенный Наласу и являвшийся компромиссом между речью собак и речью богов, так что бог и собака могли между собой разговаривать.
Таким же образом выучил Джерри и различные имена мужского божества: «Мистер Кеннан», «Гарлей», «капитан Кеннан» и «Шкипер». И только присутствуя третьим в их интимном кругу, Джерри узнал другие имена: «Муженек», «Супруг», «Дорогой», «Возлюбленный», «Мое сокровище». Но никоим образом не мог Джерри выговорить эти имена.
Однако в спокойную ночь, когда ветер не шелестел в кустах, Джерри часто шепотом называл по имени Наласу.
Однажды Вилла, распустив волосы, мокрые после купания в море, сжала обеими руками морду Джерри и, наклонившись к нему так близко, что он почти мог коснуться языком ее носа, стала напевать: «Не знаю, как его назвать, но он похож на розу!»
На другой день она повторила эту фразу и пропела почти всю песенку в самые его уши. А в разгар пения Джерри удивил ее. Пожалуй, с не меньшим правом можно сказать, что он и сам удивился. Сознательно он никогда еще так не поступал. И сделал он это без всякого умысла. Он вовсе не намеревался это делать. В самом поступке заключалось принуждение его совершить. От этого поступка он не мог воздержаться, как не мог не отряхнуться после купания или не брыкнуть во сне ногой, если его щекочут.
Когда ее голос стал мягко вибрировать, Джерри показалось, что она обволакивается перед его глазами какой-то дымкой, а сам он под влиянием нежного, томительного напева переносится в какое-то другое место. И тут он сделал удивительную вещь. Он резко, почти судорожно присел, высвободил морду из ее рук и опутывавшей паутины распущенных волос и, подняв нос кверху под углом в сорок пять градусов, начал дрожать и громко дышать под ритм ее песни. Затем так же судорожно он вздернул нос к зениту, и поток звуков полился кверху, вздымаясь и медленно ослабевая до полного замирания.
Этот вой послужил началом, и за него Джерри получил кличку «Певчий песик-дурачок». Вилла Кеннан обратила внимание на завывания, вызывавшиеся ее пением, и сейчас же занялась их развитием. Джерри всегда повиновался, когда она, усевшись, ласково протягивала к нему руки и приглашала: «Иди сюда, Певчий песик-дурачок». Он подходил, садился так, что благоухание ее волос щекотало ему ноздри, мордой прижимался к ее щеке, а нос поднимал кверху около ее уха и при первых же звуках ее тихой песни начинал вторить. Минорные мотивы особенно его провоцировали, а раз начав, он пел с ней, сколько ей хотелось.
И это действительно было пение. Способный ко всем видам звукоподражания, он быстро научился смягчать и понижать свой вой, пока он не становился мелодичным и бархатистым. И вой этот замирал чуть ли не до шепота, вздымался и падал, то ускоряя, то замедляя темп, повинуясь ее голосу.
Джерри наслаждался пением, как курильщик опиума своими грезами. Он грезил смутно, грезил наяву, с широко раскрытыми глазами, а волосы богини благоуханным облаком его окутывали, ее голос заунывно ему вторил, его сознание тонуло в грезах о нездешнем, долетавшем к нему из песни. Ему вспомнилось страдание, но страдание давно забытое и потому переставшее быть болью. Оно наполняло его сладостной грустью и уносило с «Ариеля» (ставшего на якорь в какой-нибудь коралловой лагуне) в нереальную страну, в нездешний мир.
И в такие минуты перед ним вставали видения. Казалось, он сидит в холодном мраке ночи на пустынном холме и воет на звезды, а из темноты, издалека, несется к нему ответный вой. И поднимаются другие зазывания – вблизи и вдалеке, – пока ночь не зазвучит родными ему голосами. То родня его. Сам того не зная, он приобщался к «нездешнему миру».
Наласу, обучая его языку сопения и урчания, намеренно обратился к его рассудку; а Вилла, не зная, что она делает, нашла путь к его сердцу и к сердцу его предков, затронув глубочайшие струны воспоминаний о далеком прошлом и заставив их вибрировать.
Вот пример: смутные образы являлись ему иногда из ночи, как призраки, скользили мимо, и он слышал, словно во сне, охотничьи крики собачьей стаи; пульс его ускорялся, пробуждался его охотничий инстинкт, и сдержанное, мягкое подвывание переходило в страстный визг. Его голова опускалась, освобождаясь от паутины женских волос, ноги начинали беспокойно, судорожно подергиваться, словно порываясь бежать, и в одну секунду он уносился прочь и летел по лику времени из реальности в сон.
И подобно тому, как люди вечно жаждут зелья из мака и конопли, так и Джерри тянулся к радостям, выпадавшим на его долю, когда Вилла Кеннан открывала ему свои объятия, окутывала паутиной волос и пением уносила его сквозь время и пространство в сон, к его древним предкам.
Не всегда, однако, испытывал Джерри эти ощущения, когда они пели вместе. Обычно видения ему не являлись, и он переживал лишь смутные, сладостно-грустные настроения, похожие на тени воспоминаний. Иногда, под влиянием этой грусти, всплывали в его мозгу образы шкипера и мистера Хаггина, образы Терренса, и Бидди, и Майкла, и видения давно исчезнувшей жизни на плантациях Мериндж.
– Дорогая моя, – сказал однажды Гарлей, – счастье для Джерри, что ты не дрессировщица животных, а то ведь твое имя не сходило бы с афиш мюзик-холлов и цирков всего земного шара.
– Ну, что ж! – ответила она. – Я уверена, что он бы с восторгом выступал со мной…
– Что было бы в высшей степени необычайно, – перебил Гарлей.
– Почему?
– Один шанс из ста, что животное любит свою работу или пользуется любовью своего дрессировщика.
– Я думала, что со всякой жестокостью в этой области давным-давно покончено, – сказала Вилла.
– И публика так думает, но в девяноста девяти случаях публика ошибается.
Вилла глубоко вздохнула.
– Пожалуй, придется мне бросить такую соблазнительную и прибыльную карьеру в тот самый момент, когда ты ее для меня открыл. А как великолепно выглядели бы афиши и мое имя огромными буквами…
– Вилла Кеннан, певица с голосом дрозда, и Певчий песик-дурачок, ирландский терьер, тенор, – процитировал Гарлей заглавные строки афиши.
И Джерри, высунув язык, с бегающими глазами, присоединился к смеху. Он не знал, над кем смеются, но по смеху понял, что они счастливы, а любовь побуждала его радоваться вместе с ними.
Джерри нашел то, чего жаждал существом, – любовь божества. И он любил обоих богов, признав их совместное господство на «Ариеле». Но, пожалуй, женское божество он любил больше. Такой любви он никогда еще не испытывал, не исключая и его любви к шкиперу, а объяснялось это тем, что она проникла в глубочайшие тайники его сердца своим волшебным голосом, уносившим Джерри в нездешнюю страну.
Глава двадцать третья
Джерри вскоре узнал, что на борту «Ариеля» преследовать негров не полагается. Горя желанием понравиться и услужить своим новым богам, он воспользовался первым удобным случаем и набросился на чернокожих, которые, подъехав в пироге, поднялись на борт. Восклицание Виллы и повелительный оклик Гарлея заставили его в недоумении остановиться. Глубоко убежденный, что ошибся, Джерри снова стал бесноваться вокруг одного высмотренного им чернокожего. На этот раз голос Гарлея звучал сурово, и Джерри подошел к нему, виляя хвостом и извиваясь всем телом, словно умоляя о прощении, и лизнул своим розовым языком погладившую его руку.
Затем Вилла подозвала его к себе. Зажав руками его морду и близко к нему наклонившись, она серьезно заговорила о том, что преследовать негров грешно. Ведь он, говорила Вилла, не простая лесная собака, а кровный ирландский джентльмен, которому не подобает заниматься таким делом, как травля бездомных чернокожих. Все это он выслушал сосредоточенно, не мигая, и хотя понимал мало, но чутьем постиг все. Из языка, на каком говорили на «Ариеле», он уже усвоил слово «нехороший», а Вилла повторила это слово несколько раз. «Нехороший» он понимал как «нельзя», и для него этим словом установилось табу. Раз таковы их обычаи и желания, то может ли он нарушать их? Если негров травить нельзя, – он этого делать не станет, несмотря на то, что шкипер, бывало, сам его натравливал. Разумеется, Джерри обсуждал этот вопрос не в таких выражениях, а по-своему, но выводы были те же.
Для него любовь к богу требовала служения. Ему нравилось служением снискивать любовь. А в его положении краеугольным камнем служения было послушание. Однако первое время ему стоило величайших усилий не рычать и не кусать за ноги чужих и самоуверенных чернокожих, проходивших мимо него по белой палубе «Ариеля».
Но Джерри суждено было увидеть и иные времена. Настал день, когда Вилла Кеннан пожелала выкупаться по-настоящему, в свежей текучей пресной воде, и тут Джонни, чернокожий лоцман из Тулаги, совершил ошибку. На карте была нанесена только одна миля реки Сули, впадающей в море, ибо белые еще не исследовали ее выше. Когда Вилла заговорила о купании, ее муж посоветовался с Джонни. Джонни покачал головой.
– Нет черных парней в этом месте, – сказал он. – Не будет вам беда. Лесной парень отсюда далеко.
К берегу пристал баркас, матросы развалились в тени прибрежных кокосовых пальм, а Вилла, Гарлей и Джерри прошли с четверть мили вверх по реке до первого удобного для купания местечка.
– Все-таки нужно принять меры предосторожности, – сказал Гарлей, вынимая из кобуры свой автоматический пистолет и кладя его поверх одежды. – Чернокожая братия может на нас наткнуться.
Вилла вошла по колени в воду, взглянула вверх, на темный свод джунглей, едва пропускавший лучи солнца, и содрогнулась.
– Самая подходящая обстановка для темного дела, – улыбнулась она и, набрав в ладонь прохладной воды, плеснула в мужа. Тот бросился за ней в погоню.
Некоторое время Джерри сидел подле их одежды и следил за купальщиками. Затем его внимание привлекла мелькнувшая тень огромной бабочки, а вскоре он уже выслеживал по джунглям лесную крысу. То был не особенно свежий след. Джерри прекрасно это знал, но в нем хранились все древние инстинкты, побуждавшие его охотиться, красться, преследовать живые существа – короче, вести игру, будто он сам добывает себе пропитание, хотя уже в течение веков его предков кормил человек.
Он развивал способности, в каких он уже и не нуждался, хотя они все еще в нем жили и стремились пробиться. И сейчас он шел по следу давно пробежавшей лесной крысы, крался неслышно, словно настоящий охотник за дичью, и с точностью определял запах. Этот след пересекался другим следом – свежим, совсем недавним. Джерри резко повернул голову под прямым углом направо – так резко, словно его дернули за веревку. Он носом почуял несомненный запах чернокожего. И то был совершенно незнакомый ему чернокожий, так как запах его не совпадал с воспоминаниями о тех неграх, каких он раньше встречал.
Забыт был след лесной крысы, и Джерри бросился по новому следу. К этому побуждало его любопытство и увлечение игрой. Ему в голову не приходило бояться за Виллу и Гарлея – даже когда он дошел до того места, где чернокожий, видимо, услышав их голоса, остановился в нерешимости и где его следы сохранили особенно сильный запах. Отсюда след резко сворачивал к реке. Нервно напряженный и внимательный, все еще не тревожась, а только продолжая играть в слежку, Джерри побежал по следу.
Время от времени с реки доносились возгласы и смех, и, заслышав их, Джерри всякий раз испытывал радостный трепет. Если бы его спросили и он сумел бы выразить свои ощущения, он бы сказал, что самый приятный звук в мире – звук голоса Виллы Кеннан, а затем – Гарлея Кеннана. Их голоса всегда приводили его в трепет, напоминая о том, как он их любит и как они любят его.
При первом же взгляде на незнакомого негра, остановившегося у самой воды, в Джерри проснулись подозрения. Негр держался не так, как полагается обыкновенному чернокожему, не замышляющему ничего дурного. Напротив, все его движения обличали человека, действующего с преступным замыслом. Присев на ковер джунглей, негр выглядывал из-за большого корня дерева. Джерри ощетинился, тоже припал к земле и стал наблюдать.
Один раз чернокожий поднял было ружье к плечу, но ничего не подозревающие жертвы с плеском и хохотом скрылись, по-видимому, из поля его зрения. А ружье у него было не снайдеровское, довольно уже устарелое, а современный автоматический винчестер. И негр, по-видимому, привык стрелять с плеча, а не держа приклад у бедра, как большинство малаитян.
Недовольный своей позицией у дерева, он опустил ружье и пополз ближе к воде. Джерри приник к земле и последовал за ним. Приник он так низко, что голова, горизонтально вытянутая вперед, была значительно ниже плеч, которые странно возвышались над всем туловищем. Когда чернокожий останавливался, немедленно останавливался и Джерри – словно примерзал к земле. Когда чернокожий снова трогался в путь – полз и Джерри, но быстрее, сокращая разделявшее их расстояние. И все время шерсть на шее и плечах щетинилась под наплывом ярости и злобы. То была не золотистая собака с прижатыми ушами и смеющейся мордой, нежащаяся в объятиях богини, не Певчий песик-дурачок, гpeзящий в облачной паутине ее волос, но четвероногое воинственное существо, боец с оскаленными клыками, которые рвут и уничтожают.
Джерри намеревался перейти в атаку, как только подползет достаточно близко. Он забыл о табу, усвоенном на «Ариеле» и воспрещающем травлю негров. В этот момент в его сознании не оставалось места для табу. Знал он только, что беда грозит мужчине и женщине, грозит со стороны этого негра.
Джерри почти нагнал свою добычу, и когда чернокожий присел и поднял ружье, Джерри счел момент благоприятным для прыжка. Ружье почти коснулось плеча, когда он прыгнул вперед. Прыгая, он не произвел ни малейшего звука, и его жертва почувствовала его присутствие, только когда тело Джерри, мелькнув, как снаряд, очутилось между лопатками чернокожего. В ту же секунду зубы Джерри вонзились в шею, но слишком близко к основанию, в крепкие плечевые мышцы, так что клыки не задели спинного мозга.
Чернокожий, ошеломленный и испуганный, нажал спуск, и из груди его вырвался дикий вопль. Отдача была так сильна, что он перевернулся и сцепился с Джерри, который куснул его за скулу и за щеку и полоснул ухо: ирландские терьеры обычно кусают быстро и часто, а не мертвой хваткой, как бульдоги.
Когда Гарлей Кеннан, с револьвером в руке и нагой, как Адам, прибежал на место сражения, собака и человек, сцепившись, катались по лесному чернозему. Негр, по лицу которого струилась кровь, обеими руками сжимал шею Джерри, а Джерри, сопя, задыхаясь и рыча, изо всех сил отбрыкивался и царапался когтями задних лап. То были когти не щенка, а взрослого мускулистого пса. Джерри все время царапал ими обнаженную грудь и живот, покрасневшие от струившейся крови.
Гарлей Кеннан стрелять не решался, так как противники слишком тесно переплелись. Вместо того он, подойдя вплотную, ударил негра по голове рукояткой револьвера. Оглушенный негр разжал руки, а Джерри в одну секунду кинулся к выпятившемуся горлу, и только рука Гарлея, схватившая его за загривок, и резкий окрик заставили его отступить. Он дрожал от бешенства и продолжал яростно рычать, но все же прижимал уши, вилял хвостом и вскидывал глаза на Гарлея, когда тот говорил: «Молодчина!».
Джерри знал, что «молодчина» означает похвалу. Гарлей несколько раз повторил это слово, и Джерри убедился, что оказал своему господину услугу, и услугу немалую.
– Знаешь, негодяй хотел пристрелить нас из-за кустов, – обратился Гарлей к Вилле, когда та, на ходу одеваясь, присоединилась к нему. – Здесь не больше пятидесяти шагов, он не мог промахнуться. И посмотри, какой у него винчестер. Это не какая-нибудь старая гладкостволка. Раз у парня такое ружье, уж он умеет им пользоваться.
– Почему же он нас не пристрелил? – осведомилась Вилла.
Гарлей указал на Джерри.
У Виллы глаза вспыхнули, когда она поняла.
– Что ты говоришь?.. – начала она. Он кивнул.
– Вот именно. Певчий песик-дурачок ему помешал. – Гарлей наклонился, перевернул чернокожего и увидел разодранную шею.
– Вот куда он его цапнул, а тот, должно быть, держал пальцы на спуске, целясь в нас, – вероятно, в меня первого, – когда Певчий песик-дурачок смешал ему все карты.
Но Вилла почти не слушала, она обнимала Джерри, называя его «своим дорогим песиком», и старалась утишить его рычание и пригладить все еще ерошившуюся шерсть.
Но Джерри снова зарычал и собрался прыгнуть на чернокожего, когда тот беспокойно зашевелился и сел, все еще оглушенный. Гарлей выдернул у него нож, засунутый между поясом и голым телом.
– Как звать? – спросил он.
Но негр видел только одного Джерри, изумленно таращил на него глаза, пока не уяснил себе положения и не понял, что этот маленький неуклюжий пес испортил ему игру.
– Мой говорит, – ухмыляясь, обратился он к Гарлею, – этот собака здорово моего поймал.
Ощупывая раны на шее и на лице, он увидел, что белый завладел его ружьем.
– Отдай мое ружье, – дерзко сказал он.
– Я тебе им голову прошибу, – ответил Гарлей. – По-моему, этот парень не похож на малаитянина, – обратился он к Вилле. – Прежде всего, где он достал такое ружье? И подумай, что за дерзость? Он должен был видеть, как мы стали на якорь, и знал, что наш баркас стоит у берега. И все же он хотел захватить наши головы и удрать с ними в лес… Как звать? – снова обратился он к негру.







