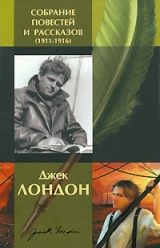
Текст книги "Письма Кэмптона — Уэсу"
Автор книги: Джек Лондон
Жанр:
Эпистолярная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
XXIV
ГЕРБЕРТ УЭС – ДЭНУ КЭМПТОНУ
Ридж.
Беркли – Калифорния.
1 июля 19… г.
Вы можете прочесть где-то у Уорда: «Мы должны постоянно помнить о том, что прогресс состоит в произвольном изменении нормальных условий природы трудом и изобретениями человека; таким образом, цивилизация всецело является искусственным построением». Не правда ли, Дэн, это положение достаточно широкое, чтобы на нем нужно было построить свою социологию? Но, во-первых, я должен спросить вас: считаете ли вы это определение правильным? Во-вторых, поняли ли вы и оценили ли колоссальное его значение? А в-третьих, как вы согласуете с этим вашу философию любви?
Романтическая любовь, конечно, неестественна. Это искусственное построение, ошибочно и бессознательно введенное человеком в естественный порядок вещей. Вы находите такое заключение излишне смелым. Посмотрим. В естественном своем виде любовь является стремлением к воспроизведению, лишенным всякого воображения. Самец владеет хватательными органами и большей силой, чем самка. Он преследует самку, но она представляет для него лишь прелесть добычи. Его неудержимо влечет к ней. Благодаря хватательным органам и большей силе он захватывает самок своей породы и уводит к себе. Но жизнь медленно пробирается вверх, организм усложняется и по необходимости становится разумнее. Искусственная жизнь началась в тот самый день, когда некий забытый изобретатель древнего мира ударил своего соперника или врага сломанным сучком, остался доволен результатом и усвоил себе привычку бить соперников и врагов палкой. Тогда, в тот самый день началась революция, которой предстояло изменить всю историю Земли. Тогда, в тот самый день, был заложен краеугольный камень величайшей искусственности – цивилизации.
Проследим ее ход. Наш обезьяноподобный, живший на деревьях предок вступил на первый из коротких путей, ведущих прямо к цели. Разбивание мозговой кости камнем было прообразом современных орудий, и между разбиванием мозговой кости и ездой на автомобиле разница только в степени. Первое естественно и первобытно, второе – искусственно и современно. Вот и все. Это только попытки улучшения естественных условий. Первые изобретатели усвоили себе правдивый парадокс: «Кружной путь ведет скорее к цели» и, оставив непосредственную погоню за счастьем по прямому пути, отправились кружной дорогой. Если в задачу дикаря входило переплыть обширную водную поверхность, он не пускался вплавь, но поворачивался к воде спиной, выбирал себе в лесу подходящее дерево, обтесывал его своими грубыми орудиями, выжигал сердцевину огнем, затем спускал лодку на воду и греб, куда ему хотелось.
Теперь о любви. В природе – это инстинктивное стремление, и больше ничего. Ни о какой романтике нет и помина. Но жизнь развивается, и люди, жившие стадами, образуют невиданные до того общественные группы. Возьмем, например, семью. Эта группа становится самостоятельной единицей. Благодаря групповому подразделению человеку легче добиваться благополучия. Но структура группы должна получить какие-то правовые нормы; потому человек устанавливает правила, законы, неясные нравственные обязательства для регулирования поведения отдельных членов группы. Половые связи упорядочены. Круг семьи замыкается. А порядок и замкнутость порождают чувства уважения и благоговения.
Но жизнь развивается дальше, и семейная группа входит в союз групп. Соответственно этому меняются правила и законы, пока брачные узы не создают своей истории и не начинают строиться на традициях. Эта история и эти традиции образуют некоторый запасный фонд, а меняющиеся условия и растущее воображение постоянно пополняют его. И традиции тяжело ложатся на отдельного человека, подавляя естественное выражение любовного инстинкта и принуждая всякую особь выражать этот инстинкт в искусственных формах. Человек любит уже не так, как любили его дикие предки, но так, как принято любить в его группе. Способы выражения любви его группы определяются ее традициями. Если он сравнивает очи возлюбленной со звездами – это старый прием, полученный по наследству. Если он поет серенаду под ее окном или пишет оду в честь ее красоты – его отец до него проделывал то же самое. В его голосе звучат голоса миллиардов влюбленных, давно умерших и давно обратившихся в прах. Певцы тысяч песен призрачным хором подпевают его песне любви. Его мысли и его чувства принадлежат не ему, а бесчисленным любовникам, жившим и любившим до него и передавшим своюжизнь и любовь потомству. Они передали ему непонимание явлений и безумные представления, а также нелепые измышления и сентиментальные ухаживания. Если бы не эротическая литература, истории великой любви и великих любовников, венок любовных песен и баллад, если бы не тысячи рассказов о любовных приключениях и происшествиях, если бы не этот фонд, являющийся собственностью группы, – человек не мог бы любить так, как он любит теперь.
Поясню примером. Поместите на необитаемом острове маленького мальчика и маленькую девочку, родившихся от вполне цивилизованных родителей. Пусть они вырастут, питаясь ракушками и плодами, но не давайте им возможности увидеть других людей, услышать человеческую речь и узнать что-либо о людях или о совершенных ими деяниях. Что же получится? Они вырастут и превратятся во взрослых людей и соединятся, как соединяются животные, без любви или воображения. Если женщина противопоставит свою волю воле мужчины, он ее прибьет. Если он будет слишком свиреп в проявлении своей воли, она, если сможет, убежит в какое-нибудь потаенное место. Он не станет сравнивать ее очи со звездами, и она не будет мечтать о нем, как об Аполлоне, а оба они не станут городить в сумерках чепуху о любви Геро и Леандра. А многие поколения одноженцев, породившие этого юношу, не помешают ему взять себе вторую жену, если на этот остров попадет случайно другая женщина.
У мужей лондонских трущоб принято бить жену смертным боем, если она не может угодить мужу. А мужчина лондонских трущоб – животное естественное и выражает свои чувства естественно. Он никогда не слыхал о Геро и Леандре, и сравнение очей «его хозяйки» со звездами показалось бы ему отъявленным вздором. Мягкий, нежный, внимательный самец – явление искусственное. И таков же романтический любовник – продукт дошедших до него любовных традиций и доступной ему эротической литературы.
А теперь поговорим о главном. Романтическая любовь – явление искусственное, и вы не можете требовать для нее признания и законности, основываясь на ее естественности. Вы имеете только право заявить, что это наилучшая из возможных хитростей для воспроизведения рода или что это единственно совершенная, вполне достаточная и всех удовлетворяющая хитрость, какую только можно было придумать. С одной стороны, человек своими достижениями в области подбора домашних животных доказывает непригодность романтической любви для воспроизведения рода. С другой стороны, по мере того, как человечество становится мудрее, эта хитрость все более обнаруживает свою грубость и непродуманность и заставляет очень многих связывать себя узами брака, не позаботясь о сходстве характеров. Пока романтическая любовь владеет человеком, он живет нездоровой, ненормальной, безрассудной жизнью. Умственное и духовное здоровье, то есть разум, стремится к прогрессу, а будущее требует от нас все больше и больше умственного и духовного здоровья, все большую и большую разумность. Господствовать и управлять человеком и обществом должен мозг, а не желудок и сердце. Допустим, что романтическая любовь была необходима; из этого не следует заключать, что она всегда будет необходима, что она извечно нужна. Существуют рудиментарные органы, служившие давно изжитым и ныне забытым потребностям.
Мир изменился, Дэн. Чувственные наслаждения перестали быть единственной целью существования. Мозг победил желудок и сердце. Разумная радость жизни прекраснее и выше половой радости. Дарвин, окончив свое «Происхождение видов», испытывал более высокое и дивное наслаждение, чем приходилось испытывать когда-либо царю Соломону с его тысячью наложниц и жен. Наслаждение наших чувств сделалось более тонким, и это утончение произошло вследствие возраставшего господства разума. Наши каноны искусства построены не на влечении сердца. Никакие чувства не вырабатывали законов творчества. Ни одно произведение искусства не доставит нам наслаждения, если оно не удовлетворяет нашим интеллектуальным запросам. «Он прирожденный поэт, – говорим мы о поэте, пишущем, не руководствуясь законами стихосложения, – но его стиль хромает и он не знаком с техникой стихосложения».
Не сердце, а разум создал человека и продолжает формировать его, – очень медленно, Дэн, ибо жизнь медленно пробивается вверх. «Передовой отряд» – вот ваш любимый лозунг. А я считаю, что передовой отряд – это та часть нашей расы, у которой интеллект играет большую роль, чем у остальных людей. И я, в качестве члена этой группы, собираюсь построить свою жизнь по разумному плану. Мой разум говорит, что стремление к рождению и жалкая романтика любви не являются величайшими и изысканнейшими наслаждениями в жизни. Духовные наслаждения – вот моя цель жизни. Хотя эта сделка нелегка, но я постараюсь выжать из нее все до последнего цента. Поэтому я женюсь на Эстер Стеббинс. Меня к этому не принуждает ни архаическое половое безумие животного, ни устарелое романтическое безумие человека последующих времен. Я заключаю союз, который мне кажется основанным на здоровье и сродстве. Мой разум получит много радостей в этом союзе. Моя жизнь станет свободной и широкой, и я не сделаюсь рабом чувственных наслаждений, связывавших моих древних предков. Я отбрасываю это наследство. Я рву завещание. Решитесь ли вы сказать, что я неблагоразумен?
Герберт.
XXV
ТОТ ЖЕ – ТОМУ ЖЕ
Ридж.
Беркли – Калифорния.
5 июля 19… г.
Я не собирался делать критический разбор вашего письма, но, перечитывая его, я нашел необходимым написать несколько слов об употребленном вами эпитете «выскочка». Слово это – не обвинение. Старое и вымирающее всегда приветствовало им молодых и сильных. Выскочка – человек без прошлого. В это слово вложено здоровое и многозначительное содержание. Я не сомневаюсь, что самого Илью-пророка величали выскочкой, когда он с золотой арфой прилетел в светлый сонм, возгордившийся своим сотрудничеством в одержанной архангелом Михаилом победе над Люцифером.
«Мы не выбираем себе жен, как верховых лошадей; мы не планируем наш брак, как строящийся дом», – говорите вы. Это прекрасно сказано. Большего обвинения романтической любви нечего и желать. О, сколько горьких упреков нашему обществу слышал я из уст порядочных мужчин и женщин, сетовавших на то, что в вопросе о рождении детей не существует тех правил и ограничений, которые применяются на конных заводах и псарнях. Брак есть нечто большее, чем романтический трепет, отзвук на неясно-сладкое дрожание струн, ленивые напевы, заполняющие пустые дни, и самоудовлетворение наслаждениями… А что же с детьми?
«Не все ли равно, – отвечает себялюбивая маленькая любовь. – Мы не хотим думать о детях; дети – случайность. Мы ищем наслаждений для себя». И общество продолжает обдуманно и толково разводить лошадей и собак и полагается на волю случая при рождении детей. Но так продолжаться не может, Дэн. Жить – значит не только прожить свой срок, но и оставить после себя некоторый след. И все, что способствует расцвету жизни и оставлению после себя следа в ней, – хорошо. Идущий за фактом не может сбиться с дороги, а не питающий уважения к факту плетется позади. Рыцарство помещалось на одной мысли. Оно идеализировало чувство – примите эту формулировку. Оно обратило любовь в искусство, и бесчисленные странствующие рыцари посвятили себя служению этому божку. Оно разводило сантименты над перчатками дамы и упустило из виду заботу о прочных результатах своей жизни. А пока рыцарство совершало самоубийство над перчатками дамы, сильные, крепколобые горожане, стоявшие ближе к жизни, занимались ремеслами и торговлей. И на развалинах рыцарства они щеголяли своей наглостью выскочек. Боже, как они торжествовали! Мастеровые и лавочники покупали ценой золота «древние имена», ценой золота присваивали гордую плоть и кровь своих господ, чтобы смешать их кровь со своей. Покровительствовали искусствам, благожелательно относились к науке, хлопали Господа Бога по плечу. Но они торжествовали, это главное. Они относились с уважением к факту и работали изо всех сил ради прочного результата жизни.
«Любовь – это жизнь», – говорите вы и считаете ее, кажется, завершением нашего существования. Но я не согласен с тем, что жизнь – это любовь. Жизнь? Это игрушка, данная нам неизвестно для чего. Мы можем играть ею, как нам понравится. Некоторые предпочитают мечтать, другие – любить, третьи – бороться. Некоторые стремятся к немедленной награде, другие – к отдаленному удовлетворению. Один ставит на карту существующее против последующего. А другой берет настоящее, как оно есть, не заботясь о будущем. Но каждый хватается за игрушку и играет ею по своему желанию. Никто не знает цели жизни, но все знают, что жизнь – цель любви. Любовь – жалкая, грубая, мелкая любовь – является средством жизни, – так завершается круг. Жизнь? Это игрушка, данная нам неизвестно для чего, и мы можем играть ею, как нам понравится.
Но мы твердо знаем, что любовь является средством для продолжения жизни и что она неизбежно должна совершенствоваться. Разум совершенствует нашу любовь. Пусть будет жизнь более обильная, более прекрасная, более высокая, более полная! Когда мы на научном основании растим беговых и рабочих лошадей, мы работаем ради изобилия жизни. А когда мы приступим к научному взращиванию и воспитанию людей, мы будем работать во имя прекрасной жизни, которая должна обогатить человечество здоровым и разумным потомством.
Вы говорите, что знакомство с мелкими пороками жены не убивает любви. О нет, убивает, и из пепла этой любви поднимается привязанность, дружба, нечто вроде той привязанности и дружбы, которые я испытываю по отношению к своему брату. Я не влюблен в своего брата, и оттого, что я в него не влюблен, оттого, что я привязан к нему и дружен с ним, я не отворачиваюсь от него даже и тогда, когда он совершает преступление. Влюбленность, порождаемая чувствами, как вы знаете, непрочна, своевольна, легкомысленна и капризна. Но привязанность порождается разумом и основана на рассудительности. Любовь – непреклонная тирания; привязанность всегда уступчива. Любовь никогда не идет на уступки, как не идет на них безумный маленький воробей в период спаривания.
Мой брат? Я играл с ним в детстве. Его слабости и недостатки сердили и обижали меня, а мои недостатки сердили и обижали его. Мы часто ссорились. Но у него были хорошие качества, которые мне нравились, а по временам он поступал очень хорошо и приносил для меня некоторые жертвы. То же случалось и со мной. И я взвесил мысленно его слабости и недостатки, с одной стороны, и хорошие поступки и жертвы – с другой, и вывел свое заключение. Я принял во внимание и этику семейной группы. Долг родства и ответственность кровной связи сильны во мне. Мы росли у колен нашей матери, и мысль о ней и об отце влияла на мое суждение о брате. Родители тоже учили меня тому, что мой брат – самый близкий мне человек и что, поскольку он является моим братом, мои отношения с ним должны быть иными, чем с другими – не близкими мне людьми, не братьями по крови. Все эти факторы определяли мое решение или род критерия, управляющего всеми здоровыми, не эмоциональными поступками и даже подавляющего или регулирующего все эмоциональные акты. Критерий этого становится автоматическим фактором моего умственного процесса.
И вот, когда мы выросли, мой брат совершает дурной поступок, отталкивающий меня и вызывающий эмоции гнева, горечи, ненависти. Я испытываю эмоциональный импульс – высказать ему свой гнев, обойтись с ним сурово, возненавидеть его. Затем я получаю импульс интеллектуальный. Как бы я ни поступил, я должен сначала разобраться в критерии родства. На меня действуют личные связи, воспоминания детства и взрослых лет – хорошие поступки, жертвы и уступки, отец и мать, долг родства и ответственность крови. Во мне борются два противоположных импульса. Мне хочется сделать две противоположные вещи. Во мне идет борьба сердца и головы, и я поступлю по велению сердца или головы, в зависимости от того, какой импульс окажется сильнее. Если таковым окажется моя привязанность, я не отвернусь от своего брата, но крепко сожму его в своих объятиях.
Боюсь, что я недостаточно ясно высказался. Трудно наспех писать о психологических проблемах, для решения которых требуются умственное напряжение и точность выражений; но вы хоть в общих чертах поймете, к чему я веду речь. Я пытался выяснить, что я прощаю своего брата не потому, что я его люблю, а потому, что я к нему привязан; а затем я хотел сказать, что привязанность является детищем разума, результатом и суммой продуманных положений.
Герберт.
XXVI
ДЭН КЭМПТОН – ГЕРБЕРТУ УЭСУ
Лондон.
3-а Куинс Роод. Челси.
21 июля 19… г.
«Прогресс состоит в произвольном изменении нормальных условий природы трудом и изобретениями человека; таким образом, цивилизация всецело является искусственным построением». Ты требуешь от меня, чтобы я считался с этим отрывком социологии и выкинул при его свете свое возвышенное представление о любви. Словно ты доказал мне, что любовь несовместима с цивилизацией. Мы с каждым шагом оставляем за собой жизнь, но не перестаем жить. Развивая новые формы и устанавливая все более утонченные общественные взаимоотношения, мы только надстраиваем то, что находим в готовом виде под рукой. Противоречия между создателем и созданием не существует. Когда твой социолог говорит о произвольном изменении, он имеет в виду политику и управление, материальные и идеальные силы, которые прогрессивное общество может направлять по своему желанию. Он не может включить сюда изменение потребностей, составляющих сущность бытия. Если бы речь шла о коммуне с равномерным распределением продуктов труда, я бы согласился, что здесь совершается произвольное изменение, ибо в природных условиях более сильный открыто и даже с общего согласия берет сколько ему вздумается из доли слабейшего. Но если ты будешь говорить мне об условии, уничтожившем потребность, уверять, что там, где в прошлом приходилось насыщать голод, теперь не существует и самого голода, я скажу, что это сказка тысяча одной ночи.
Любовь – неразрывная часть жизни, как голод, как радость, как смерть. Твой прогресс не может оставить ее за собой; твоя цивилизация должна явиться ее выразителем.
Твое последнее письмо весьма деловито и точно, но двусмысленно. Ты с угрозой в голосе напоминаешь мне о возможности прогресса, устанавливаешь, что любовь, в лучшем случае, искусственна, и обоготворяешь разум. В качестве эмансипированного рационалиста ты порываешь с условностью чувствований. Прогресс ничуть не влияет на потребность и мощь любви. Я это уже установил. «Разве любить или не любить в нашей власти?» Любовь сложна или проста (это зависит от точки зрения), и ты можешь или считать любовь лишь принадлежностью брачного пиршества, или возвышенно называть ее плотью и кровью всего произрастающего, или же снисходительно признавать ее переходным состоянием, принимаемым всеми, независимо от степени благоговения и преклонения перед ней.
Я легче могу себе представить центральный комитет, избранный в целях регулирования браков коммуны, чем коммуну, довольную существованием такого комитета. Общественная жизнь не имеет логики. Мир упорствует, не желая подняться на следующую ступень. Что казалось наблюдателю пыльной тропой, может оказаться большой дорогой прогресса шумящей толпы. Побочные выходы появляются постоянно, чтобы сбить с главного пути вожаков толпы; итак, будем смиренны.
Поэтому-то я отказываюсь говорить о возможностях в бесконечности. Ты и я не могли бы стать продуктами несуществующей среды. Вернее всего предположить, что наши потребности сходны с потребностями расы и что в нас заложены те же стремления, что и в других людях. Ты не мог, сделавшись рационалистом, разучиться любить. Этот трюк еще не придуман.
Ты думаешь, что я поверю тебе на слово? Но почему? Разве ты никогда не сопротивлялся своим лучшим побуждениям и не замечал потом своих ошибок, не оказывался на дурном пути, стремясь к добру и истине? Не хочу предположить, что ты еще не проснулся или же что ты плотно прирос к догматизму своей мысли, упрямо отвергая чувство.
Я назвал твое письмо двусмысленным из-за его второй части. Я помню, в начале нашего спора ты с жаром настаивал на том, что любовь – это инстинкт, общий всем живым существам; теперь ты вдаешься в мельчайшие подробности, чтобы доказать, что любовь – построение искусственное.
Как ты отличаешь искусственное от естественного? Конечно, развитие не может быть искусственным только потому, что оно произошло недавно или на наших глазах. Конечно, человек остался тем же цельным существом, каким был его предок. Когда мы приходим к вопросу о цивилизации, то становимся лицом к лицу с величайшей и утонченнейшей вещью в мире, и цивилизация человеческого общества не искусственна. Это – завершение человеческой природы, обетование добра, установление пути и распространение облагораживающего влияния. Цивилизующая сила мысли постоянно меняет лицо мира, ибо изменение – это рост; понять это – значит понять бесконечность. А цель? Развитие – всегда развитие. Стремясь к этой цели, личность погибает, и, стремясь к ней, сохраняется раса; ради нее и гибель, и жертвы, и агония триумфа в последнем биении перегруженного сердца. Что означает утончение типа, цель, к которой мы так трагически стремимся, если не достижение высшей ступени любви? Мы начинаем любовью и кончаем любовью, более великой, чем вначале, и это и есть прогресс. Написать эпос цивилизации – вот задача, достойная великого художника, обладающего талантом Гомера и Шекспира, а написанный им труд будет историей любви.
Мы не отбрасываем зерно, оставляя себе солому, и не передаем по наследству только «нелепости» и «ухаживание». Если в голосе любящего звучат голоса любивших до него, это значит, что он взволнован, как были взволнованы в свое время и его предки. Если он отзывается на балладу, это значит, что ее напев нашел себе отзвук в его сердце и ритм этой баллады был соловьем его мечты, когда он просил возлюбленную прислушаться. За традициями лежит факт. Выражение может быть преходящим, песня – скучной, девиз – условным, но чувство, породившее их, правдиво. Иначе оно бы не пережило создателя песни. Оно росло вместе с общим ростом. Столетиями оно лежало в природе человека, а затем в те чудесные юные дни, когда проснулось сознание, оно также проснулось к жизни и стало поддержкой человека, придавая ему силы для работы и указывая цель жизни.
Но полуживотное лондонских трущоб бьет свою жену, когда она не угождает ему, и ничего не знает о любви. Тем лучше для любви. Полуживотное лондонских трущоб не получало достаточно пищи в детстве, а плохое питание гибельно для человека. Позже он воровал и лгал, чтобы поесть, и его преследовали и били за это, пока не довели его до потери человеческого образа и подобия. Несчастный человек лондонских трущоб оттолкнет нас всех от небесных врат, так как мы не боролись с создавшими его условиями. Такие, как он, не могут нас заставить издеваться над любовью, ибо он результат ошибки и преступления.
В примере о детях, изолированных от цивилизованного мира, мы имеем дело с другими условиями. Человек повторяет историю своего рода, а так как эти дети были поставлены вне сферы действия цивилизующей силы, им пришлось начать всю историю сначала. Для них эта жизнь естественна, – является ли она поэтому естественной и для нас? Я настаиваю на том, что наша утонченность, громко заявляющая о своем существовании, составляет такую же часть нас самих, как немногие простые потребности детства расы. Наша утонченность ничуть не мешает нам быть естественными. И разве невозможно, что лик романтизма открывается взорам дикаря? Возможность соответствует потребности, и человек на заре истории нуждается в надежде и стремлении; он умеет ждать и привык упускать добычу на охоте, он голоден и мечтает о пиршествах. Эта мечта и является романтикой его жизни – проблеск рассвета, снова сменяющегося серыми сумерками. Это предположение вполне научно, ибо все существующее в нас должно было иметь начало; и чувство, подобно бытию, не могло зародиться внезапно.
В природе существует непосредственное тяготение к добру. Так, Гексли проповедовал Кингслею неделю спустя после смерти своего сына. Горе заставило его силой разума разобраться в себе, и, поднявшись на высоту, он выработал философию веры и радости.
Наша награда зависит от нашей покорности закону, духовному и физическому. Природа ведет книги, занося в них все недоимки жизни. Моя душа преисполняется верой, когда я слышу, как ты позоришь наслаждение любить. Как хорошо это чувство, дающее столько радости! Ты клеймишь его, называя наслаждением чувства, но все наслаждения порождаются чувством, и Дарвин, заканчивая «Происхождение человека», если только его не обуревало чувство неполноты его труда и не тревожила всепожирающая лихорадка предстоящих задач, радовался эмоционально, как радуются все люди. Величайший подъем в жизни Дарвин мог испытать в другой момент. Что можем мы знать о минутах высшей полноты в жизни другого человека? Мы вместе с Гексли можем лишь знать, что наше сердце бьется сильнее, когда мы касаемся струн высшей гармонии и покорно склоняемся перед законом, и что сердце преисполняется светом, когда мы любим. Таким способом природа показывает нам свое одобрение. О, дивная сила любви и чудеса ее вознаграждения! Какое удовлетворение она дает, даже при поражениях, какая радость звучит в подавленном рыдании!
День аскетизма прошел, – не лучше ли сказать ночь? Мы не боимся наслаждений чувств. Мы хотим жить всем нашим существом, жить полной и естественной жизнью. Твое евангелие труда прекрасно, и я тебя с ним поздравляю, но ты в нем не упомянул о цели жизни. Не должно быть рабом ради работы. «Когда я слушал ученого-астронома…» – говорит Уитман. Помнишь? Он в один час уловил все величие и проникся чудом, незамеченным наблюдавшим астрономом. Ученые совершили ошибку, так долго делая свои вычисления, что у них не хватило времени увидеть сияние и славу звезд, а Уитман был философом и выиграл там, где они потеряли. Вдохновение поэта, художника, экономиста и биолога заключается в откровении, получаемом ими для направления их пути и разъяснения его. Поэтому философия, занимающаяся вопросом о жизни и трудах человека, является в высшем смысле наукой социологической. Обобщения философии улучшают наш метод, облегчают нам доступ к наслаждению и обостряют нашу восприимчивость к нему. Что еще нам нужно? Ты поэт и проводишь за писанием сонета невозвратный день, когда солнце ярко светит и холм в отдалении залит пурпурным светом. Если ты это делаешь для времяпрепровождения, это значит, что у твоих дверей притаилось отчаяние. Ты конченый человек, и солнце и холм для тебя не существуют. Между тобой и ими порвалась живая связь.
Но если ты пишешь, побуждаемый желанием, чтобы другие прочли это и прониклись твоим чувством, прочли, запомнили и научились лучше познавать и чувствовать и, может быть, сильнее полюбили солнце и холм, то твой труд становится трудом любви, и он даст тебе радость, а упущенный тобой день озарит светом твою ночь. А если ты работаешь в области чистого искусства, то каждое достижение согревает все твое существо блаженством завершения.
Не заглушил ли я свою мысль этим потоком слов? Дело обстоит просто: чувство является раньше мысли и мысль завершается чувством. Век Вольтера и доктора Джонсона считал, что человек разумен, а век Джемса, Рибо, Ланге и Вундта потрясен до глубины души учением о том, что прежде всего и главным образом человек эмоционален, что он существо чувствующее. Говоря простым языком, размеры человеческого космоса определяются чувством, чувствованием и ощущением.
Возводите ваши прекрасные постройки. Нам нравится глядеть на прочно заложенные фундаменты и возводимые толстые стены. Продолжайте свои диковинные выдумки и изобретения. Нам нравится жить в волшебном мире. И неукротимые машины с их суровым обещанием свободных дней для утомленных рук, и локомотивы, и пароходы, стремящиеся связать и объединить весь мир, – все превосходно. Нам нравится сложность и беспредельность мира, в котором мы живем. Но «человек не может жить, не рассуждая», – говорит Аристотель. Нам приходится подумать над цивилизацией и отыскать в ней ядро ее сущности. Мы видим, что каменная постройка, возводимая без надежды, – жалкое предприятие, и что заключение договоров или помещение капитала без надежды также возбуждают лишь жалость. Надежда – бессмертная вспышка смертного начала, наиболее человечная черта человечества; она сулит нам братство и всеобщее счастье. Наш мир представляется мне вечно неоконченным зданием, и мы все работаем на его постройке. Если мы проникнемся духом архитектора, а не каменщика, мы, работая, преисполнимся сладкой надеждой. Красота дома станет для нас вопросом жизни, и мы по вечерам будем проверять чертежи, следя за тем, чтобы на постройку наших дней светило солнце и чтобы внутри был уют, звучал смех, раздавались громкие речи и царствовала любовь; дом этот должен поднимать дух сегодняшних обитателей, и они должны любить и быть любимыми сильнее, чем любили и были любимы его вчерашние обитатели.
Возможно, что мы ошибаемся. В прежние времена мы также ошибались. Когда мы в темноте протягивали руку и удерживали руку товарища, любовь и чувство самозабвения были столь же сильны. Щедрость сердца не увеличилась от времени – это лишь одна из иллюзий. Но надежда принадлежит нам. На что надеешься ты?
Дэн.








