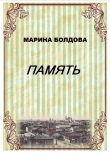Текст книги "Морской волк. Рассказы рыбачьего патруля "
Автор книги: Джек Лондон
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава XII
Последние сутки были наполнены сплошным зверством; оно разразилось от кают-компании до бака, словно вспыхнувшая эпидемия. Я не знаю, с чего и начать. Настоящим виновником всего был Вольф Ларсен. Отношения между людьми, натянутые благодаря непрестанным стычкам и ссорам, находились в состоянии неустойчивого равновесия, и злые страсти вспыхнули пламенем, как степной пожар.
Томас Мэгридж – проныра, шпион и доносчик. Он пытался снова втереться в милость к капитану, наушничая на матросов. Я знаю, что это он передал капитану неосторожные слова Джонсона. Последний купил в корабельной лавке клеенчатый костюм. Он нашел его скверным и не скрывал своего неудовольствия. Корабельные лавки существуют на всех тюленебойных шхунах и торгуют всем, что может потребоваться матросу. Стоимость купленного в лавке высчитывается впоследствии из заработка на промыслах. Во время охоты гребцы и рулевые, наравне с охотниками, получают, вместо жалованья, известный пай, зависящий от числа шкур, добытых той или иной лодкой.
Я не слыхал, как Джонсон ворчал по поводу своей неудачной покупки, и все последующее явилось для меня полной неожиданностью. Я только что кончил подметать каюту и был вовлечен Вольфом Ларсеном в разговор о Гамлете, его любимом шекспировском герое, как вдруг по трапу спустился Иогансен, сопровождаемый Джонсоном. Последний, по морскому обычаю, снял шапку и скромно остановился посреди каюты, покачиваясь из стороны в сторону вместе со шхуной и глядя капитану в лицо.
– Закройте дверь на задвижку, – сказал мне Вольф Ларсен.
Исполняя приказание, я заметил выражение тревоги в глазах Джонсона, но не понял, в чем дело. Он же, по-видимому, знал, что ему предстоит, и покорно ждал своей участи. В том, как он держался, я вижу полное опровержение материалистических теорий Вольфа Ларсена. Матросом Джонсоном руководили идея, принцип, правдивость и искренность. Он был прав, он знал, что прав, и не боялся. Он готов был умереть за истину, но остался бы верен себе и не покривил бы душой. Здесь воплотилась победа духа над плотью, неустрашимость и моральное величие души, не знающей запретов и возвышающейся над временем, пространством и материей с такой уверенностью и непобедимостью, какие только бессмертие может ей придать.
Но вернемся к рассказу. Я заметил тревожный огонек в глазах Джонсона, но принял его за врожденную робость и смущение. Штурман Иогансен стоял в нескольких шагах сбоку от него, а в трех ярдах перед ним восседал на одном из вращающихся каютных стульев сам Вольф Ларсен. После того, как я закрыл дверь, наступило молчание, длившееся целую минуту. Его прервал Вольф Ларсен.
– Ионсон, – начал он.
– Меня зовут Джонсон, сэр, – смело поправил матрос.
– Ладно. Пусть будет Джонсон, черт бы вас побрал! Вы догадываетесь, зачем я вас позвал?
– И да, и нет, сэр, – последовал медленный ответ. – Свою работу я делаю хорошо. Штурман знает это, да и вы знаете, сэр. Тут не может быть жалоб.
– И это все? – спросил Вольф Ларсен мягким, тихим и ласковым голосом.
– Я знаю, что вы имеете что-то против меня, – с той же тяжеловесной медлительностью продолжал Джонсон. – Вы не переносите меня. Вы… Вы…
– Продолжайте, – торопил его Вольф Ларсен. – Не бойтесь задеть мои чувства.
– Я и не боюсь, – возразил матрос, и краска досады начала проступать сквозь его загар. – Я говорю медленно, потому что я не так давно уехал с родины, как вы. Вы не любите меня за то, что я уважаю самого себя. В этом все дело, сэр.
– Вы слишком уважаете себя для судовой дисциплины, понимаете вы, что я вам говорю? – отрезал Вольф Ларсен.
– Я говорю по-английски и понимаю ваши слова, сэр, – ответил Джонсон, еще гуще краснея при намеке на его неполное знание английского языка.
– Джонсон, – продолжал Вольф Ларсен, считая, по-видимому, предисловие оконченным и переходя к делу, – я слышал, будто вы не совсем довольны купленным вами костюмом?
– Да, я не доволен им. Он не хорош, сэр.
– И вы болтали об этом направо и налево?
– Я говорю то, что думаю, сэр, – смело ответил матрос, не упуская, в то же время, прибавлять после каждой фразы слово «сэр», обязательное по правилам морской вежливости.
В этот миг я случайно взглянул на Иогансена. Он то сжимал, то разжимал свои огромные кулаки и с дьявольской злобой посматривал на Джонсона. Я заметил синяк у него под глазом, след взбучки, полученной им на днях от Джонсона. Впервые я начал догадываться о том, что предстоит что-то ужасное. Но что, этого я не мог себе представить.
– Вы знаете, что ждет тех, кто говорит такие вещи про мою лавку и про меня? – спросил Вольф Ларсен.
– Знаю, сэр, – последовал ответ.
– А что именно? – резко и повелительно спросил Вольф Ларсен.
– То, что вы и штурман собираетесь сделать со мной, сэр.
– Поглядите на него, Горб, – обратился Вольф Ларсен ко мне. – Поглядите на эту частицу живого праха, на это скопление материи, которое движется и дышит, и осмеливается оскорблять меня, и искренно уверено, что оно на что-то годно; которое руководствуется ложными человеческими понятиями права и чести и готово отстаивать их, невзирая на личные неприятности и угрозы. Что вы думаете о нем, Горб? Что вы думаете о нем?
– Я думаю, что он лучше вас, – ответил я, охваченный бессознательным желанием отвлечь на себя часть гнева, готового обрушиться на голову Джонсона. – Его «ложные понятия», как вы их называете, говорят о его благородстве и мужестве. У вас же нет ни морали, ни грез, ни идеалов. Вы нищий.
Он кивнул головой со свирепой вежливостью.
– Совершенно верно, Горб, совершенно верно. У меня нет иллюзий, свидетельствующих о благородстве и мужестве. «Псу живому лучше, нежели мертвому льву», говорю я вместе с Проповедником. Моя единственная доктрина, это – целесообразность. Она на стороне победителей. Когда эта частица дрожжей, которую мы называем «Джонсон», перестанет быть частицей дрожжей и обратится в прах и тлен, в ней будет не больше благородства, чем в прахе и тлене, а я по-прежнему буду жить и бушевать.
Он помолчал и спросил:
– Вы знаете, что я сейчас сделаю?
Я покачал головой.
– Я использую свою возможность бушевать и покажу вам, куда девается благородство. Смотрите!
Он сидел в трех ярдах от Джонсона. В девяти футах! Одним гигантским прыжком покрыл он это расстояние. Это был прыжок тигра, и Джонсон напрасно пытался отразить этот яростный натиск. Он выставил одну руку, чтобы защитить живот, а другою прикрыл голову. Но Вольф Ларсен свой сокрушающий первый удар направил посредине, в грудь. Дыхание Джонсона внезапно пресеклось, и изо рта у него вырвался хриплый звук, как у человека, сильно взмахнувшего топором. Он чуть не опрокинулся навзничь и зашатался на ногах, стараясь сохранить равновесие.
Я не могу передать подробностей последовавшей гнусной сцены. Это было нечто возмутительное, мне противно даже вспоминать об этом. Джонсон доблестно боролся, но он не мог устоять против Вольфа Ларсена, а тем более против Вольфа Ларсена и штурмана. Это было ужасно. Я не представлял себе, что человеческое существо может столько вытерпеть и все-таки жить и бороться. Да, Джонсон боролся. У него не могло быть ни малейшей надежды на победу, и он знал это не хуже моего, но его мужество не позволяло ему отказаться от этой борьбы.
Я не мог больше оставаться свидетелем этого. Я чувствовал, что схожу с ума и бросился к трапу, чтобы открыть дверь и убежать на палубу. Но Вольф Ларсен, оставив на миг свою жертву, одним могучим прыжком догнал меня и швырнул в дальний угол каюты.
– Жизненное явление, Горб, – с усмешкой бросил он мне. – Оставайтесь и наблюдайте. Вам представляется случай собрать данные о бессмертии души. Кроме того, вы ведь знаете, что душе Джонсона мы не можем причинить зла. Мы можем разрушить только ее бренную оболочку.
Мне казалось, что прошли века, но на самом деле побоище продолжалось не больше десяти минут. Вольф Ларсен и Иогансен со всех сторон наседали на беднягу. Они дубасили его кулаками, колотили своими тяжелыми башмаками, сшибали его с ног и поднимали, чтобы повалить снова. Джонсон ничего уже не видел, и кровь, текшая у него из ушей, носа и рта обращала каюту в мясную лавку. Когда он уже не мог больше держаться на ногах, они продолжали избивать лежачего.
– Легче, Иогансен, тише ход! – произнес наконец Вольф Ларсен.
Но проснувшийся в штурмане зверь не желал так скоро успокаиваться, и Вольфу Ларсену пришлось оттолкнуть локтем своего помощника. От этого, казалось бы, легкого толчка Иогансен отлетел, как пробка, и с треском ударился головой о стену. Полуоглушенный он упал на пол и поднялся, тяжело дыша и моргая глазами с самым глупым видом.
– Отворите дверь, Горб, – получил я приказ.
Я повиновался, а оба зверя подняли бесчувственное тело, словно мешок с тряпьем, и вытащили его по узкому трапу на палубу. Кровь красной струей брызнула на ноги рулевому, которым был не кто иной, как Луи, товарищ Джонсона по лодке. Но Луи только повернул штурвал и невозмутимо уставился на компас.
Иначе отнесся к этому делу бывший юнга Джордж Лич. От бака до юта вся шхуна была изумлена его последующим поведением. Он самовольно явился на палубу и унес Джонсона на бак, где начал, как умел, перевязывать его раны и хлопотать около него. Джонсона нельзя было узнать. И не только его черты стали неузнаваемы, но он вообще потерял всякий человеческий облик, до того распухло и исказилось его лицо за несколько минут, которые прошли от начала избиения до того, как его вытащили на палубу.
Но вернемся к поведению Лича. К тому времени, как я закончил уборку каюты, он уже сделал для Джонсона все, что мог. Я поднялся на палубу подышать свежим воздухом и немного успокоить мои расходившиеся нервы. Вольф Ларсен курил сигару и осматривал патентованный лаг, обычно висевший за кормой, но теперь для какой-то цели поднятый на борт. Вдруг голос Лича долетел до моего слуха, голос хриплый и напряженный от гнева. Я повернулся и увидел его на палубе, перед самым ютом. Его побледневшее лицо судорожно подергивалось, глаза сверкали и сжатые кулаки были подняты над головой.
– Пусть Господь пошлет твою душу в ад, Вольф Ларсен, хотя ад еще слишком хорош для тебя! Трус, убийца, свинья! – такими словами приветствовал он его.
Я был поражен, как громом. Я думал, что от юнги сейчас же ничего не останется. Но у Вольфа Ларсена в эту минуту не было желания убивать его. Он медленно подошел к ступеням юта и, облокотившись об угол каюты, с задумчивым любопытством поглядывал на взволнованного мальчишку.
А тот громогласно обвинял его, как никто еще не обвинял до сих пор. Матросы боязливо жались у бака и прислушивались к происходившему. Охотники гурьбой вывалились на палубу, и я заметил, что выражение легкомыслия слетело с их лиц, когда они услышали тираду Лича. Даже они были испуганы необычайной смелостью мальчика. Им казалось невозможным, чтобы кто-нибудь мог бросать Вольфу Ларсену подобные оскорбления. О себе могу сказать, что я был поражен и восхищен Личем и видел в нем блестящее доказательство непобедимости бессмертного духа, который выше плоти и ее страхов. Этот мальчик напоминал мне древних пророков, обличающих людские грехи.
И как он обличал его! Он обнажал душу Вольфа Ларсена и выставлял напоказ всю ее порочность. Он осыпал ее проклятиями от лица Бога и небес и громил его с жаром, напоминавшим сцены отлучения от церкви в средние века. В своем гневе он то поднимался до грозных, почти божественных высот, то в изнеможении падал до грязной площадной брани.
Его ярость граничила с безумием. На губах выступила пена, он задыхался, в горле у него клокотало, и временами нельзя было разобрать его слов. А Вольф Ларсен, холодный и спокойный, слушал, опираясь на локоть, и, казалось, был весь охвачен любопытством. Это дикое проявление жизненного брожения, этот буйный мятеж и вызов, брошенный ему движущейся материей, поражал и интересовал его.
Каждый миг и я, и все присутствующие ожидали, что он бросится на мальчика и уничтожит его. Но по странному капризу он этого не делал. Его сигара потухла, а он все еще смотрел вниз с безмолвным любопытством.
Лич в своем неистовстве дошел до предела.
– Свинья! Свинья! Свинья! – не своим голосом вопил он. – Почему же ты не сойдешь вниз и не убьешь меня, убийца? Ты спокойно можешь сделать это! Никто не остановит тебя! Но я не боюсь тебя. В тысячу раз лучше быть мертвым и подальше от тебя, чем оставаться живым в твоих когтях! Иди же, трус! Убей меня! Убей! Убей!
Как раз в эту минуту беспокойная душа Томаса Мэгриджа вытолкнула его на сцену. Он все время слушал, стоя у кухонной двери, но теперь вышел, якобы для того, чтобы выбросить за борт какие-то очистки, на самом же деле для того, чтобы не прозевать убийства, в неминуемости которого он был уверен. Он заискивающе улыбнулся в лицо Вольфу Ларсену, который, по-видимому, не замечал его. Но повар не смутился. Обратившись к Личу, он крикнул:
– Что за ругань! Как не стыдно!
Бессильная ярость Лича наконец нашла себе выход. В первый раз после их столкновения повар вышел из кухни без своего ножа. Не успели слова слететь с его губ, как он был сбит с ног кулаком Лича. Трижды поднимался он на ноги, стараясь удрать на кухню, и каждый раз молодой матрос швырял его на палубу.
– Боже мой! – завопил Мэгридж. – Помогите! Помогите! Уберите его прочь! Что вы глядите, уберите его прочь!
Охотники смеялись с чувством облегчения. Трагедия кончилась, начался фарс. Матросы теперь осмелели и с шутками подошли ближе, чтобы лучше следить за избиением ненавистного повара. Даже я почувствовал искреннюю радость. Признаюсь, что я испытывал великое удовольствие при виде ударов, наносимых Личем Мэгриджу, хотя они были почти так же ужасны, как те, которые недавно, по вине того же Мэгриджа, выпали на долю Джонсона. Но лицо Вольфа Ларсена хранило свою невозмутимость. Он даже не переменил позы и продолжал смотреть вниз с прежним любопытством. Казалось, что он наблюдает за игрой и движением жизни, в надежде узнать о ней что-нибудь новое, различить в ее безумных корчах что-то, ускользавшее до сих пор от его внимания, – ключ к тайне, который все распутает и объяснит.
Ну и бил же Лич повара! Это побоище было вполне похоже на виденное мною в каюте. Мэгридж напрасно старался спастись от разъяренного парня. Напрасно пытался он укрыться в каюту. Он катился к ней, пытался добраться до нее ползком. Но удар следовал за ударом с непостижимой быстротой. Лич швырял его, как мяч, пока, наконец, повар беспомощно не растянулся на палубе. Никто не заступился за него. Лич мог бы убить его, но, очевидно, он исчерпал весь свой гнев и оставил своего поверженного врага, который лежал и скулил, как щенок.
Эти два происшествия были только началом программы этого дня. Перед вечером между Смоком и Гендерсоном произошла ссора, из кубрика раздались выстрелы, и остальные четыре охотника выскочили на палубу. Поднялся столб густого, едкого дыма, какой всегда бывает от черного пороха. Вольф Ларсен бросился сквозь этот дым, поднимавшийся из люка. До нас долетели звуки ударов. Смок и Гендерсон оба были ранены, а капитан еще избил их обоих за то, что они ослушались его приказа и изувечили друг друга перед началом охоты. Они оказались раненными серьезно, и, отколотив, Вольф Ларсен принялся лечить их, как умел, и перевязывать им раны. Я помогал ему, когда он зондировал и промывал пробитые пулями отверстия, а оба молодца переносили эту грубую хирургию, поддерживая свои силы всего только добрым стаканом виски.
Затем, во время первой вечерней вахты, поднялась драка на баке. Она возникла вследствие шуток и сплетен, вызванных избиением Джонсона, и по сопровождавшему ее шуму и по подбитым физиономиям матросов было видно, что одна половина бака изрядно отделала другую.
Вторая вечерняя вахта ознаменовалась новой дракой, на этот раз между Иогансеном и худым, похожим на янки, охотником Лэтимером. Повод к ней подало замечание Лэтимера, недовольного тем, что штурман разговаривал во сне. И хотя последний получил изрядную трепку, он тем не менее всю ночь не давал остальным спать, без конца переживая во сне все подробности драки.
Меня же всю ночь томили кошмары. Этот день был словно ужасный сон. Одна зверская сцена сменялась другой, кипучие страсти и хладнокровная жестокость заставляли людей покушаться на жизнь ближних, ранить, калечить, уничтожать. Мои нервы были потрясены. Ум возмущался. Мои дни прошли в сравнительном незнании зверской стороны человеческой природы. Ведь я жил чисто интеллектуальной жизнью. Я сталкивался с жестокостью, но только с жестокостью духовной – с колким сарказмом Чарли Фэрасета, с безжалостными эпиграммами и остротами моих приятелей по клубу и злыми замечаниями некоторых профессоров в мои студенческие годы.
Это было все. Но то, что люди могут срывать свой гнев против ближних путем побоев и кровопролития, было для меня чем-то новым и жутким. Не напрасно меня называли «Сисси» ван-Вейден, – думал я, – и беспокойно ворочался на койке, впадая из одного кошмара в другой. Я поражался своему полному незнанию жизни. Я горько смеялся над собой и готов был находить в отвратительной философии Вольфа Ларсена более правильное объяснение жизни, чем в моей.
Такой уклон мыслей испугал меня. Я чувствовал, что окружающее зверство оказывает на меня развращающее влияние, омрачая для меня все, что есть хорошего и светлого в жизни. Разум подсказывал мне, что избиение Томаса Мэгриджа было делом дурным, но я не мог заставить себя не ликовать при мысли об этом происшествии. И сознавая всю греховность своих мыслей, я все же захлебывался от злорадства. Я больше не был Гэмфри ван-Вейденом. Я был Горбом, юнгой на шхуне «Призрак». Вольф Ларсен был мой капитан, Томас Мэгридж и остальные – товарищи, и штамп, которым они были отмечены, неоднократно накладывал свой отпечаток и на меня.
Глава XIII
Три дня я работал не только за себя, но и за Томаса Мэгриджа. Могу с гордостью сказать, что справлялся с работой хорошо. Я знаю, что она заслужила одобрение Вольфа Ларсена, да и матросы остались довольны мною во время моего краткого правления на кухне.
– Это первый раз, что я ем чистую пищу, с тех пор как попал на борт, – сказал мне Гаррисон, возвращая через кухонную дверь обеденную посуду с бака. – Стряпня Томми почему-то всегда отдавала застывшим жиром, а кроме того, мне кажется, что он не менял рубашки с тех пор, как мы вышли из Фриско.
– Это так и есть, – подтвердил я.
– Готов биться об заклад, что он и спит в ней, – заметил Гаррисон.
– И не проиграете, – согласился я. – На нем все та же рубашка, которой он ни разу не снимал.
Но только три дня дал капитан повару на поправку от нанесенных побоев. На четвертый день его, хромающего и слабого, стащили за шиворот с койки и заставили приступить к его обязанностям. Глаза у Мэгриджа так распухли, что он почти не видел. Он хныкал и вздыхал, но Вольф Ларсен был неумолим.
– Смотри, не подавай больше помоев! – напутствовал он его. – Чтобы не было больше грязи! И хоть изредка надевай чистую рубашку, а то я тебя выкупаю. Понял?
Томас Мэгридж с трудом двигался по кухне и первый же крен «Призрака» заставил его пошатнуться. Стараясь удержать равновесие, он протянул руку к железным перилам, окружавшим плиту и не дававшим кастрюлям соскочить на пол. Но он промахнулся, и его рука тяжело шлепнулась на раскаленную поверхность. Раздалось шипение, потянуло запахом горелого мяса, а повар взвыл от боли.
– Боже мой! Боже мой! Что я наделал! – причитал он, усевшись на угольный ящик и размахивая своей злополучной рукой. – И почему это все на меня валится? Прямо тошно становится. А между тем, я ведь стараюсь прожить жизнь, никого не обижая.
Слезы бежали по его дряблым, бледным щекам, и на лице отражалась боль. Но сквозь нее проглядывала затаенная злоба.
– О, как я ненавижу его! Как я ненавижу его! – прошипел он.
– Кого это? – спросил я, но бедняга уже опять начал оплакивать свои несчастья. Впрочем, угадать, кого он ненавидит, было нетрудно; труднее было бы угадать, кого он любит. В этом человеке сидел какой-то бес, заставлявший его ненавидеть весь мир. Иногда мне казалось, что он ненавидит даже самого себя, так нелепо и бессмысленно сложилась его жизнь. В такие минуты у меня пробуждалось горячее сочувствие к нему, и мне становилось стыдно, что я мог радоваться его неприятностям и страданиям. Жизнь подло обошлась с ним. Она сыграла с ним скверную штуку, сделала его тем, чем он был, и не переставала издеваться над ним. Как мог он быть иным? И как будто в ответ на мои невысказанные мысли, он прохныкал:
– Мне всегда, всегда не везло. Некому было послать меня в школу, некому было наполнить мой голодный желудок или вытереть мой расквашенный нос, когда я был малым мальчонкой! Кто когда-либо заботился обо мне? Кто, спрашиваю я?
– Не огорчайтесь, Томми, – сказал я, успокаивающе кладя ему руку на плечо. – Подбодритесь. Все придет в порядок. У вас еще долгие годы впереди и вы успеете чего-нибудь достигнуть.
– Это ложь! Гнусная ложь! – заорал он мне в лицо, стряхивая мою руку. – Это ложь, и вы сами это знаете. Я уже достиг всего, чего мог. Такие рассуждения хороши для вас, Горб. Вы родились джентльменом. Вы никогда не знали, что значит быть голодным и засыпать голодным в слезах, когда ваш пустой желудок грызет вас, словно забравшаяся в вас крыса. Мне уж не выплыть. И если я завтра проснусь президентом Соединенных Штатов, то это разве насытит меня за то время, когда я бегал голодным щенком? И разве может быть иначе? Я родился для страдания. Я перенес их столько, что хватило бы на десятерых. Половину своей злосчастной жизни я провалялся по больницам. Я хворал лихорадкой в Аспинвале, в Гаванне, в Нью-Орлеане. Я чуть не умер от цинги и полгода мучился ею в Барбадосе. Оспа в Гонолулу. Перелом обеих ног в Шанхае. Воспаление легких в Эналяске. Три сломанных ребра во Фриско. А теперь! Взгляните на меня! Взгляните на меня! Мне снова поломали все ребра. И верно я буду харкать кровью. Кто же мне возместит все это, спрашиваю я. Кто это сделает? Бог что ли? Видно Бог здорово ненавидел меня, если послал гулять по этому проклятому миру.
Это возмущение против судьбы продолжалось больше часу, а потом он снова взялся за работу, хромая и охая, и дыша ненавистью против всего живущего. Его диагноз оказался правильным, так как время от времени ему становилось дурно, у него начиналась кровавая рвота, и он очень страдал. И видно, Бог действительно сильно возненавидел его, так как не дал ему умереть. Понемногу Мэгриджу стало лучше, он оправился и с тех пор стал еще злее прежнего.
Прошло несколько дней, прежде чем Джонсон выполз на палубу и кое-как взялся за работу. Он все еще был болен, и я нередко украдкой наблюдал, как он с трудом взбирается по вантам или устало наклоняется над штурвалом. Но хуже всего было то, что он совсем пал духом. Он пресмыкался перед Вольфом Ларсеном и перед штурманом. Но совсем иначе держал себя Лич. Он ходил по палубе с видом молодого тигренка и не скрывал своей ненависти к Вольфу Ларсену и Иогансену.
– Я еще разделаюсь с тобой, косолапый швед, – услыхал я как-то ночью на палубе его слова, обращенные к Иогансену.
Штурман послал ему ругательство в темноту, и в следующий миг что-то с силой ударилось о стенку кухни. Новая ругань, насмешливый хохот, и когда все стихло, я, выйдя на палубу, нашел тяжелый нож, на дюйм вонзившийся в плотную переборку. Через несколько минут к этому месту приблизился штурман, ощупью искавший нож, но я тайком вернул его Личу на следующее утро. Он только осклабился при этом, но в его улыбке было больше искренней благодарности, чем в многословных речах, свойственных представителям моего класса.
В противоположность остальным обитателям корабля, я ни с кем не был в ссоре и со всеми отлично ладил. Охотники относились ко мне равнодушно и, во всяком случае, не враждебно. Смок и Гендерсон, поправлявшиеся, качаясь весь день в своих гамаках под тентом, уверяли меня, что я лучше всякой больничной сиделки ухаживаю за ними, и что они не забудут меня, когда в конце плавания получат свои деньги. (Как будто мне нужны были их деньги! Я мог купить их со всеми их пожитками, мог купить всю шхуну, даже двадцать таких шхун.) Но на меня выпала задача ухаживать за их ранами и лечить их, и я делал все, что мог.
У Вольфа Ларсена снова был припадок головной боли, продолжавшийся два дня. Должно быть он жестоко страдал, так как позвал меня и подчинялся моим указаниям, как больной ребенок. Но ничто не помогало ему. По моему совету он бросил курить и пить. Я не понимал, как это великолепное животное могло страдать такими головными болями.
– Это Божья кара, уверяю вас, – высказался по этому поводу Луи. – Кара за его черные дела. И это еще не все, а то…
– А то что? – торопил его я.
– А то я скажу, что Бог клюет носом и не исполняет своего дела. Только помните, я ничего не сказал.
Я ошибался, говоря, что я в хороших отношениях со всеми. Томас Мэгридж не только по-прежнему ненавидит меня, но он нашел для своей ненависти новый повод. Я долго не знал, в чем дело, но наконец догадался: он не мог простить мне, что я родился в более счастливых условиях, родился «джентльменом», как он говорил.
– А покойников-то все еще нет, – поддразнивал я Луи, когда Смок и Гендерсон, дружески беседуя и держа друг друга под руку, в первый раз прогуливались по палубе.
Луи хитро поглядел на меня своими серыми глазками и зловеще покачал головой.
– Шквал налетит, говорю вам, и тогда берите все рифы и держитесь обеими руками. Я предчувствую это уже давно, шторм близок, и я ощущаю его так же ясно, как оснастку над своей головой в темную ночь. Шторм близок, близок!
– Кто же будет первым? – спросил я.
– Только не старый толстый Луи, обещаю вам, – рассмеялся он. – Я знаю, что через год в это время я буду глядеть в глаза моей старой матушке, уставшей ждать своих пятерых сыновей, которых она отдала морю.
– Что он говорил вам? – осведомился минутой позже Томас Мэгридж.
– Что он когда-нибудь съездит домой повидаться с матерью, – дипломатично ответил я.
– У меня никогда не было матери, – заявил повар, уставившись на меня своими унылыми, бесцветными глазами.