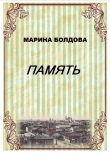Текст книги "Морской волк. Рассказы рыбачьего патруля "
Автор книги: Джек Лондон
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава VI
К следующему утру погода совсем утихла, и «Призрак» тихо покачивался на неподвижной глади океана. Иногда лишь в воздухе чувствовалось легкое дуновение, и капитан не покидал палубы, все время поглядывая на северо-восток, откуда должен был задуть пассат.
Весь экипаж был на палубе и занимался снаряжением лодок для предстоящей охоты. На борту было семь лодок: капитанская шлюпка и шесть лодок, предназначенных для охотников. Команда каждой из них состояла из охотника, гребца и рулевого. На борту шхуны экипаж состоял из гребцов и рулевых. Но вахтенную службу должны были нести и охотники, по усмотрению капитана.
Все эти подробности я знал. «Призрак» считается самой быстроходной шхуной в промысловом флоте Сан-Франциско и Виктории. Когда-то он был частной яхтой. Его линии и отделка – хотя я ничего не понимал в этих вещах – сами говорят за себя. Джонсон рассказал мне, что он знал об этой шхуне, во время вчерашней вахты. Он говорил с энтузиазмом и с такой любовью к хорошим кораблям, какую иные люди обнаруживают по отношению к лошадям. Он очень недоволен своим положением и дал мне понять, что Вольф Ларсен пользуется среди капитанов очень скверной репутацией. Только желание поплавать на «Призраке» соблазнило Джонсона подписать контракт, но он уже начинал об этом жалеть.
Как он сказал мне, «Призрак» – восьмидесятитонная шхуна великолепной конструкции. Ее ширина составляет двадцать три фута, а длина немного превышает девяносто футов. Чрезвычайно тяжелый свинцовый киль придает ей большую устойчивость, и она несет огромную парусную площадь. От палубы до клотика грот-мачты больше ста футов, тогда как фок-мачта футов на десять короче. Я привожу все эти подробности для того, чтобы можно было представить себе размеры этого плавучего мирка, несшего на себе двадцать два человека. Это крошечный мирок, пятнышко, точка, и я удивляюсь, как люди осмеливаются пускаться в море на таком маленьком и хрупком сооружении.
Вольф Ларсен, кроме того, известен своей неустрашимостью в плавании под парусами. Я слышал, как говорили об этом Гендерсон и один из охотников, калифорниец Стэндиш. Два года назад Ларсен потерял мачты на «Призраке» во время бури в Беринговом море, после чего и были поставлены теперешние, более крепкие и тяжелые. Когда их устанавливали, он заметил, что предпочитает перевернуться, чем снова потерять мачты.
Не было человека на борту, за исключением Иогансена, упоенного своим повышением, который не подыскивал бы оправдания своему поступлению на «Призрак». Половина экипажа говорила, что они ничего не знали ни о шхуне, ни о капитане, знакомые же с положением вещей шепотом говорили об охотниках, что это прекрасные стрелки, но такая сварливая и продувная компания, что ни одно приличное судно не согласилось бы их взять.
Я познакомился еще с одним матросом, по имени Луи; это был круглолицый и веселый ирландец, который рад был болтать без умолку, лишь бы его слушали. После обеда, когда повар спал внизу, а я чистил свою неизменную картошку, Луи зашел на кухню поболтать. Он свое пребывание на судне объяснял тем, что был пьян, когда подписывал условие, и без конца уверял меня, что ни за что не сделал бы этого в трезвом виде. Оказалось, что он уже лет десять каждый сезон регулярно выезжает бить тюленей и считается одним из лучших рулевых в обеих флотилиях.
– Эх, дружище, – мрачно покачивал он головой, – ведь это худшая шхуна, какую вы могли выбрать, а между тем вы не были пьяны, как я. Охота на котиков – это рай для моряка, но только на каком-нибудь другом судне. Штурман положил начало, но, помяните мои слова, у нас будут еще покойники, прежде чем кончится плавание. Между нами говоря, этот Вольф Ларсен настоящий дьявол, а «Призрак» покажет себя тем чертовым кораблем, каким он был с тех пор, как он ходит под этим капитаном. Разве я не знаю? Разве я не помню, как два года назад, в Хакодате, он выстроил на палубе весь экипаж и на глазах у всех застрелил четверых матросов? Разве я не был в то время на «Эмме Л.», стоявшей на якоре в трехстах ярдах оттуда? А в том же году он убил человека ударом кулака. Да, сэр, так и убил насмерть. Голова его разлетелась, как яичная скорлупа. А случай с губернатором острова Кура и начальником тамошней полиции – двумя японскими джентльменами, которые явились на борт «Призрака» в гости, со своими женами, хорошенькими маленькими созданьицами, какие рисуют на веерах? Когда пришло время сниматься с якоря, он спустил мужей с кормы в их сампан и, как будто случайно, не успел спустить их жен. И только неделей позже бедных маленьких леди высадили на берег с другой стороны острова, где им ничего не оставалось, как брести домой через горы, в своих непрочных соломенных сандалиях, которых не могло хватить и на одну милю. Разве я всего этого не знаю? Разве он не зверь, этот Вольф Ларсен – тот зверь, о котором упоминается в Апокалипсисе? И он добром не кончит… Но помните, я вам ничего не говорил. Я не шепнул вам ни словечка. Ибо старый, толстый Луи поклялся вернуться живым из этого плавания, если бы даже все остальные отправились на корм рыбам.
– Вольф Ларсен! – заворчал он минуту спустя. – Прислушайтесь к этому слову! Он волк, настоящий волк! Его нельзя назвать жестокосердым, так как у него и вовсе нет сердца. Волк, просто волк, вот и все! Не находите ли вы, что это имя пристало ему?
– Но если его так хорошо знают, – возразил я, – как же ему удается набрать себе экипаж?
– А как вообще находят людей для какой угодно работы? – с кельтской горячностью переспросил Луи. – Разве вы застали бы меня на борту, если бы я не был пьян, как свинья, когда подписывал свое имя?
– Часть наших матросов сами таковы, что не могут рассчитывать на лучшую компанию, чем эти охотники, а другие, бедняги, не знали, куда они поступают. Но им придется узнать это, и тогда они пожалеют, что родились на свет. Мне их жаль до слез, хотя я должен все-таки раньше подумать о толстом старом Луи и об ожидающих его бедах. Только молчок обо всем этом. Я вам не сказал ни слова.
– Эти охотники порядочная дрянь, – помолчав, заговорил он снова, так как отличался необычайной словоохотливостью. – Дайте срок, они еще покажут себя. Впрочем, Ларсен такой человек, что справится и с ними. Только он может нагнать на них страху. Вот, возьмите моего охотника Горнера – он такой мягкий, спокойный и вежливый, прямо мед на устах. А разве он не убил в прошлом году своего рулевого? Тогда объявили, что это был несчастный случай, но я встретил потом в Иокогаме гребца, который мне все выложил. А этот маленький черный проходимец Смок – разве русские не держали его три года в сибирских соляных копях за браконьерство на принадлежащем России острове Коппер? Он был скован нога с ногой и рука с рукой со своим товарищем. На работе что-то вышло между ними, и вот Смок отправил своего товарища из шахты наверх, в бадье с солью. Но посылал он его по частям: сегодня ногу, завтра руку, а послезавтра голову и т. д.
– Что вы говорите! – в ужасе вскричал я.
– Что я говорю? – мгновенно переспросил он. – Да я ничего не говорю. Я глух и нем, что и вам советую, если вам жизнь дорога. Если я беседовал с вами, то только для того, чтобы похвалить этого человека, черт побери его душу, и пусть он гниет в чистилище десять тысяч лет, а потом провалится на самое дно адово!
Джонсон, матрос, который чуть не содрал с меня кожу, когда я впервые попал на борт, казался наименее двуличным из всей команды на баке. В нем сразу был виден человек прямой. Он производил впечатление честности и мужественности, но в то же время был скромен почти до робости. Однако робким его все-таки нельзя было назвать. По-видимому, он был способен отстаивать свои убеждения и охранять свое достоинство. Это и побудило протестовать при нашем знакомстве против неверного произношения его имени. О нем Луи высказался следующим образом:
– Славный парень этот упрямец Джонсон, лучший матрос у нас на баке. Он – гребцом в моей лодке. Но с Вольфом Ларсеном у него дойдет до беды – полетят пух и перья. Я-то уж знаю! Я вижу, как готовится шторм. Я говорил с ним, как с братом, он не желает тушить свои фонари и обходить подальше буйки. Чуть что не по нем, он начинает ворчать, а на корабле всегда найдется доносчик, который передаст капитану. Волк силен, а волчья порода не терпит силы в других. Он видит, что Джонсон силен и что его не согнуть, что он не станет благодарить и кланяться в ответ на удар или ругательство. Эх, будет буря! Будет! И бог знает, где я возьму другого гребца. Лишь только капитан назовет его «Ионсон», этот дурак поправляет его: «Меня зовут Джонсон, сэр» и начнет выговаривать это буква за буквой. Вы бы видели при этом лицо нашего волка! Я думал, он уложит его на месте. Он этого не сделал до сих пор, но рано или поздно он сломит этого упрямца, или я мало смыслю в том, что делается на море.
Томас Мэгридж становится невыносим. Я должен величать его «мистер» и «сэр» при каждом слове. Одна из причин его наглости та, что Вольф Ларсен почему-то благоволит к нему. Вообще это неслыханная вещь, чтобы капитан дружил с поваром, но Вольф Ларсен, несомненно, делает это. Два или три раза он просовывал голову в кухню и благодушно болтал с Мэгриджем. А сегодня после обеда он целых четверть часа беседовал с ним у ступеней юта. После этого разговора Мэгридж вернулся на кухню, радостно ухмыляясь, и за работой напевал гнусавым, нервирующим фальцетом.
– Я всегда в дружбе с судовым начальством, – конфиденциальным тоном сообщил он мне. – Я умею себя поставить, и меня всюду ценят. Вот, хотя бы, мой последний капитан – я свободно заходил к нему в каюту поболтать и распить с ним стаканчик. «Мэгридж, – говорил он мне, – Мэгридж, а ведь вы ошиблись в своем призвании!» «А какое же это призвание?» – спросил я. «Вы должны были родиться джентльменом и никогда не жить своим трудом». Разрази меня на этом месте, если это не были его собственные слова! И я при этом сидел у себя дома, в его каюте, курил его сигары и пил его ром.
Эта болтовня доводила меня до исступления. Никогда человеческий голос не был мне так ненавистен. Масляный, вкрадчивый тон повара, его жирная улыбка, чудовищное самомнение так действовали мне на нервы, что я начинал весь дрожать. Это была, безусловно, самая омерзительная личность, которую я когда-либо встречал. Стряпал он среди неописуемой грязи, и я с большой осторожностью выбирал при еде наименее грязные куски.
Очень беспокоило меня состояние моих рук, не привыкших к грубой работе. Ногти потеряли свой цвет и почернели, а грязь так въелась в кожу, что ее нельзя было удалить даже щеткой. Потом на коже пошли болезненные пузыри, а один раз я сильно обжег себе руку, потеряв равновесие во время качки и ударившись о кухонную плиту. Колено мое тоже не поправлялось. Опухоль не опадала, и коленная чашка все еще была не на месте. Необходимость сновать по кораблю с утра до ночи не могла ускорить выздоровление. Мне необходим был покой, как важнейшее условие для поправки.
Покой! Раньше я не знал полного значения этого слова! Я отдыхал всю свою жизнь и не сознавал этого. Но теперь, если мне удавалось посидеть полчаса, ничего не делая и даже не думая, это казалось мне самым приятным состоянием на свете. Но с другой стороны, это было для меня откровением. Теперь я буду знать, как живет трудящийся люд. Я не знал, что работа так ужасна. С половины пятого утра и до десяти вечера, я – общий раб и не имею ни минуты для себя, кроме тех кратких мгновений, которые мне удается урвать в конце полуденной вахты. Стоит мне остановиться на миг полюбоваться сверкающим на солнце морем или посмотреть, как матрос взбирается на реи или бежит по буг-шприту, как тотчас за мной раздается ненавистный голос: «Пойдите сюда, Горб! Нечего там лодырничать!»
На баке замечаются признаки дурного настроения и ходят слухи, что между Смоком и Гендерсоном произошла драка. Гендерсон, видимо, не боится охотников. У него медлительная натура и его трудно раскачать, но, верно, его раскачали, потому что Смок ходит с распухшими глазами и за ужином глядит особенно свирепо.
Перед ужином я наблюдал жестокое зрелище, характеризующее грубость и черствость этих людей. Среди команды есть новичок по имени Гаррисон, неуклюжий деревенский парень, которого, вероятно, жажда приключений толкнула на это первое плавание. При слабом ветре шхуна плохо слушалась руля. В таких случаях паруса часто приходится менять и наверх посылают матроса перекинуть гафель марселя. Почему-то, когда Гаррисон был наверху, шкот защемило в блоке, через который он пропущен на конце гафеля. Насколько я понимаю, существовало два способа освободить его: спустить фок, что было сравнительно легко и не сопряжено с опасностью, или забраться по гафелю до самого его конца – предприятие весьма рискованное.
Иогансен приказал Гаррисону подняться по вантам. Всякому было ясно, что мальчишка трусит. Да и не мудрено испугаться, если нужно подняться на восемьдесят футов над палубой и доверить жизнь тонким, раскачивающимся канатам. При более ровном бризе опасность была бы не так велика, но «Призрак» покачивался, как пустая скорлупа, на длинных волнах и при каждом качании паруса хлопали и полоскались, а ванты то ослабевали, то снова натягивались. Они могли стряхнуть с себя человека, как кучер стряхивает муху с кнута.
Гаррисон расслышал приказ и понял, что от него требуют, но все еще мешкал. Быть может, ему первый раз в жизни приходилось карабкаться на снасти. Иогансен, успевший заразиться властным тоном Вольфа Ларсена, разразился градом ругательств.
– Будет, Иогансен, – оборвал его Ларсен. – Вы должны знать, что ругаться на корабле – это мое дело. Если мне понадобится ваша помощь, я вам скажу.
– Да, сэр, – покорно отозвался штурман.
В это время Гаррисон уже лез по вантам. Я выглядывал из кухонной двери и видел, как он весь дрожал, точно в лихорадке. Он подвигался вперед очень медленно и осторожно. Его фигура выделялась на ясной синеве неба и напоминала огромного паука, ползущего по нитям своей паутины.
По гафелю ему пришлось ползти несколько вверх. Окружавшие его снасти и блоки кое-где создавали опору для его рук и ног. Но вся беда была в том, что непостоянный ветер не удерживал паруса в одном положении. Когда парень был уже на полдороге, «Призрак» сильно покачнулся, сначала в наветренную сторону, а потом назад, в провал между двумя валами. Гаррисон остановился и крепко уцепился за гафель. Внизу, на восемьдесят футов под ним, я видел, как напряжены были его мускулы в мучительном старании удержаться. Парус повис пустой, и гафель повернулся на прямой угол. Гардели ослабли и, хотя все произошло очень быстро, я видел, как они прогнулись под весом тела Гаррисона. Потом гафель внезапно вернулся в прежнее положение, огромный парус загремел, как пушка, а три ряда риф-сезней захлопали по парусине, напоминая ружейную пальбу. Цеплявшийся за гардели Гаррисон совершил головокружительный полет. Но этот полет внезапно прекратился. Гардели мгновенно натянулись, и это был удар кнута, стряхивающий муху. Гаррисон не удержался. Одна рука отпустила канат, другая секунду еще цеплялась, но только секунду. Тело матроса перевернулось, но каким-то чудом ему удалось зацепиться ногами, и он повис головой вниз. Быстрым усилием он снова ухватился за гардели. Мало-помалу ему удалось восстановить прежнее положение, и он повис в вышине жалким комочком.
– У него, пожалуй, не будет аппетита к ужину, – услышал я голос Вольфа Ларсена, который подошел ко мне из-за угла кухни. – Не стойте под мачтой, Иогансен. Берегитесь! Сейчас свалится!
И действительно, Гаррисону было дурно, как будто он страдал морской болезнью. Он долго цеплялся за свою непрочную жердочку и не решался двинуться дальше. Но Иогансен не переставал подгонять его, требуя, чтобы он исполнил данное ему поручение.
– Стыд какой, – проворчал в это время Джонсон, с усилием выговаривая английские слова. Он стоял около вант в нескольких шагах от меня. – Мальчик ведь и так старается. Он научится, если ему дадут возможность. Но это…
Он остановился, так как не хотел выговорить слово «убийство».
– Тише, вы! – шепнул ему Луи. – Держите язык за зубами.
Но Джонсон не унимался и продолжал ворчать.
В это время с капитаном заговорил один из охотников, Стэндиш.
– Послушайте, – сказал он, – это мой гребец, и я не хочу потерять его.
– Ладно, Стэндиш, – последовал ответ. – Он ваш гребец, когда он у вас в лодке, но на борту – он мой матрос, и я могу сделать с ним, что мне заблагорассудится.
– Но ведь нет основания… – не успокаивался Стэндиш.
– Довольно, – огрызнулся Ларсен. – Я высказал вам свое мнение, и на этом покончим. Это мой человек, и я могу зажарить его и съесть, если мне захочется.
Злой огонек сверкнул в глазах охотника, но он повернулся на каблуках и отправился по палубе к трапу каюты, где он остановился и начал смотреть вверх. Все матросы были теперь на палубе, все глаза были обращены вверх, где человеческая жизнь боролась со смертью. Как поразительно бесчувственны те люди, которым современный промышленный строй предоставил власть над жизнью других. Я, живший всегда вне житейского водоворота, никогда не представлял себе, что работать приходится при подобных условиях. Жизнь всегда казалась мне чем-то высоко священным, но здесь ее не ставили ни во что, здесь она была просто цифрой в коммерческих счетах. Должен оговориться, что матросы, в общем, сочувствовали своему товарищу, как, например, тот же Джонсон; но начальники – охотники и капитан – проявляли полное бессердечие и равнодушие. Даже протест Стэндиша объяснялся лишь тем, что он не хотел потерять своего гребца. Будь это гребец с другой лодки, он отнесся бы к происшествию так же, как остальные, и оно только позабавило бы его.
Но вернемся к Гаррисону. Иогансену пришлось целых десять минут всячески ругать несчастного, чтобы заставить его тронуться с места. Вскоре он добрался до конца гафеля. Там он мог сидеть верхом и поэтому ему легче было держаться. Освободив шкот, он мог вернуться, опускаясь по уклону вдоль гардели к мачте. Но у него не хватило духу. Он не решался променять свое опасное положение на еще более опасный спуск.
Он поглядывал на воздушную дорожку, по которой ему надлежало пройти, и переводил взор на палубу. Глаза его были расширены, его сильно трясло. Мне никогда не случалось видеть столь ясного отражения страха на человеческом лице. Тщетно Иогансен звал его вниз. Каждую минуту его могло снести с гафеля, но он оцепенел от страха. Вольф Ларсен прогуливался по палубе, беседуя со Смоком, и больше не обращал внимания на Гаррисона, хотя раз он резко окрикнул рулевого:
– Не зевать на руле, дружище! Смотри, как бы тебе не влетело!
– Да, сэр, – ответил рулевой, повернув штурвал на несколько спиц.
Вина его состояла в том, что он несколько отклонил шхуну от ее курса, для того, чтобы слабый ветер мог все-таки надуть парус и удерживать его в одном положении. Этим он пытался помочь злополучному Гаррисону, рискуя навлечь на себя гнев Вольфа Ларсена.
Время шло, и ожидание становилось невыносимым. Однако Томас Мэгридж находил это происшествие очень смешным, и каждую минуту высовывал голову из кухонной двери, отпуская шутливые замечания. Как я ненавидел его! Моя ненависть за это ужасное время выросла до исполинских размеров. В первый раз в жизни я испытал желание убить. Я видел все красным, как образно выражается один из наших писателей. Жизнь, вообще, может быть священна, но жизнь Томаса Мэгриджа представлялась мне чем-то презренным и нечистым. Я испугался, когда почувствовал жажду убийства, и в моей голове промелькнула мысль: неужели я настолько заразился грубостью окружающей меня обстановки? – я, который даже при самых вопиющих преступлениях отрицал справедливость и допустимость смертной казни?
Прошло целых полчаса, а затем я увидел Джонсона и Луи, погруженными в какой-то спор. Он окончился тем, что Джонсон стряхнул с себя руку удерживавшего его Луи и куда-то пошел. Он пересек палубу, прыгнул на ванты и начал взбираться по ним. Это не ускользнуло от быстрого взора Вольфа Ларсена.
– Эй, куда ты там? – крикнул он.
Джонсон остановился. Глядя капитану в глаза, он медленно ответил:
– Я хочу снять мальчишку.
– Ступай сию минуту вниз! Слышишь? Вниз!
Джонсон медлил, но долгие годы послушания взяли в нем верх и, спустившись с мрачным видом на палубу, он ушел на бак.
В половине шестого я ушел вниз накрывать на стол, но я плохо сознавал, что делал, потому что перед моими глазами стоял образ бледного и дрожащего человечка, смешно, словно клоп, прилепившегося к качающемуся гафелю. В шесть часов, подавая обед и бегая через палубу на кухню за кушаньями, я видел Гаррисона; все в том же положении. Разговор за столом шел о чем-то постороннем. По-видимому, никого не интересовала эта потехи ради подвергнутая опасности жизнь. Однако несколько позже, лишний раз сбегав на кухню, я, к своей радости, увидел Гаррисона, который, шатаясь, брел от вант к каюте на баке. Он наконец набрался храбрости и спустился.
Чтобы покончить с этим случаем, я должен вкратце передать свой разговор с Вольфом Ларсеном, который заговорил со мной в каюте, в то время как я мыл посуду.
– У вас сегодня был что-то неважный вид, – начал он. – В чем дело?
Я видел, что он отлично знает, почему мне было почти так же худо, как Гаррисону, и ответил:
– Меня расстроило жестокое обращение с этим мальчиком.
Он усмехнулся.
– Нечто вроде морской болезни, не так ли? Одни подвержены ей, другие нет.
– Ну нет, – протестовал я.
– Совершенно одно и то же, – продолжал он. – Земля так же полна жестокостями, как море – движением. Иных тошнит от первой, других от второго. Вот и вся причина.
– Но вы, издевающийся над человеческой жизнью, разве вы не признаете за ней никакой цены? – спросил я.
– Цены? Какой цены? – он взглянул на меня и, несмотря на суровость, я прочел в его глазах затаенную усмешку. – О какой цене вы говорите? Как вы ее определите? Кто ценит жизнь?
– Я ценю, – ответил я.
– Как же вы ее цените? Я имею в виду чужую жизнь. Ну-ка скажите, сколько она стоит?
Цена жизни! Как мог я точно указать ее? Но я, привыкший ясно и свободно излагать свои мысли, в присутствии Ларсена не находил нужных слов. Впоследствии я объяснял себе это воздействием его сильной личности, но главная причина была в полной противоположности наших точек зрения. В отличие от других встреченных мною материалистов, с которыми я всегда находил общий язык, здесь между нами не было абсолютно ничего общего. Быть может, он поражал меня стихийной простотой своего ума. Он всегда приступал к самой сути дела, отбрасывал все ненужные детали и говорил с такой решительностью, что я тотчас терял почву под ногами. Цена жизни! Как мог я тут же на месте ответить на этот вопрос? Что жизнь священна – я принимал как аксиому. Что она бесконечно ценна, было истиной, которую я никогда не подвергал сомнению. Но когда это сомнение высказывал он, я терялся.
– Мы с вами беседовали вчера, – сказал он. – Я сравнивал жизнь с закваской, с дрожжевым грибком, который пожирает жизнь, чтобы жить самому, и говорил, что жизнь просто преуспевающее свинство. Если смотреть с точки зрения спроса и предложения, то жизнь самая дешевая вещь на свете. Количество воды, земли и воздуха ограничено, но жизнь, которая может быть рождена, безгранична. Природа расточительна. Возьмите рыб с миллионами зерен икры. Подумайте о себе и обо мне. В нас тоже заложены возможности миллионов жизней. Если бы мы имели время и случай использовать каждую частицу содержащейся в нас нерожденной жизни, мы могли бы стать отцами народов и населить целые материки. Жизнь? Пустое! Она ничего не стоит. Из всех дешевых вещей она самая дешевая. Природа рассыпает ее щедрой рукой. Где есть место для одной жизни, там она сеет тысячи, и везде жизнь пожирает жизнь, пока не остается лишь самая сильная и свинская.
– Вы читали Дарвина, – заметил я. – Но вы плохо поняли его, если думаете, что борьба за существование оправдывает произвольное разрушение вами жизней.
Он пожал плечами.
– Вы, очевидно, говорите лишь о человеческой жизни, так как зверей, птиц и рыб вы уничтожаете не меньше, чем я или любой другой человек. А между тем с человеческой жизнью дело обстоит точно так же, хотя вы и смотрите на нее иначе. Зачем мне беречь эту жизнь, раз она так дешева? Матросов больше, чем кораблей на море для них, и рабочих больше, чем хватает для них фабрик и машин. Вы, живущие на суше, отлично знаете, что, сколько бы вы ни поселили бедняков в городских трущобах и сколько из них ни умерло бы от голода и эпидемий, их остается все больше и больше, они умирают, не имея корки хлеба и куска мяса (то есть той же разрушенной жизни), и вы не знаете, что с ними делать. Видели вы когда-нибудь, как лондонские грузчики дерутся, словно дикие звери, из-за возможности получить работу?
Он направился к трапу, но повернул голову, чтобы сказать что-то напоследок.
– Знаете ли, единственная цена жизни это та, которую она дает себе сама. И, конечно, жизнь преувеличивает свою цену, так как она неизбежно пристрастна в свою пользу. Возьмите этого матроса, которого я держал на реях. Он цеплялся там, как будто он был чем-то необычайно драгоценным, сокровищем дороже бриллиантов или рубинов. Для вас? Нет. Для меня? Ничуть. Для самого себя? Да. Но я не признаю его оценки, он жестоко переоценивает себя. Бесчисленные новые жизни ждут своего рождения. Если бы он упал и разбрызгал свои мозги по палубе, словно мед из сотов, мир от этого ничего не потерял бы. Он не имел для мира никакой цены. Предложение слишком велико. Только для себя он имел цену и, чтобы показать, как обманчива такая оценка, я укажу вам на то, что мертвый он не сознавал бы, что он потерял себя. Он один ставил себя выше бриллиантов и рубинов. Бриллианты и рубины пропадут, рассыплются по палубе, и их смоют ведром морской воды, а он даже не будет знать об их исчезновении. Он ничего не теряет, так как с потерей самого себя он утрачивает и сознание потери. Теперь вы видите? Что же вы имеете сказать?
– Что вы, по крайней мере, последовательны, – ответил я.
Это было все, что я мог сказать, и я снова занялся мытьем тарелок.