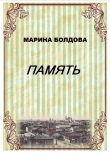Текст книги "Морской волк. Рассказы рыбачьего патруля "
Автор книги: Джек Лондон
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Похороны на море представлялись мне всегда торжественным и внушающим благоговение событием, но эти похороны быстро разочаровали меня. Один из охотников, темноглазый маленький человечек, которого товарищи называли Смоком, рассказывал анекдоты, щедро сдобренные бранными и непристойными словами. Каждую минуту группа охотников разражалась хохотом, который напоминал мне хор волков или лай адских псов. Матросы, стуча сапогами, собрались на корме. Свободные от вахты и спавшие внизу протирали глаза и тихонько переговаривались. На их лицах было мрачное и озабоченное выражение. Очевидно, им мало улыбалось путешествие с таким капитаном, начавшееся к тому же при таких неблагоприятных предзнаменованиях. От времени до времени они украдкой поглядывали на Вольфа Ларсена, и я видел, что они его побаиваются.
Капитан подошел к доске, и все обнажили головы. Я присматривался к ним – их было всего двадцать человек, или двадцать два, считая рулевого и меня самого. Мое любопытство было извинительно, так как мне, по-видимому, предстояло на долгие недели или месяцы быть запертым с этими людьми в этом миниатюрном плавучем мире. Матросы, большею частью, были англичане и скандинавы, с тяжелыми, неподвижными лицами. С другой стороны, лица охотников, изборожденные следами игры необузданных страстей были более энергичны и разнообразны. Странно сказать, но я сразу же заметил, что в чертах Вольфа Ларсена не было ничего порочного. На его лице тоже были глубокие борозды, но это были линии решимости и силы воли. Его лицо скорее казалось дружелюбным и откровенным, и это впечатление усиливалось благодаря тому, что он был гладко выбрит. Мне трудно было поверить – до ближайшего нового случая, – что это лицо того самого человека, который так обошелся с юнгой.
В тот миг, когда он открыл рот, чтобы заговорить, резкий порыв ветра налетел на шхуну и сильно накренил ее. Ветер свистел и пел в снастях. Некоторые из охотников тревожно поглядывали вверх. Подветренный борт, у которого лежал покойник, зарылся в море, и когда шхуна выпрямилась, вода перекатилась через палубу, обдав всем нам ноги до щиколотки. Внезапный ливень обрушился на нас, и каждая капля колола, как градом. Когда шквал пронесло, Вольф Ларсен заговорил:
– Я помню только часть похоронной службы, – сказал он. – Она гласит: «И останки да будут опущены в воду». Так вот и опустите их.
Он умолк. Люди, державшие доску, были смущены; видимо, краткость церемонии озадачивала их. Но капитан яростно накинулся на них:
– Поднимайте с этого конца, черт вас подери! Какого дьявола вы еще возитесь?
Конец доски был поспешно поднят, и мертвый человек, словно выброшенная за борт собака, ногами вперед, соскользнул в море. Уголь, привязанный к ногам, потянул его вниз. Он исчез.
– Иогансен, – бодрым голосом обратился капитан к новому штурману, – раз уж все наверху, ты и оставь их здесь. Уберите марселя. Нас ожидает зюд-ост. Возьмите-ка кстати рифы у кливера и грота.
В миг все на палубе пришло в движение. Иогансен выкрикивал слова команды, матросы тянули и травили всевозможные канаты, и все это было совершенно непонятно для меня, сухопутного человека. Но меня особенно поразило проявленное этими людьми бессердечие. Смерть человека была для них мелким эпизодом, который канул в воду вместе с зашитым в холст трупом и мешком угля, а корабль продолжал свой путь, и работа шла своим чередом. Никто не был огорчен. Охотники смеялись над каким-то свежим анекдотом Смока. Люди натягивали снасти, а двое полезли на мачту. Вольф Ларсен всматривался в облачное небо с наветренной стороны. А мертвец, позорно умерший, безобразно похороненный, уходил все дальше и дальше в глубину…
Тогда мне вдруг стала ясна жестокость и неумолимость моря. Жизнь показалась дешевой и мишурной забавой, чем-то диким и бессмысленным, каким-то бездушным метанием среди всяческой грязи. Я держался за перила и смотрел через пустынные, пенящиеся волны на стлавшийся туман, скрывавший Сан-Франциско и калифорнийский берег. Дождевые шквалы налетали между мной и этим туманом, скрывая от меня даже его. А это странное судно, с его ужасным капитаном, кланяясь и приседая, скользило на запад, в широкие и пустынные просторы Тихого океана.
Глава IV
Мои старания приспособиться к новой обстановке охотничьей шхуны «Призрак» сопровождались для меня бесконечными страданиями и унижениями. Мэгридж, которого экипаж почему-то называл «доктором», охотники – «Томми», а капитан – поваром, стал теперь совсем другим человеком. Перемена в моем положении побудила и его совершенно иначе относиться ко мне. Насколько угодливо и заискивающе он держался раньше, настолько же властный и враждебный тон он принял теперь. Действительно, я больше не был изящным джентльменом, с кожей нежной, как у «леди», а стал обыкновенным и довольно бестолковым юнгой.
Он нелепо требовал, чтобы я называл его «мистером Мэгридж» и был невыносимо груб, когда объяснял мне мои обязанности. Помимо работы в кают-компании с примыкавшими к ней четырьмя маленькими спальнями, я должен был помогать ему на кухне, и мое полное невежество в области чистки картофеля и мытья грязных горшков служило для него неиссякаемым источником саркастического изумления. Он отказывался принять во внимание, чем я был, или вернее, ту обстановку жизни, к которой я привык. Это было частью принятой им по отношению ко мне позиции; и я признаюсь, что прежде, чем окончился день, я уже ненавидел повара сильнее, чем кого бы то ни было в своей жизни.
Этот первый день был для меня тем труднее, что «Призрак», «имея все рифы взятыми» (с подобными терминами я познакомился лишь впоследствии), нырял в волнах, которые посылал на нас ревущий зюд-ост. В половине пятого я, под руководством мистера Мэгриджа, накрыл стол в кают-компании, установив предварительно решетку для бурной погоды, а затем начал приносить из кухни чай и кушанья. По этому поводу я не могу не рассказать о своем первом близком знакомстве с бурным морем.
– Глядите в оба, а то смоет, – напутствовал меня мистер Мэгридж, когда я покидал кухню с огромным чайником в одной руке и с несколькими караваями свежеиспеченного хлеба под мышкой другой. Один из охотников, долговязый парень, по имени Гендерсон, направлялся в это время в каюту. Вольф Ларсен курил на юте свою неизменную сигару.
– Идет, идет! Держись! – закричал повар.
Я остановился, так как не понимал, что собственно «идет», и видел, как дверь кухни захлопнулась за мной. Потом я увидел, как Гендерсон, словно сумасшедший, бросился к вантам и полез по ним с внутренней стороны, пока не очутился на несколько футов над моей головой. Потом я увидел гигантскую волну, с пенистым хребтом, высоко вздымавшуюся над бортом. Я стоял как раз на ее пути. Мой мозг работал медленно, потому что все было для меня ново и странно. Я только чувствовал, что мне грозит опасность. В ужасе я оцепенел на месте. Тут Ларсен крикнул мне с юта.
– Держитесь за что-нибудь, Горб!
Но было уже поздно. Я прыгнул к снастям, за которые я мог бы уцепиться, но был встречен опускающейся стеной воды. Мне трудно сообразить, что произошло потом. Я был под водой, задыхался и тонул. Мои ноги ушли из-под меня, и я кувырком куда-то полетел. Несколько раз я натыкался на твердые предметы и жестоко ушиб правое колено. Потом волна вдруг отхлынула, и я снова мог перевести дух. Меня отнесло к кухне и дальше по проходу, к подветренному борту. Боль в колене была невыносима. Я не мог стоять на этой ноге или, по крайней мере, мне так казалось. Я был уверен, что она у меня сломана. Но повар уже кричал мне из кухни:
– Эй, вы! Долго ли мне вас ждать? Где чайник? Уронили за борт? Не жаль было бы, если бы вы сломали себе шею.
Я сделал попытку встать на ноги. Чайник был все еще у меня в руке. Я проковылял в кухню и отдал его повару. Но Мэгридж кипел негодованием – настоящим или притворным.
– Растяпа же вы, я вам скажу. Ну куда вы годитесь, хотел бы я знать? А? Куда вы годитесь? Не можете чай донести, не расплескав. Теперь мне придется заваривать новый.
– Ну, чего вы тут сопите? – через минуту с новой яростью набросился он на меня. – Ножку ушибли? Ах вы, маменькин сынок!
Я не сопел, но лицо у меня было искажено болью. Собрав всю свою решимость и стиснув зубы, я заковылял от кухни до каюты и обратно, без дальнейших инцидентов. Этот случай имел для меня двоякие последствия: ушибленную коленную чашку, которая, без надлежащего ухода, заставила меня страдать много месяцев, и прозвище «Горба», которым наградил меня с юта Вольф Ларсен. С тех пор все на шхуне иначе и не называли меня, пока я настолько не привык к этому, как если бы это было моим именем с первого дня моей жизни.
Нелегко было прислуживать за столом кают-компании, где восседали Вольф Ларсен, Иогансен и шестеро охотников. Начать с того, что каюта была мала, и двигаться по ней было тем труднее, что шхуну качало и кидало во все стороны. Но что было мне особенно тяжело, это полное равнодушие ко мне со стороны обслуживаемых мною людей. Я чувствовал, как под платьем у меня все более и более распухает колено, и от боли у меня кружилась голова. В зеркале на стене каюты я видел свое бескровное искаженное болью лицо. Все сидевшие за столом должны были видеть мое состояние, но никто из них не сказал мне ни слова. Поэтому я был почти благодарен Ларсену, когда, застав меня после обеда за мытьем тарелок, он бросил мне:
– Не обращайте внимания на такие пустяки. Со временем вы привыкнете. Вас, может бытъ, немного скрючит, но все-таки вы научитесь ходить.
– Вы назвали бы это парадоксом, не правда ли? – добавил он.
По-видимому он остался доволен, когда я утвердительно кивнул и ответил обычным: «Да, сэр».
– Вы, кажется, кое-что смыслите в литературе? Ладно. Я как-нибудь побеседую с вами.
С этими словами он повернулся и вышел на палубу. Когда вечером я справился со своей бесконечной работой, меня послали спать на кубрик, где для меня нашлась свободная койка. Я был рад лечь и уйти хоть на время от несносного повара. К моему удивлению, платье высохло на мне, и я не замечал ни малейших признаков простуды от последнего купанья, ни от продолжительного пребывания в воде после катастрофы с «Мартинецом». При обычных обстоятельствах, после всего испытанного мною, мне пришлось бы лежать в постели и пользоваться уходом сиделки.
Но колено очень беспокоило меня. Мне казалось, что коленная чашка сместилась под давлением опухоли. Я сидел на своей койке и рассматривал колено (все шесть охотников помещались тут же: все они курили и громко разговаривали), когда мимо прошел Гендерсон и мельком взглянул на меня.
– Выглядит неважно, – заметил он. – Обвяжите тряпкой, тогда пройдет.
Это было все; а будь это на суше, я бы лежал в постели, и надо мной склонялся бы хирург, который уговаривал бы меня отдыхать и ни в коем случае не шевелиться. Но я должен быть справедливым к этим людям. С таким же бесчувствием они относились и к своим собственным страданиям. Я объясняю это, прежде всего, привычкой, а во-вторых, тем, что их организм действительно менее чувствителен. Я вполне убежден, что хрупкий и нервный человек страдает в подобных случаях несравненно сильнее.
Несмотря на мое утомление и, можно сказать, полное изнеможение, боль в колене не давала мне уснуть. Я с трудом удерживался от стонов. Дома я, наверное, дал бы исход своей боли, но эта новая, стихийно-грубая обстановка невольно внушала мне необыкновенную сдержанность. Подобно дикарям, эти люда стоически относились к серьезным вещам, а в мелочах напоминали детей. Во время дальнейшего путешествия мне пришлось видеть, как Керфуту, одному из охотников, раздробило палец, и он не только не издал ни звука, но даже не изменился в лице. И тем не менее я неоднократно видел, как тот же Керфут приходил в бешенство из-за пустяков.
Так вот, и теперь он орал, вопил, размахивал руками и ругался – все по поводу спора с другим охотником о том, инстинктивно ли научается тюлений детеныш плавать. Он утверждал, что это уменье является с первой же минуты появления маленького тюленя на свет. Другой же охотник, Лэтимер, тощий янки, с хитрыми, узко прорезанными глазками, полагал, напротив, что тюлень потому именно рождается на суше, что не умеет плавать, и, конечно, матери приходится учить его плавать, как птицы учат своих детенышей летать.
Остальные четыре охотника сидели, облокотившись на стол, или лежали на своих койках, прислушиваясь к спору, который очень интересовал их, и временами вступая в него. Иногда они начинали говорить все сразу и голоса их наполняли гулом тесную каюту, точно раскаты бутафорского грома. Насколько детской и несерьезной была тема, настолько же детским и несерьезным был их способ спорить. Собственно говоря, они не приводили никаких аргументов и ограничивались голословными утверждениями и отрицаниями. Они доказывали уменье или неуменье новорожденного тюленя плавать, просто высказывая свое мнение с воинственным видом и сопровождая его выпадами против здравого смысла, национальности или прошлого своего противника. Я рассказал это, чтобы показать умственный уровень людей, с которыми я принужден был общаться. Интеллектуально они были детьми, будучи взрослыми физически.
Они курили непрестанно, курили грубый и зловонный дешевый табак. Воздух был наполнен тяжелым дымом. Этот дым и сильная качка боровшегося с бурей судна могли бы довести меня до морской болезни, если бы я был подвержен ей. Во всяком случае, я чувствовал себя скверно, хотя причиной испытываемой мною тошноты могли быть и боль в ноге или утомление.
Лежа на койке и предаваясь своим мыслям, я, конечно, особенно задумывался над своим настоящим положением. Это было неслыханное дело, чтобы я, Гэмфри ван-Вейден, ученый и любитель искусства и литературы, принужден был валяться здесь, на какой-то шхуне, направлявшейся в Берингово море бить котиков. Юнга! Я никогда в жизни не делал грубой физической, а тем более кухонной, работы. Я всегда вел тихий, монотонный, сидячий образ жизни – жизнь ученого, затворника, существующего на приличный и обеспеченный доход. Житейская суета и спорт никогда не привлекали меня. Я всегда был книжным червем. Мои сестры и отец с детства называли меня так. Я только раз в жизни принял участие в экскурсии, да и то сбежал с самого начала и вернулся к комфорту и удобствам оседлой жизни. И вот передо мной теперь открывалась печальная перспектива бесконечного накрывания столов, чистки картофеля и мытья посуды. А ведь я совсем не был силен. Доктора всегда говорили, что я замечательно сложен, но я никогда не развивал своего тела упражнениями. Мои мускулы были слабы, как у женщины, по крайней мере, доктора постоянно указывали на это, когда пытались убедить меня заняться гимнастикой. Но я предпочитал упражнять голову, а не тело. И вот, теперь я был совсем не приспособлен для предстоявшей мне тяжелой жизни.
Я привожу лишь немногие из приходивших мне тогда в голову мыслей и делаю это для того, чтобы заранее оправдать себя в той слабой и беспомощной роли, какую мне суждено было играть.
Думал я также о моей матери и сестрах, и представлял себе их горе. Я был одним из пропавших после катастрофы с «Мартинецом», меня, несомненно, причислили к ненайденным трупам. Я мысленно видел заголовки газет, видел, как мои приятели в университетском клубе покачивают головами и говорят: «Вот, бедняга!». Видел я также и Чарли Фэрасета в минуту прощания, в то роковое утро, когда он полулежал в халате, на мягком диванчике под окном, и изрекал пророческие, пессимистические эпиграммы.
А в это время шхуна «Призрак», раскачиваясь, ныряя, взбираясь на движущиеся горы и проваливаясь в бурлящие пропасти, прокладывала себе путь в самое сердце Тихого океана… и уносила меня с собой. Я слышал свист ветра в снастях. Он доходил до моего слуха, как заглушённый рев. Иногда над головою раздавался шум шагов. Кругом все стонало и скрипело, деревянные части и соединения кряхтели, визжали и жаловались на тысячу ладов. Охотники все еще спорили и бушевали, словно какие-то человекообразные земноводные. Ругань висела в воздухе. Я видел их разгоряченные и раздраженные лица в искажающем тускло-желтом свете ламп, раскачивавшихся вместе с кораблем. Сквозь облака дыма койки казались логовищами диких животных. Клеенчатые плащи и морские сапоги висели по стенам; там и сям на полках лежали винтовки и дробовики. Это напоминало боевое снаряжение морских разбойников былых времен. Мое воображение разыгралось и не давало мне уснуть. Это была долгая, долгая утомительная и тоскливая ночь.
Глава V
Эта первая ночь в каюте охотников была также и последней. На другой день новый штурман Иогансен был изгнан из каюты капитана и переселен в каюту к охотникам. Поэтому и я перебрался в маленькую каюту, в которой уже было двое обитателей. Охотники быстро узнали причину этой перемены и остались ею очень недовольны. Оказалось, что Иогансен каждую ночь во сне переживает все свои дневные впечатления. Вольф Ларсен не мог перенести его непрестанной болтовни и командных окриков, и поэтому предпочел переложить эту неприятность на охотников.
После бессонной ночи я встал слабый и измученный. Томас Мэгридж поднял меня в половине шестого, с такой грубостью, с какой не будят даже собаку. Но за эту грубость он тут же был награжден с лихвой. Поднятый им без всякой надобности шум – я всю ночь не смыкал глаз – разбудил кого-то из охотников; тяжелый башмак просвистел сквозь тьму, и мистер Мэгридж, взвыв от боли, начал извиваться во все стороны. Потом, в кухне, я увидел его окровавленное и распухшее ухо. Оно никогда не вернулось к своей нормальной форме, и моряки прозвали его «капустным листом».
День был для меня полон неприятностей. Я взял из кухни свое высохшее за ночь платье и первым делом поспешил сбросить с себя вещи повара. Потом я посмотрел, на месте ли мой кошелек. Кроме мелочи (у меня хорошая память) там лежало сто восемьдесят пять долларов золотом и бумажками. Кошелек я нашел, но его содержимое, за исключением мелкого серебра, исчезло. Я заявил об этом повару, когда вышел на палубу, чтобы приняться за работу, и хотя и ожидал кислого ответа, я тем не менее был захвачен врасплох обрушившимся на меня воинственным красноречием.
– Вот что, Горб, – хриплым голосом начал он, злобно сверкая глазами. – Вы верно хотите, чтобы вам прищемили нос? Если вы считаете меня вором, то держите это про себя, а то вам придется пожалеть о своей ошибке. Вот какова ваша благодарность! Я подобрал вас в самом жалком виде, взял к себе на кухню, возился с вами, и вот что я получаю взамен. Другой раз можете отправляться к черту, у меня руки чешутся показать вам дорогу.
Продолжая кричать, он с кулаками двинулся на меня. К своему стыду, я должен признаться, что увернулся от удара и выскочил из кухни. Что мне было делать? Сила, грубая сила, царила на этом подлом судне. Мораль была здесь неизвестна. Вообразите себе человека среднего роста, худощавого, со слабыми, неразвитыми мускулами, привыкшего к тихой и мирной жизни, незнакомого с насилием, – что мог тут поделать такой человек? Вступать в драку с озверевшим поваром имело не больше смысла, чем сражаться с разъяренным быком.
Так думал я в ту минуту, испытывая потребность в самооправдании и желая примириться со своей совестью. Но такое оправдание не удовлетворило меня. Мне и до сих пор стыдно вспоминать об этом случае. С точки зрения строгой логики мне абсолютно нечего стыдиться. И все-таки стыд каждый раз охватывает меня при воспоминании об этом, и я чувствую, что моя мужская гордость была попрана и оскорблена.
Однако тогда мне было не до рассуждений. Я удирал из кухни с такой поспешностью, что почувствовал жестокую боль в колене и должен был присесть у лестницы, ведущей на ют. Но повар не преследовал меня.
– Глядите на него! Ишь, как улепетывает! – услышал я его смех. – А еще с хромой ногой! Иди назад, бедный маменькин сынок. Я тебя не трону, не бойся!
Я вернулся и снова взялся за работу. На этом инцидент временно закончился, хотя впоследствии он еще имел продолжение. Я накрыл в каюте к завтраку и в семь часов подал его. Буря за ночь улеглась, хотя волнение было все еще сильное и дул свежий ветер. Во время ранней вахты были подняты паруса, и «Призрак» мчался под всеми парусами, кроме двух марселей и трепыхавшегося кливера. Как я понял из разговора, эти три паруса тоже предположено было поднять сейчас же после завтрака. Я узнал также, что Вольф Ларсен старается использовать этот шторм, который гнал его на юго-запад в ту часть океана, где он надеялся застать северо-восточный пассат. Под этим постоянным ветром он рассчитывал пройти большую часть пути до Японии, спустившись на юг в тропики, а затем повернув опять на север, при приближении к берегам Азии.
После завтрака меня ожидало новое незавидное приключение. Покончив с мытьем посуды, я выгреб из печки в каюте золу и вынес ее на палубу, чтобы выбросить за борт. Вольф Ларсен и Гендерсон оживленно беседовали у штурвала. Матрос Джонсон стоял на руле. Когда я двинулся к наветренному борту, он мотнул головой, что я принял за утреннее приветствие. В действительности же он пытался предостеречь меня, чтобы я не выбрасывал золу у этого борта. Ничего не подозревая, я прошел мимо Вольфа Ларсена и охотника и сбросил золу за борт, против ветра. Ветер подхватил ее, отнес назад на шхуну и осыпал ею не только меня, но и капитана с Гендерсоном. В тот же миг Ларсен ударил меня, и с такой силой, что я обезумел от боли. Отскочив, я прислонился к стене каюты, в полусознательном состоянии. Все плыло у меня перед глазами, и меня тошнило. Чувствуя приступ рвоты я сделал усилие и подполз к борту. Но Вольф Ларсен уже забыл обо мне. Стряхнув золу с платья, он возобновил разговор с Гендерсоном. Иогансен, наблюдавший все это с юта, послал двух матросов прибрать палубу.
Немного позже в то же утро я столкнулся с неожиданностью совсем другого свойства. Следуя указаниям повара, я отправился в капитанскую каюту, чтобы прибрать ее. На стене, у изголовья койки, находилась полка с книгами. Я просмотрел их и с удивлением прочел имена Шекспира, Теннисона, Эдгара По и Де-Куинси. Были там также и научные книги, среди которых я нашел труды Тиндаля, Проктора и Дарвина. Были представлены также астрономия и физика, и я заметил «Сказочный век» Бэльфинча, «Историю английской и американской литературы» Шоу и «Естественную историю» Джонсона в двух больших томах. Было там также несколько грамматик – Меткальфа, Рида и Келлога. Я улыбнулся, увидев экземпляр «Английского языка для проповедников». Я не мог примирить эти книги с характером их владельца и сомневался, способен ли он читать их. Но когда я стелил постель, из-под одеяла выпал томик Броунинга, очевидно читанный перед самым сном. Он был открыт на стихотворении «На балконе», и я заметил, что некоторые места подчеркнуты карандашом. Между страницами лежала бумажка, испещренная геометрическими фигурами и какими-то выкладками.
Очевидно было, что этот ужасный человек совсем не такой неуч, как можно было предположить по его грубым выходкам. Он сразу стал для меня загадкой. Та и другая сторона его натуры были вполне понятны, но совокупность их представлялась нелепой. Я уже заметил, что он говорит прекрасным языком, в котором лишь изредка проскальзывали небольшие неточности. В обычном разговоре с матросами и охотниками он позволял себе множество ошибок, свойственных морскому жаргону. Но в тех немногих случаях, когда он обращался ко мне, его речь была ясна и правильна.
Узнав его теперь случайно с другой стороны, я осмелел и решился сказать ему о пропавших у меня деньгах.
– Меня обокрали, – обратился я к нему, застав его немного позже на юте, где он прогуливался один.
– Сэр, – поправил он меня, без грубости, но внушительно.
– Меня обокрали, сэр, – повторил я.
– Как это случилось? – спросил он.
Тогда я рассказал ему все, как было – как я оставил платье в кухне для просушки и как потом меня чуть не избил повар, когда я заикнулся ему о пропаже.
Вольф Ларсен улыбнулся моему рассказу.
– Это пожива повара, – решил он. – Не думаете ли вы, что ваша жалкая жизнь все-таки стоит этой цены? Кроме того, это для вас урок. Вы понемногу научитесь сами заботиться о своих деньгах. До сих пор, вероятно, это делал за вас ваш поверенный или управляющий.
Я почувствовал насмешку в этих словах, но спросил:
– Как мне получить их назад?
– Это ваше дело. Здесь у вас нет ни поверенного, ни управляющего, и вам приходится полагаться на самого себя. Если вам перепадет доллар, держите его крепко. Человек, у которого деньги валяются где попало, заслуживает того, чтобы потерять их. Кроме того, вы еще согрешили. Вы не имеете права искушать ваших ближних. Вы искусили повара, и он пал. Вы подвергли опасности его бессмертную душу. Кстати, верите ли вы в бессмертие души?
При этом вопросе веки его медленно поднялись, и мне показалось, что я заглянул в таинственную глубину его души. Но это была иллюзия. Я убежден, что ни один человек не заглянул на самое дно души Вольфа Ларсена. Как я постепенно узнал, это была душа одинокая, всегда скрытая под маской и лишь изредка слегка приподнимавшая ее.
– Я читаю бессмертие в ваших глазах, – ответил я и, для опыта, пропустил «сэр», так как считал, что это оправдывается интимностью разговора.
Ларсен не обратил на это внимания.
– Я полагаю, что вы видите в них нечто живое, но это не значит, что это «нечто» будет жить вечно.
– Я читаю в них больше, – смело продолжал я.
– Тогда вы читаете в них сознание. Сознание жизни; но вы не можете видеть дальше. Вы не можете видеть бесконечность жизни.
Как ясно он мыслил и как хорошо выражал свои мысли! Он отвернулся от меня и устремил взор на свинцовое море. Глаза его стали непроницаемыми, и у рта обозначились резкие, твердые линии. Очевидно, он был настроен мрачно.
– Для чего же мне бессмертие? – отрывисто спросил он, повернувшись ко мне.
Я молчал. Как было мне объяснить этому человеку мой идеализм? Как было передать словами неопределенное чувство, похожее на звуки музыки, слышимой во сне, их чувство, убедительное для меня, но не поддающееся выражению?
– Во что же вы тогда верите? – вопросом ответил я.
– Я верю, что жизнь – борьба, – быстро ответил он. – Она похожа на закваску, которая бродит минутами, часами, годами или столетиями, но рано или поздно успокоится. Большие пожирают малых, чтобы продолжать двигаться. Сильные пожирают слабых, чтобы сохранять свою силу. Кому везет, тот ест больше всех и двигается дольше всех, – вот и все! Как вы на это смотрите?
Он нетерпеливым жестом показал на группу матросов, которые возились с канатами посреди палубы.
– Они движутся, как движутся медузы. Движутся для того, чтобы есть, и едят для того, чтобы продолжать двигаться. Вот и вся штука. Они живут для своего брюха, а брюхо существует для их благополучия. Это круг, из которого некуда вырваться. Это им и не удается. В конце концов они останавливаются. Они больше не двигаются. Они мертвы.
– У них есть мечты, – прервал я, – сверкающие, лучезарные мечты…
– О жратве, – лаконически закончил он.
– И еще…
– И еще о жратве. О большем аппетите и о большей удаче в удовлетворении его.
Его голос звучал резко. В нем не было и намека на шутливость.
– Вы посмотрите: они мечтают об удачных плаваниях, которые дали бы им больше денег, мечтают о том, чтобы стать владельцами кораблей или найти клады – короче говоря, о том, чтобы занять более выгодную позицию и высасывать соки из своих ближних, чтобы всю ночь спать под крышей, хорошо питаться и иметь слугу для грязной работы. Мы с вами такие же. Разницы нет, кроме той, что мы едим больше и лучше. Сейчас я ем их и вас тоже. Но в прошлом вы ели больше моего. Вы спали в мягких постелях, носили тонкое платье и ели вкусные блюда. Кто сделал эти постели, и эти платья, и эти блюда? Не вы. Вы ничего не сделали своими руками. Вы живете с доходов, созданных вашим отцом. Вы похожи на альбатроса, бросающегося с высоты на бакланов и похищающего у них пойманную ими рыбу. Вы один из толпы, создавшей то, что называется «государством», из толпы людей, властвующих над всеми остальными и съедающих пищу, которую те добыли и сами не прочь бы съесть. Вы одеваетесь в теплую одежду. Они сделали материю для нее, но сами они дрожат в лохмотьях и вымаливают работу у вас, вашего поверенного или управляющего, заведывающего вашими деньгами.
– Но это совсем другой вопрос! – воскликнул я.
– Вовсе нет! – Капитан говорил быстро, и его глаза сверкали. – Это свинство и это… жизнь. Какой же смысл в бессмертии свинства? К чему это все идет? Зачем все это нужно? Вы не создали пищи, а между тем пища, съеденная или выброшенная вами, могла бы спасти жизнь десяткам несчастных, которые создали эту пищу, но не ели ее. Какого бессмертия заслужили вы? Или они? Подумайте о нас с вами. Чего стоит ваше хваленое бессмертие, если ваша жизнь столкнулась с моей? Вам хочется назад, на сушу, так как там благоприятная обстановка для вашего рода свинства. По своему капризу я держу вас на борту этой шхуны, где процветает мое свинство. И я вас не отпущу. Я или сломлю вас, или сделаю из вас человека. Вы можете умереть здесь сегодня, через неделю, через месяц. Я мог бы одним ударом кулака убить вас, так как вы жалкий червяк. Но если вы бессмертны, то какой в этом смысл? Вести себя всю жизнь по-свински – неужели это подходящее занятие для бессмертных? Так для чего же все? Почему я держу вас тут?
– Потому, что вы сильнее, – выпалил я.
– Но почему же сильнее? – не унимался он со своими вопросами. – Потому что во мне больше этой закваски, чем в вас. Неужели вы не понимаете? Неужели не понимаете?
– Но ведь это очень безнадежный взгляд, – протестовал я.
– Я согласен с вами, – ответил он. – Зачем же вообще двигаться, если движение – это вся жизнь? Если не двигаться и не быть частью жизненной закваски, то не будет и безнадежности. Однако – и в этом все дело, – мы хотим жить и двигаться, хотя и не имеем для этого основания, хотим, потому что это в природе жизни и движения. Без этого жизнь умерла бы. Только благодаря сидящей в вас жизни вы и мечтаете о бессмертии. Жизнь внутри вас жива и стремится жить вечно. Эх! Вечность свинства!
Он круто повернулся на каблуках и ушел от меня. Остановившись у ступенек юта, он позвал меня.
– Кстати, на сколько обчистил вас повар? – спросил он.
– На сто восемьдесят пять долларов, сэр, – ответил я.
Он кивнул мне. Минутой позже, когда я спускался накрывать на стол к обеду, я услыхал, как он громко ругал матросов на юте.